Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Болезни в Петербурге или болезни Петербурга?
Изображение Петербурга в литературе и публицистике XIX века меньше всего
напоминает город-курорт. Картины физических и психологических недугов,
разъедающих жизнь петербуржцев, наполняют страницы многочисленных произведений, появившихся вслед за петербургскими повестями Н. В. Гоголя
и Ф. М. Достоевского, — «физиологий» И. И. Панаева, Н. Г. Помяловского,
А. И. Левитова, П. Н. Горского, авантюрно-фельетонной прозы Е. Ковалевского, В. В. Крестовского, Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой и др. Вспоминая о годах, проведенных в этом городе, Ф. Ф. Вигель воскликнет: «И что за жизнь моя
была, о боже! Почти вся она протекла среди болот Петрограда, где воздух физически столь же заразителен, как нравственно. Сколько нужд перенес я в сем городе! Как постоянно рвался я из него!»[1]
Еще Карамзин в своей записке «О Древней и Новой России» (1810) вопреки
панегирическому официозу, изображавшему Петербург новообретенным парадизом[2], писал о гиблом местоположении города, обреченного на «бедность, уныние, болезни». Аргументы Карамзина, равно как старинное пророчество о гибели Петербурга и сопоставление двух столиц не в пользу города, построенного
на болоте ценой жизни «миллиона народу», — все это позднее вошло в устойчивый культурный обиход.
Между тем представление о болезнетворности Петербурга, ставшее фольклорным стереотипом, прижилось далеко не сразу. Вплоть до середины XIX века
официальная точка зрения на медико-топографическое положение и гигиенические условия Петербурга составляет контраст оппозиционному умонастроению
литераторов и публицистов. Тексты, отражающие позицию официальных органов власти, рисуют картину всеобщей гармонии: не только власти и общества, но
также культуры, идеологии и самой природы. Счастье подданных под сенью власти безгранично: благонамеренность и благонравие населения отражают благотворность природно-климатических условий России вообще и российской северной столицы в особенности. Характерно, что даже опыт страшных холерных
эпидемий, поразивших Москву и Петербург в 1830—1832 годах, не только не изменил официальной позиции, но даже укрепил ее дополнительными доводами,
согласно которым и все прочие болезни, подобно эпидемическим, имеют будто
бы неместное происхождение. «Вообще воздух в России не вредный, — пишет,
например, автор изданного в 1837 году путеводителя по России для юношества
Владимир Бурнашев (псевдоним — В. Бурьянов), — и во всех частях нашего отечества можно встретить примеры чрезвычайной долговечности. Кавказия и Таврида лишь подвержены некоторым, в самом воздухе существующим болезням,
именуемым эпидемическими, которые очень сильно действуют в особенности
на особ приезжающих с севера»[3]. Опираясь на сохранившиеся медико-топографические описания российской столицы, можно попытаться внести порядок
в эту разноголосицу мнений, скорректировать «жизнеподобные» литературные
описания социальной реальности того времени и проследить процесс типизации
общественных представлений о Петербурге.

Первое такое описание принадлежит иностранцу — швейцарскому врачу Генриху Людвигу Аттенгоферу (1783—1856), работавшему в Санкт-Петербурге
с 1808 по 1815 год[4]. С историко-медицинской точки зрения, труд Аттенгофера,
вышедший первым изданием в 1817 году в Цюрихе на немецком языке[5], а затем — в 1820 году в Петербурге в русском переводе[6], не только стал для читателяврача первым руководством, суммирующим разрозненные наблюдения о наиболее распространенных в Петербурге болезнях и особенностях их лечения,
но и положил начало целому ряду аналогичных сочинений о других российских
городах. Нельзя не заметить, однако, что книга Аттенгофера, чьим намерением,
согласно предисловию, было написать сочинение, предназначенное «для
С. Петербургских медиков и не медиков, для жителей природных и иностранцев» («Даже и на дамском столике, — надеется он, — книга сия могла бы иметь место»), являет собой типичный пример риторической двусмысленности, затрудняющей объективную оценку российской столицы. Немецкоязычное издание своей работы Аттенгофер посвящает Александру I. Автор не устает напоминать, что
Петербург — не просто город, заслуживающий «занять место между новыми чудесами мира, между редкостями века и его духа», но столица, «никогда не оскверненная рукою чуждого завоевателя». Отсюда, из Петербурга, «низшел Александр,
возвративший вселенной, томившейся во бранях, дни мира и блаженства». Можно думать, что именно эти комплименты сыграли решающую роль в том, что
перевод труда Аттенгофера и его издание в России были разрешены цензурой,
хотя эта книга далеко не во всем соответствовала цензурным требованиям конца 1810-х годов[7]. Панегирическое славословие в адрес Александра и Петербурга
контрастирует с пристальной наблюдательностью швейцарского врача, с его вниманием к непривлекательным сторонам городской действительности, особенно
к жизни городской бедноты: «Почти невероятно, каким образом в комнате, имеющей в окружности едва 12 футов, живут <...> теснясь от 8 до 10 человек, из числа коих половина взрослых, а половина детей». «Я часто сам, — признается автор, — не мог пробыть десяти минут в таковых грязных, подземных и как нельзя
более сырых покоях, не почувствовав некоторой тошноты». Многие петербургские дома поражают Аттенгофера своей ветхостью, антисанитарией и вонью
(«во многих, а особливо деревянных домах, нужники сделаны так, что очень легко найти их можно; ибо ужасная вонь предваряет уже существование оных»).
Вместе с тем наблюдательность медика сочетается у Аттенгофера с известной
«политкорректностью» в изображении российской столицы, что придает его тексту любопытную противоречивость. Излюбленный у автора прием аргументации — позитивная «парадоксализация» очевидного. Так, например, не замалчивая плачевного положения бедняков, Аттенгофер тут же подчеркивает:
«Непонятнее всего, что люди сии при всем том несколько лет сряду бывают здоровы», и далее: «непостижимо... каким образом люди сии <...> нередко достигают необыкновенной [для] Южной Германии старости, и притом многие из них
никогда не бывают больны». Восставая против обычая русских пользоваться при
родах ребенка услугами невежественных повивальных бабок, он замечает: «однако же редко услышишь, чтобы россиянка умерла от родов». Констатируя недостаток надлежащего присмотра за детьми в России, швейцарский врач делает оговорку: «невзирая на то, дети у русских несравненно реже бывают больны, нежели
у жителей иностранного происхождения». При всех недостатках быта и правильного родовспоможения у каждой тысячи россиянок почему-то родится только
восемь мертвых детей, а у иностранок — 25. Даже рассуждение о, казалось бы,
очевидном вреде печного угара, весьма обычного в петербургских домах, завершается замечанием, что тот же угар безвреден для природного россиянина.

Описывая простонародные увеселения петербуржцев, Аттенгофер говорит
о столпотворении в кабаках, о повальном пьянстве тех, кто «отягощен бедностью» или «удручен жестокостью господина», но тут же находит аргументы в защиту пресловутой склонности русских к пьянству: «климат, а равно образ жизни
делают ее извинительною», причем — несмотря на общепризнанный вред горячительных напитков — сам автор замечает, что знал природных русских, «достигших уже глубокой старости, кои с молодых лет выпивают каждый день от 6 до 8 рюмок водки, не делаясь пьяными и даже хмельными, и отправляют при
том дела свои с надлежащей исправностью и расторопностью». Да и вообще, восклицает Аттенгофер, поминая неких «малоизвестных» писателей, осуждающих
русских за пьянство: «Как можно запретить народу употребление любимого его
напитка, полученного в наследство от отцов своих и по привычке сделавшегося
для него необходимым, и совершенно свойственного нравам его и климату,
не лишив его физической силы»? Впрочем, и сами эти писатели, уверен Аттенгофер, «верно не отказались бы от рюмки водки».
Петербург, куда «из всех частей света стекаются изгнанники, злополучные
у себя на родине, предприимчивые сребролюбцы, сметливые искатели и рыцари
счастья», представляет собой в описании Аттенгофера город-гибрид, где на каждом шагу «встречаешься с легким сангвиником галлом и задумчивым меланхоликом британцем; тут видишь чувствительного холерика-итальянца, а там холодного флегматика немца». Суммарный образ Петербурга и петербуржцев
оказывается при этом трудноуловимым, но в этой неуловимости есть своя логика, апеллирующая к парадоксам «русской натуры» и «русской психологии». Как
любая европейская столица, Петербург не чужд недостатков и пороков больших
городов — дороговизны, неумеренности в питье и пище, коварства, зависти, растущей нищеты, тесноты и т. д. «Но в каком большом городе, — тут же оговаривается Аттенгофер, — бедный не ограничивает себя тесным жилищем?» При этом,
несмотря на все тяготы столичной жизни, в Петербурге, как выясняется, редки
самоубийства и детоубийства. Как и в любом большом городе, в российской столице отмечается уменьшение количества браков — вследствие «своевольного холостого житья», легкости средств «к удовлетворению чувственных побуждений»,
женской расточительности, а также немалого числа «злополучных, кои от тайных
грехов юности или от <...> неумеренного вкушения из ядоносной чаши Цитеры
чувствуют себя истощенными и уклоняются от жертвенника Гименеева». Нет
в Петербурге и «недостатка в жрицах, посвященных службе Пафосской», но, как
выясняется, и здесь российская столица на высоте, — местные проститутки, по
наблюдению Аттенгофера, «менее наглы и своевольны, нежели в других больших
городах», так что «тот всегда останется от них безопасным, кто только желает
быть таковым», — что, надо думать, недостижимо в других европейских
столицах.
Примеры такого рода можно множить, но вывод при этом существенно не изменится: на всякий тезис у Аттенгофера есть свой антитезис, причем аксиология
стоящих за ними наблюдений варьирует от медицины до социальных порядков.
Известно, пишет Аттенгофер, что Петербург «давно <...> почитается обителью
всякого рода болезней» — и здесь же настаивает, что «пребывание в Петербурге
не только не расстраивает здоровье, но даже оному благоприятствует». Не менее
удивительным в его книге оказывается и раздел, посвященный собственно болезням. В ряду наиболее частых болезней и «телесных недостатков», встречающихся в Петербурге, называется геморрой, плоские глисты, порча зубов, облысение, золотуха, лом в костях, ипохондрия и апоплексия. Этиология всех этих
недугов в описании Аттенгофера столь же загадочна, сколь непредсказуема натура самих русских аборигенов. Заявляя, к примеру, о том, что геморрой («обыкновенное зло больших городов») встречается в Петербурге едва ли не у трех взрослых из четырех, и перечисляя способствующие ему обстоятельства («недостаток
телесного движения», «неумеренное употребление чаю и кофе», «частое употребление мяса без приправы зеленью», «обыкновение принимать проносные <...>
средства», парные бани, теплые жилища, тесное платье и т. д.), Аттенгофер уже в следующем абзаце отмечает, что все «помянутые причины бывают и в других
местах, однако болезнь сия [там] не встречается». Рассуждение о причинах появления плоских глистов, которыми, по мнению Аттенгофера, страдает каждый
двадцатый человек в Петербурге, дополняется личными впечатлениями, опровергающими медицинское утверждение о болезнетворности невской воды
и чрезмерного потребления рыбы. Столь же ненадежны методы лечения от глистов: «иногда помогает то, иногда другое»; «неизвестно ни одно средство, на которое можно положиться».
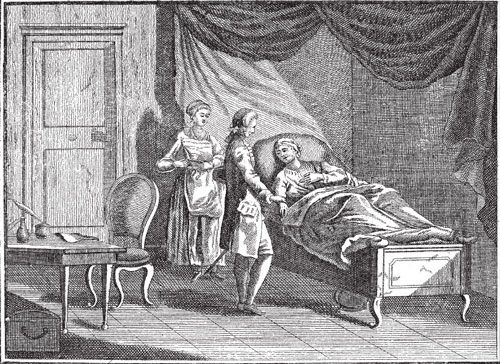
Порча зубов и облысение не более объяснимы в описании Аттенгофера, чем
заболевание глистами. «Здесь увидишь не только беззубых старушек, — замечает
Аттенгофер, — но и беззубых молодых дам». Что же касается облысения, то в Петербурге, по мнению автора, плешивых — не только стариков, но и молодых людей — больше, чем в любом другом городе («Девятнадцатилетние юноши встречаются в сем городе с обнаженным теменем»). Любопытно, что, описывая эти
и другие недуги, Аттенгофер не слишком щедр на собственно медицинские советы (о чем, впрочем, заранее предупреждает читателя, предваряя описание петербургских болезней заявлением, что он не станет «входить в способ [их] лечения»,
поскольку пишет «не для одних врачей»), но зато не чуждается своего рода социологических обобщений. Так, выясняется, что порча зубов чаще поражает женщин, а облысение — мужчин. Глухота «наиболее приключается <...> людям высших званий» (может быть, потому, предполагает автор, что им чаще приходится
простаивать в прохладных передних и беспрестанно обнажать голову), а ипохондрия «чаще господствует над учеными». Истолкование ипохондрии не лишено
при этом беллетристических обертонов: «Есть много и таких, которые желают
быть ипохондриками, поелику ипохондрия в моде. Другие не хотят казаться ипохондриками, хотя они действительно в ипохондрии». Причины ипохондрии,
по Аттенгоферу, следует искать в «расслаблении нерв от преждевременного и неумеренного наслаждения жизнью, от угнетающих душу чувствований и сильного
напряжения ума». «Я уверен, — пишет швейцарский врач далее, — что длинные
зимние ночи, воспоминания иностранцев о южном отечестве, обманутые надежды долго питаемые превратили в ипохондриков многих людей, не имевших прежде ни малейших следов сей болезни».
В целом описание Петербурга, его жителей и их болезней вызывают у читателя больше вопросов, чем дают ответов. Созвучие медицинской профессии пафосу общественного служения не вызывает сегодня большого удивления, но
для начала XIX века совмещение социальных ролей ученого медика и общественного деятеля было еще достаточно непривычным. Времена Рудольфа Вирхова и Николая Пирогова еще не наступили. Аттенгофер, однако, стремится выступить именно в подобной роли, не скупясь на советы не столько
медицинского, сколько общественного и педагогического свойства. В каждой
из семи глав его книги, помимо пространных отступлений на темы быта, обычаев и нравов русских петербуржцев, содержатся различные предложения
о воспитании детей, призрении неимущих, а также организации или переустройства медицинско-полицейских служб. Рекомендации Аттенгофера простираются достаточно далеко — от предложений, каким образом увеличить количество браков, до цензуры театральных пьес, в выборе которых, по его мнению,
«также должна иметь свой голос» медицинская полиция. Забота о физическом
здоровье при этом созвучна заботе о нравственности: в один ряд становится
борьба с онанизмом (в осуждении которого швейцарский врач не только дает
медицинские рекомендации, но и воспроизводит моральную дидактику своего
знаменитого соотечественника Самюэля-Августа (Андре-Давида) Тиссо)[8], осуждение танцев (в особенности — вальса, опасного не только для тела, но и для
души) и порицание «проклятой моды», заставляющей женщин носить полупрозрачные одежды, а мужчин — панталоны, «натянутые с оскорблением благопристойности».

Для западноевропейских современников Аттенгофера «взаимоналожение»
медицинской, морально-этической и общественно-политической дидактики не
было особой новостью. «Медико-политические» аналогии, равно как истоки самой политической теории, восходя к античности, приобретают особый вес в риторике эпохи Просвещения. Достаточно напомнить о Руссо, в произведениях которого здоровое общество уподобляется здоровому человеку, но по этой же
причине индивид, как частица этого общества, не является самостоятельным
субъектом: он — член политического тела (member de corps politique). Естественные права, которые дарованы человеку от природы и объединяют его с другими
людьми — членами коллектива, являются поэтому также не индивидуальными,
но общественными и потому оправдывают общественную диктатуру. В эпоху
Французской революции соотнесение медицинских и социологических понятий
предстает уже дискурсивно оформленным, связывая здоровье пациента со здоровьем общества, а опыт врача — с призванием политического деятеля. В России
такое соотнесение становится привычным позднее, хотя уже в 1820-е годы стало
принято определять явления государственного и общественно-политического
порядка заимствованным из европейских языков медицинским понятием «организм», в этом же русле происходит переосмысление понятия «кризис», первоначально употреблявшееся только в сфере медицины, но к 1830-м годам получившее общественно-политическое значение[9]. Иллюстрации из области медицины,
анатомии, физиологии, репрезентирующие телесность, используются в качестве
продуктивного источника эстетических, философско-этических и политических
метафор. Дело литератора, критика, публициста — объяснить читателю жизнь
общественного «организма» и радеть о сохранении его «здоровья». Сама возможность медицинских обобщений применительно к общественной жизни служит
отныне исключительно удобным приемом, позволяющим редуцировать индивидуальные различия к социологическим и, вслед за тем, художественным характеристикам.
В данном контексте труду Аттенгофера было уготовано, как это представляется в ретроспективе, именно то прочтение, к которому он, по-видимому, и стремился — в большей степени литературно-социологическое, в меньшей — собственно
медицинское. В появившемся на рубеже 1830—1840-х годов «Описании Санкт-Петербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии» (1839—1842) Ивана Пушкарева рассуждения о болезнях прямо основываются на наблюдениях и даже риторике Аттенгофера, но о самом Аттенгофере не упоминается ни одним словом. Не
упоминается о нем и в немецкоязычном «Медико-топографическом очерке СанктПетербурга» 1844 года, составленном Максимилианом Хайне (чью фамилию можно было бы транслитерировать и как Гейне ввиду того, что ее носитель был младшим братом Генриха Гейне). В этом игнорировании есть своя логика: то, что
казалось не слишком отвечающим научному стандарту двадцатых годов, еще менее
отвечает таковому стандарту в 1840-е годы. В то же время те места, где Хайне мимоходом затрагивает социальные вопросы (спеша оговориться, что это не его задача), заставляют думать, что он читал работу своего предшественника[10]. В еще большей степени это относится к Пушкареву, склонному, в отличие от Хайне,
преимущественно к социологической интерпретации медицинских свидетельств.
Основываясь, по собственному признанию, «на наблюдениях опытнейших медиков» (но фактически следуя, иногда почти дословно, за Аттенгофером), Пушкарев
перечисляет наиболее распространенные в Петербурге болезни, повсюду, где это
возможно, обращая внимание на их возможную социальную подоплеку. В описании геморроя указывается, к примеру, что «простолюдину, добывающему себе кусок хлеба тягостною работою, вовсе неизвестна эта болезнь». Соответствующим
выглядит и средство от геморроя — это «воздержание» и «прогулка пешком». От тифа и апоплексии, напротив, чаще страдают простолюдины: в первом случае в качестве причины заболевания называется сырость, теснота помещений и недостаток
питательной здоровой пищи, во втором — неумеренная преданность «Бахусу, карточной игре и Венере». Менее «сословны» зубная боль, плоские глисты и воспаления глаз. Основные причины в этих случаях объясняются, опять же вслед за Аттенгофером, климатом и географическим местоположением Петербурга — близостью
моря, дурной водой, летней пылью, но и Пушкарев не удерживается от утрированной беллетризации, достигающей своего апогея в описании ипохондрии и сифилиса: «Воспоминание о родине, сердечные утраты, обманутые надежды, так долго услаждавшие нас, и разочарование в наслаждениях удовольствиями жизни превращают в ипохондриков людей, прежде не показывавших ни малейших следов сей
болезни, которая при геморроидальных припадках еще более усиливается». Что же
касается сифилиса, то его распространению в Петербурге способствуют «необузданные молодость, своеволие страстей и ничем не удовлетворяемая жажда женщин
к корысти», причем «сифилитическая болезнь вкралась прежде в круг богачей, не
служащих сластолюбцев, а немного времени спустя разлилась во всех состояниях,
разрушая физическое и нравственное благосостояние целых семейств»[11]. Так из
медицинской статистики, органистических аналогий, общественно-политической
дидактики и, наконец, беллетристических претензий рождается традиция литературных «физиологий» Петербурга.
[1] Вигель Ф. Ф. Записки / Ред. и вступ. ст. С. Я. Штрайха. М., 1928. Т. 1. С. 147.
[2] Nicolosi R. Die Petersburg-Panegyrik. Russische Stadtliteratur im 18. Jahrhundert. Frankfurt am Main
et al., 2002.
[3] Бурьянов В. Прогулка с детьми по России. Ч. 1. СПб., 1837. С. 9.
[4] Об Аттенгофере: Scalabrin H.-R. Heinrich Ludwig Attenhofer. Zurich, 1983.
[5] Attenhofer L. Medizinische Topographie der Haupt -und Residenzstadt St. Petersburg. Zurich, 1817.
[6] Медико-топографическое описание Санкт-Петербурга, главного и столичного города
Российской империи. СПб., 1820.
[7] Ср.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700—1863). СПб., 1892. С. 122
и след.
[8] Laquer T. W. Solitary Sex. A Cultural History of Masturbation. New York: Zone Books, 2003.
P. 192—213.
[9] Веселитский В. В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой
трети XIX века. М., 1964. С. 93.
[10] «Поставь мы перед собою задачу выявить источники нищеты, множащейся
безнравственности, необузданных страстей и житейских горестей, царящих во всякое время
в больших и многонаселенных городах, то, к сожалению, стало бы слишком ясно, почему
именно столицы прибавляют к населению страны так много несчастливых и нездоровых
людей» (Heine M. Medicinisch-Topographische Skizze von St. Petersburg. St. Petersburg, 1844.
S. 72).
[11] Занятно, что в 1826 году Бенкендорф, цензурировавший пушкинского «Фауста», запретил
само упоминание о сифилисе, не допустив к публикации строчки: «Да модная болезнь: она /
Недавно вам подарена» (Скабичевский А. М. Указ. соч. С. 256).
