Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Аграрные реформы в России и на Украине: сравнительный анализ
Во многих исследованиях, посвященных современным аграрным реформам в России и на Украине, акцент смещается или на развитие новых форм собственности,
или на поверхностный характер приватизации в сельскохозяйственном секторе
экономики: соответственно авторы либо приходят к заключению, что изменилось
все в российских и украинских селах, либо — что не изменилось ничего. В первом
случае нам обычно говорят о десятках миллионов частных землевладельцев, которые явились вдруг, как грибы после дождя. А во втором — что реформа была косметической, просто смена вывесок, и реорганизация коллективных и государственных
хозяйств — это только упражнение в таксономии. Оба эти внешне противоречащих
друг другу заявления правильны, но оба они упускают из виду важные аспекты изменений, которые произошли и продолжают происходить в постсоветской деревне.
Утверждение, что долгожданный черный передел — это fait accompli[1], имеющий величайшее значение, и все, что остается сделать для завершения вовлечения деревни в рыночную экономику, — это окончательно превратить землю в товар, разрешив ее свободную куплю-продажу, отражает взгляд на вещи,
характерный для столицы. Противоположное заявление, что аграрная реформа
внесла мало изменений в производственные отношения, отражает главным образом несоответствие между первоначальными ожиданиями реформаторов и реальностью. Несмотря на то что постсоветское село претерпело значительные изменения, формальные права собственности не совпадают с их реальным
распределением. Эта статья посвящена вопросу о том, что конкретно означала
для производителей в России и на Украине реализация новых правовых систем
собственности и как эти новые права повлияли на участие производителей
в рыночной экономике. Она также описывает механизмы прямого влияния
социальных и макроэкономических условий на то, что является по сути дела политическим процессом: на перераспределение земли. Кроме того, цель этой статьи — связать абстрактные политэкономические рассуждения с конкретными
взглядами людей, которые испытали на себе наибольшее воздействие реформ.
Автор основывается на научных наблюдениях, сделанных в ходе более чем
двухлетних исследований в двух регионах черноземной зоны: в Воронежской
и Харьковской областях[2]. Хотя такое исследование не дает возможности сделать общие выводы, касающиеся аграрной реформы во всей России и Украине (во многих отношениях Харьковская и Воронежская области более похожи друг
на друга, чем на другие регионы своих стран), опыт, приобретенный в этих двух
регионах, может тем не менее помочь нам понять некоторые важные черты изменений, произошедших в аграрной сфере, на всем постсоветском пространстве. В частности, сравнение двух разделенных государственной границей регионов с относительно схожими типами почвы (чернозем), этническим составом
населения, институциональной инфраструктурой и демографическим профилем может прояснить важнейшие вопросы, связанные с трудностями реализации в России и на Украине различных программ экономических реформ. Это
исследование обнаруживает некоторые различия между ходом аграрной реформы и ее результатами в России и на Украине, но указывает также и на многочисленные сходства, которые в конечном итоге наводят на мысль, что некоторые
отрицательные результаты реформы появились, возможно, не столько в силу
местных специфических особенностей, сколько по вине самих программ реформ.
Процесс реформ
В определенном отношении программы аграрной реформы в Российской Федерации и на Украине были сходны по содержанию и сталкивались с похожими
политическими и материальными трудностями. В обеих странах основными механизмами аграрных перемен стали реорганизация колхозов и совхозов и создание частных фермерских хозяйств. В то же время общий контекст, в котором осуществлялись аграрные реформы, в этих двух странах различался — особенно
в последовательности и продолжительности макроэкономических и политических реформ. На Украине правительство Леонида Кравчука первоначально
избрало программу постепенной экономической реформы, считая, что необходимо преобразовать политическую систему, прежде чем обращаться к реформированию экономики. Только в середине 1990-х годов Украина приняла программу структурных экономических реформ. В России же, наоборот, знаменитая
политика «шоковой терапии» начала проводиться буквально через несколько недель после распада Советского Союза, еще до того, как были решены большинство конституционных и институциональных вопросов.
Влияние контекстных различий оказалось незначительным. Много писали
о разнице между постепенными реформами, получившими наименование «китайской модели», и ускоренными структурными преобразованиями, известными под именем «шоковой терапии»[3]. В постсоветском аграрном обществе оба
подхода дали поразительно схожие результаты. Ни в том, ни в другом случае течение макроэкономических перемен в конечном итоге не повлияло на формальное распределение прав собственности на сельскохозяйственную землю; в обоих случаях, о чем подробнее речь пойдет ниже, макроэкономическое окружение
жестко урезало сельским жителям все возможности воспользоваться своими
правами.
И в России, и на Украине почти все 1990-е годы земли фермерских (крестьянских) хозяйств составляли менее пяти процентов сельскохозяйственных земель[4]. После первоначального периода роста числа этих хозяйств, которому способствовали государственная поддержка частного сектора и гиперинфляция
(которая сильно упрощала возвращение кредитов и погашение долгов), поток
людей, желающих создать частные сельскохозяйственные предприятия, значительно сократился. Сельские жители сталкивались с отсутствием кредитов, которые можно было бы взять на приемлемых условиях, дисбалансом в ценах, который делал сельскохозяйственное производство не только невыгодным,
но и вообще трудноосуществимым, и множеством других факторов, препятствующих осмысленному перераспределению земли. В реорганизованных сельскохозяйственных коллективах и в России, и на Украине распределялись документы,
подтверждающие право владеть землей, но в большинстве случаев не было никаких возможностей использовать эту землю иначе, как сдав ее обратно в аренду
колхозу на условиях, гораздо менее выгодных, чем те преимущества, которые люди получали от колхозов в последние годы советского периода.

Также и структура «реформированного» сельскохозяйственного производства претерпела в России и на Украине похожие изменения. Личные подсобные хозяйства составляли все бoльшую часть в производстве сельскохозяйственной
продукции, и, несмотря на значительное снижение объемов колхозных урожаев, основным источником отечественной сельскохозяйственной продукции оставались именно коллективные, а не фермерские хозяйства. К середине девяностых
годов и в России, и на Украине стало понятно, что джефферсоновской мечте реформаторов о стране фермеров уже не суждено реализоваться. С такой же ясностью обнаружилось, что столпами постсоветского сельского хозяйства станут, несмотря на все их недостатки и испытываемые ими трудности, наследники
колхозов и совхозов.
Почему в Воронежской и Харьковской областях аграрная реформа дала похожие результаты, несмотря на все различие контекстов, в которых она осуществлялась? Отчасти ответом на этот вопрос может быть политика проведения реформы на
местном уровне. Логика реформы, в том виде, как ее представляло законодательство и комментировали представители государства в Киеве и Москве, была видимо
простой: частная собственность на средства производства поведет к более эффективному использованию трудовых и материальных ресурсов. Широкое распространение частных сельскохозяйственных предприятий преследовало и вспомогательную цель, примерно ту же, что и реформы, проведенные при Столыпине в начале
века: сельский средний класс, сформированный этой новой категорией собственников и производителей, должен был составить в деревне оплот, защищающий новое российское и украинское государства от консерватизма деревни.
То, что главной целью процесса реформ объявляли достижение эффективности производства путем перераспределения земли, создало повод для политических конфликтов в парламентах и торможение реформы на локальном уровне.
Многие ученые и политические аналитики характеризуют этот конфликт как
идеологический, приводя в доказательство то, что противодействие идее приватизации сельскохозяйственных предприятий и купли-продажи земли было связано
с принадлежностью носителей этого мнения коммунистическим или аграрным
партиям. Однако на областном и районном уровнях в обеих странах сопротивление реформе было широко распространенным. Среди противников приватизации
земли и раздробления коллективов можно было встретить как людей политически
не ангажированных, так и бывших членов Коммунистической партии.
В советских и досоветских ценностных представлениях о сельском хозяйстве
акцент делался на том, что производство продуктов питания — это социальный
долг. Сельскохозяйственные земли рассматривались как часть общественного достояния, а не как средство для получения прибыли, и сельские производители
носили глубокую моральную ответственность — обеспечить продовольствие города[5]. Как сформулировано в заголовке одной статьи харьковской газеты: «Производство — для людей, а не наоборот»[6]. Насильственное внедрение идеи, что общественные владения должны сделаться предметом купли-продажи, вызвало
отрицательную реакцию со стороны местных руководителей, от которых зависело проведение реформы[7]. Некоторые из них видели в этом угрозу для вверенных
им сельских сообществ, а также для местной экономики. Учитывая характерный
для середины 1990-х годов симбиоз коллективного и домашнего производства,
распад коллективов имел бы губительные последствия для сельского населения.
Аграрные реформы требовали кардинального изменения ценностных ориентаций, не давая при этом людям никаких материальных стимулов, которые могли
бы способствовать принятию ими нового мировоззрения.
Следующая часть статьи посвящена двум основным факторам, которые определяли ход аграрных реформ в постсоветской России и Украине. Именно эти факторы ограничивали диапазон способов, которыми люди могли распоряжаться
своими вновь обретенными правами собственности: речь пойдет о структуре
и действии местных властей и одновременном осуществлении макроэкономической и микроэкономической реформ. Конечно, на результаты реформ повлияло
и многое другое (например, невнимание реформаторов к реальным проблемам
сельского хозяйства), но позиция местных властей и локальный экономический
контекст на фоне реформ, навязанных по большей части извне и сверху, в значительной мере объясняют, почему аграрные сообщества в постсоветской России
и Украине стали развиваться именно так, а не иначе.

Роль местных властей
Одним из основных факторов, определивших результаты аграрной реформы, было непосредственное и косвенное влияние, которые оказали местные администраторы на фактическое распределение прав на землю. В число этих лиц следует
включать как членов управления коллективных хозяйств, так и представителей
районной администрации и членов сельских советов. Несовместимость интересов сельской элиты с желаниями рядовых членов сельскохозяйственных коллективов осуществить свои права, в сочетании с материальным гнетом 1990-х, создали те условия, в которых новые правовые системы собственности не могли иметь
большого значения для подавляющего большинства сельских жителей.
Эффект в России и на Украине был почти одинаковым. Одним из источников
определенных различий в областях Черноземья было исторически сложившееся
преобладание в некоторых регионах государственных хозяйств. В Харьковской
области многие крупные сельскохозяйственные предприятия сформировались
как совхозы. То обстоятельство, что эти предприятия были построены на основе
трудовых, а не членских отношений, вместе с тем, что они обладали относительно более централизированной организационной структурой, позволяло администраторам хозяйств оказать сильное влияние на то, как люди могли распоряжаться своими правами собственности. Как показывают некоторые исследования,
власть сельских административных лиц усилилась в обеих странах при реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Такой результат оказался еще более
ощутимым в бывших совхозах, где было меньше институциональных механизмов
для контроля действий руководства.
Политические перемены в структурах сельской власти определили характер и степень зависимости сельских жителей от мелких тираний, контролирующих любое их движение и доступ к реализации новых прав. Удаление из районных и сельских управленческих структур партийных представителей
изменило рельеф власти. Какой бы отрицательной ни была в деревне роль партийных структур в советский период, в конце 1980-х они функционировали
как «внешняя» власть, к которой члены сельскохозяйственных коллективов
могли обращаться со своими претензиями. Когда из сельской жизни было изъято партийное руководство, местные администраторы оказались полновластными хозяевами положения, и в некоторых случаях это приводило к злоупотреблениям.
Местные власти могли повлиять на распределение прав на землю членам коллективов несколькими способами. Во-первых, присвоение земельных участков
частными лицами представляло собой крайне бюрократический процесс. Практические трудности по сбору документов могли показаться почти непреодолимыми, особенно в крупных районах, где представительства органов государственной власти отстояли друг от друга на большие расстояния. И в России, и на
Украине, если люди хотели выйти из коллектива и создать фермерское (крестьянское) хозяйство, то в большинстве случаев для того, чтобы подать документы
на выделение им земли, нужно было собрать подписи не менее чем семи государственных чиновников. Типичный сценарий для того, кто хотел стать фермером,
включал в себя изнурительные поездки — порой сельским общественным транспортом — в контору государственного чиновника, и это только затем, чтобы услышать, что приезжать надо на следующей неделе. Без собственного автомобиля
и массы свободного времени попытка получить необходимые подписи могла
оказаться безнадежной.
Для тех, кто оставался в больших сельскохозяйственных предприятиях, попытка практически реализовать формально существующие права наталкивалась на подобные же препятствия. Документальное подтверждение прав на владение земельными участками в бывших колхозах и совхозах предполагало
многоступенчатый процесс. На каждом его этапе руководители хозяйства могли отказать в доступе к документам, необходимым для реализации прав собственности. Слова «сертификаты хранятся в сейфе у председателя» были постоянным рефреном в Харьковской области. Сельские жители прекрасно знали
о том (пусть и не подтвержденном, как правило, документально) факте, что
многие члены хозяйств, подписавшие документы, подтверждающие, что они
получили свои земельный сертификат, делали это под давлением и что на самом деле многие таких документов не получили. Для таких людей реально не стоял
вопрос о том, что делать со своими земельными сертификатами. В районах, где
было мало состоятельных частных фермеров, готовых арендовать земельные
паи у членов коллективов, и когда на местах ощущалось давление со стороны
председателей — директоров сельскохозяйственных коллективов, препятствующее сдаче земельных паев в аренду частным фермерам (многие фермеры рассказывают, что для аренды земельных паев они должны были просить разрешения у местного председателя), единственной реальной возможностью для
большинства владельцев земельных сертификатов оставалось сдать свои паи
в аренду своему же бывшему коллективу.
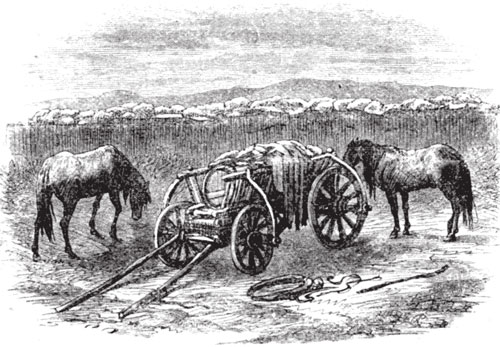
И даже там, где руководители не затрудняли доступа к документации, практическая реализация прав на землю была ограничена в силу того, что люди полагались на руководство своих коллективов. Власть руководителей над людьми коренилась в той экономической трансформации российского и украинского села,
которая происходила независимо от аграрной реформы (или, самое большее, —
в порядке реакции на нее). В обеих странах сельские жители одновременно стали и более независимы, поскольку их более важной опорой стало личное подсобное хозяйство, и в то же самое время — зависимы от коллективов, поскольку постоянно нуждались в ресурсах, для того чтобы это хозяйство поддерживать.
Симбиоз, существовавший в 1990-х годах между коллективным и домашним производством, означал, что сельские жители должны были заботиться о сохранении
хороших отношений с руководством, а иначе к ним вполне могли быть применены материальные санкции. Эти санкции не были формальными, скорее система
распределения зарплаты, выдаваемой в виде натуральных продуктов, оставляла
на усмотрение бухгалтеров и руководителей хозяйств определение того, кто
и сколько чего получит. Поскольку количество полученных в качестве зарплаты
товаров рассчитывалось в денежных единицах и поскольку как цены, так и курс национальных валют в 1990-х годах очень сильно колебались, реальные доходы
многих членов сельскохозяйственных коллективов были объектом беззастенчивых манипуляций. В таких условиях просьба к директору бывшего колхоза выделить земельный пай в натуре или даже формально заключить контракт по выплате земельной аренды могла бы быть крайне рискованной.
В некоторых случаях руководители хозяйств имели веские основания препятствовать реальному распределению земли. Многие из них выражали опасения,
что изменение практики землепользования приведет к хаосу. Жалобы на то, что
частные фермеры получали в бывших коллективных владениях только самые отдаленные, неплодородные участки земли, обыкновенно были вполне обоснованными. При той землеобрабатывающей технике, которая находилась в распоряжении бывших колхозов, бессистемное выдергивание отдельных участков
из общего массива сделало бы для крупного хозяйства производственный процесс невозможным. За немногими исключениями большинство коллективных
хозяйств в России и на Украине в первом десятилетии после распада Советского
Союза едва влачили жалкое существование, не принося никакой прибыли, и резкие сдвиги в землепользовании могли пагубно сказаться на сельских сообществах, которые зависели от бывших колхозов и как социальные институции, и как
сельскохозяйственные производственные единицы.
Концентрация власти и собственности в руках нескольких лиц, обеспечивая,
несомненно, в большей мере национальную продовольственную безопасность,
социальную стабильность и непрерывность предоставления хоть минимального
уровня социальных услуг, не достигла первоначальных целей аграрной реформы,
в которые как раз входило перераспределение средств производства в руки тех,
кто работал на земле. Это сосредоточение власти также закладывало фундамент
для возникновения латифундий и того типа сельскохозяйственного предприятия, который типичен для некоторых регионов Соединенных Штатов: вертикально интегрированной структуры, эффективность которой обеспечивается государственными субсидиями и политической слабостью используемой ими
рабочей силы. В таких предприятиях сельскохозяйственные рабочие получают
нищенскую зарплату, даже если предприятие приносит значительную прибыль.
Нет ничего удивительного в том, что местные власти препятствуют реализации индивидуумами прав собственности, но едва ли следует подвергать сомнению законность существования этих структур, поскольку в условиях развитого
рынка большинство экономических институций функционируют на основе вертикальной структуры управления. И хотя существуют некоторые образцы более
эгалитарной организации бизнеса, они не являются нормой. Тем не менее опыт
России и Украины в создании прав собственности на землю показывает, что такие права не могут быть полноценно сформированы в условиях экономического
кризиса и жесткой монопольной административной власти.
Роль макроэкономической реформы
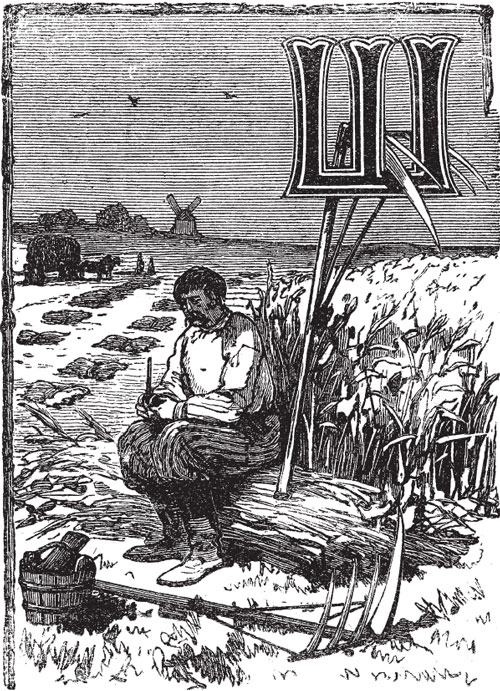
Как мы сказали выше, макроэкономический контекст аграрной реформы способствовал тому, что сельские жители были ограничены в возможности реализовать свои права собственности. В обеих странах процессы реструктуризации, на
которых настаивал Международный валютный фонд как на условии выдачи займов (а потому носившие характер добровольно-принудительных), по меньшей
мере частично совпали с периодом реорганизации сельскохозяйственного производства и создания частных фермерских хозяйств. Программы реструктуризации, осуществлявшиеся за последние три десятилетия почти в двухстах странах
мира, включают в себя четыре основных направления: отмена государственного
контроля над ценами, открытие внутреннего рынка для международной торговли, создание сбалансированного государственного бюджета (что достигается
обыкновенно за счет снижения ассигнований на социальные нужды, а не за счет
повышения налогообложения) и приватизация. Четвертое требование подразумевало проведение в украинской и российской деревне земельной реформы. Условия, порожденные отчасти другими тремя составляющими процесса, сделали
затруднительной прозрачную и рациональную приватизацию средств сельскохозяйственного производства[8].
Возможно, что финансовая и торговая политика дали некоторые позитивные
результаты, но они привели также к большим ножницам в ценах между промышленными и сельскохозяйственными товарами. То обстоятельство, что участие
в сельскохозяйственном производстве не было прибыльным, препятствовало повышению производительности в реформированных сельскохозяйственных коллективах и охлаждало тех, кто мог бы захотеть выйти из коллективов, чтобы начать частную фермерскую деятельность, — а это две главные цели аграрной
реформы. Ценовые ножницы, сделавшие коллективные хозяйства неприбыльными, сильно ударили по их работникам. Они испытывали двойной груз работы
и в коллективах, и в подсобном хозяйстве. И в России, и на Украине сдвиг в сторону домашнего производства как средства выживания особенно тяжело сказался на женщинах. После десяти лет действия аграрной реформы сельские жители
в России и на Украине номинально имеют права на землю, но тяжесть их труда
значительно увеличилась и многие из них экономически более уязвимы, чем были десятилетием раньше. Необходимость работать и в общем предприятии,
и в подсобном хозяйстве отражает экономическую ситуацию, в которой нет места ошибкам. В таких условиях было бы неразумным брать на себя дополнительный риск, а реализация прав на земельную собственность на территории бывшего колхоза — предприятие, безусловно, рискованное как в социальном, так
и в экономическом аспекте.
«Ножницы» в ценах на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
и нестабильность в соотношениях между ценами привели к непредсказуемости
и неэффективности распределения заработной платы; это не давало также перейти
к экономике наличных расчетов. Характерным примером, иллюстрирующим эту
проблему, может служить продажа молока личными хозяйствами. Например, в Воронежской области сельским жителям в 1990-х годах было выгодно возить молоко
на продажу в районные центры. Однако когда цена на молоко упала почти вдвое,
до восьмидесяти копеек за литр, тогда как литр бензина стоил один рубль тридцать
копеек, то эта торговля утратила смысл: при небольших объемах молока, поставляемого на городской рынок, его себестоимость превышала продажную цену.

Вытекающее отсюда почти что полное отсутствие наличности в сельской экономике заставляло сельскохозяйственные предприятия и частных лиц идти на бартерные соглашения. Однако, несмотря на физическое отсутствие в 1990-е наличных денег в деревнях и селах Черноземья, ошибочно думать о постсоветской деревне как функционирующей вне экономики наличных расчетов. Физически
при осуществлении бартерных сделок — включая натуроплату — наличность не
присутствовала, но обыкновенно их содержание зависело от относительной стоимости товаров, установленной на денежных рынках. Количество обмениваемых
натуральных товаров назначалось не произвольно (например, фабрика обеспечивает каждого рабочего пятнадцатью килограммами сосисок вместо зарплаты) и не
определялось в зависимости от излишков (например, колхоз «Октябрьский» обменивает свои лишние две тонны сахара на подсолнечное масло, которое не нужно
совхозу имени Кирова). Стоимость, назначаемая товарам, рассчитывалась также
не в соответствии с тем, какую ценность они могли бы представлять для сторон,
участвующих в обмене. Сделки определялись, скорее, рыночной стоимостью товаров. Когда товарами выплачивались зарплаты или совершались другие бартерные
сделки, денежная стоимость предлагаемых товаров равнялась денежной стоимости
получаемых товаров. Такого рода обмены совершались по рыночной модели, когда
деньги участвовали в расчетах, но не присутствовали в реальном обмене.
Такое соглашение по назначению цен в «виртуальных деньгах» давало и частным лицам, и целым хозяйствам надежное общее мерило стоимости. В то же время оно связывало натуральный товарообмен с ценовой системой экономики наличных расчетов, не способствуя созданию четкого обратного механизма,
обеспечивающего влияние на уровень цен. Таким образом неформальные экономические процессы подчинялись силам рынка, но не имели прямых средств влияния на рынки, оперирующие наличными деньгами (если не считать того, что
они ограничивали экспансию экономики наличных расчетов). Жизнеспособность системы бартеров зиждилась на стабильной параллельной экономике наличных расчетов, а финансовая нестабильность на широком общественном уровне нарушала шаткий баланс ценовых соотношений, на который полагаются
бартерно зависимые сообщества. Девальвация и инфляция отрицательно отразились на современном хозяйстве российской и украинской деревни, в первую очередь, уменьшением выплачиваемых натуральными товарами зарплат и резкими
колебаниями в соотношениях цен.
Для домашних хозяйств, которые держались в основном благодаря компенсационным выплатам со стороны бывших колхозов, такие колебания могли быть
гибельны и с точки зрения насущной платежеспособности, и с точки зрения долгосрочного планирования. При отсутствии стабильных соотношений между ценами на товары частным лицам, зависящим от зарплат, выплачиваемых с использованием заменителей наличных денег, трудно было представить, какова может
быть прибавочная стоимость их товаров. Например, семья, которой бывший колхоз выплатил зарплату не деньгами, а поросятами, не могла заранее определить,
будет ли цена, за которую они весной продадут свиней на рынке, выше тех зимних затрат, которые необходимо было сделать, чтобы их выкормить. Проблема
непредсказуемости ни в коем случае не является характерной только для бедных
наличными деньгами экономик. Тем не менее в постсоветской деревне результаты большинства сделок нельзя было обратить в более надежное средство для
дальнейшего капиталовложения. В этом смысле нестабильность финансовой системы снижала эффективность основанных на бартерах хозяйств и помещала
бедные наличными деньгами сообщества в ситуацию особого риска. Все это
уменьшало охоту людей брать на себя дополнительный риск. В таких условиях
решение распорядиться своими правами на землю как-нибудь иначе, кроме как
сдать землю обратно в аренду бывшему колхозу, было для большинства владельцев земельных паев недопустимо рискованным.
Какой вывод можем мы сделать из этого анализа? Результаты реформы в сельских местностях России и Украины не так сильно отличаются друг от друга, как
это можно было бы ожидать исходя из различий в общем контексте реформ (их
скорости и последовательности). Больше различий в распределении земли наблюдается по областям и районам, нежели между странами. Например, в Харьковской области в 1996 году число частных фермерских хозяйств варьировалось
от одного до ста девятнадцати в различных районах, а в том же году в Воронежской области — от четырех до двухсот семидесяти шести[9].
В конце десятилетия реорганизованные коллективные сельскохозяйственные предприятия в России и на Украине рапортовали о почти стопроцентном
распределении земельных сертификатов. По причинам, описанным выше, такая
статистика — которая по идее должна свидетельствовать о больших успехах в деле формирования прав собственности — дает ложную картину. В этой ситуации
неполнота реформы определяется не формальным распределением прав собственности, а их реализацией. Когда коллективные хозяйства реорганизовались, то
на место выгод, которые давало членство в коллективе, пришли арендные выплаты, основанием для которых служило мнимое владение землей. Взаимоотношения членства ушли, и на их место пришли трудовые взаимоотношения. Но поскольку в коллективах продолжали существовать жесткие вертикальные
структуры административной власти, многие сельские жители не могли получить
законные договоры об аренде и еще меньше того — потребовать их выполнения,
если они, что весьма возможно, будут нарушены. Итогом было возвращение
к прежним льготам, переименованным в арендные выплаты. С той только разницей, что теперь в распоряжении законных владельцев земли было немного способов, которыми они могли предъявить свои претензии в случае неполучения
ими арендной платы — которая обыкновенно состояла лишь из нескольких мешков зерна, полученных во время уборки урожая.
Сходство результатов реформ в этих регионах двух стран имеет важное значение еще и ввиду упреков, которые делали Украине некоторые аналитики в недостаточно быстром проведении реформ сравнительно с другими постсоветскими
государствами. Теории экономической либерализации, не принимающие во внимание систему ценностей, распространенную среди населения, смысл и особенности производственного процесса, а также взаимодействие макроэкономического контекста и микроэкономических преобразований, не будут ни
эффективными, ни, что гораздо более важно, справедливыми. Как показано
в другой работе, посвященной этой теме, реформы привели к феномену интенсифицированного домашнего производства, с одной стороны, и создания латифундий — с другой[10].
Относительные преимущества работников сельскохозяйственного сектора
в России заключались в том, что они имели более легкий доступ к горючему,
а также в том, что региональное руководство с 1996 года теоретически было подотчетно народу благодаря избирательным процедурам на местном и областном уровнях (региональные чиновники на Украине назначались президентской администрацией, а не выбирались). Тем не менее этих факторов оказалось недостаточно, чтобы обеспечить надежный переход к рыночной системе. Материальные
тяготы, порожденные макроэкономической реформой, прямо влияли на распределение земли и способствовали созданию такой ситуации, в которой местные
административные структуры (в отличие от тех сравнительно демократических
институциональных структур, которые были характерны для поздних советских
хозяйств) сделались хозяевами положения. То, что российские производители
имели незначительные преимущества перед своими соседями на Украине, вряд
ли имеет большое значение ввиду крайней экономической незащищенности,
в которой находились оба народа.
Сельские производители обеих стран отреагировали на реформы как могли:
согласовывая взятый государством курс с местными нуждами и местной практикой, они делали все, чтобы ущерб, причиненный их сообществам, оказался бы
в итоге минимальным. Экономические реформы 1990-х, создав благоприятные
возможности для некоторых сельскохозяйственных производителей, ограничили
участие в рынке — в отношении аренды, работы или реализации сельскохозяйственной продукции — для большинства сельских жителей. И пока внимание не
будет обращено на устройство социальной и административной власти на селе и
на проблемы влияния макроэкономических преобразований на экономику села,
любые попытки вносить дальнейшие изменения и улучшения в земельное право
(например, такие как наделение иностранных организаций правом покупки земли) обернутся в обеих странах, скорее всего, тем, что сельских производителей
и дальше будут лишать возможности эти права реализовывать.
[*] Jessica Allina-Pisano, “Agrarian Reforms in Russia and Ukraine: A Comparative Analysis”.
Перевод с английского Бориса Скуратова.
[1] Совершившийся факт (франц.). — Примеч. ред.
[2] Материалы, на которых основывается статья, включают в себя сотни бесед с руководителями
и специалистами сельскохозяйственных коллективов, фермерами и представителями фермерских организаций, районными и областными государственными чиновниками;
более четырех тысяч статей по земельной реформе, взятых из областных и районных газет;
опубликованные и неопубликованные статистические материалы по сельхозпроизводству в
двух областях; а также полевое исследование, проведенное автором в одном коллективном
хозяйстве в Воронежской области, организации фермеров в Харькове и одном районном
отделе землеустроителей в Харьковской области. Автор проводила эти исследования
в 1997—2000 годах.
[3] См., например, Peter Murrell, “What is shock therapy? What did it do in Russia and Poland?” PostSoviet Affairs 9:2 (April-June 1993), 111—140. Логика шоковой терапии объясняется в Jefferey
Sachs, Poland’s Jump to the Market Economy (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology
Press, 1994).
[4] Как и в других аспектах реформы, по регионам в обеих странах наблюдаются существенные
различия. Это средняя цифра.
[5] Литература по моральной экономике, посвященная крестьянству в разных странах мира,
также подтверждает эту мысль. См., например: James C. Scott, The Moral Economy
of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (New Haven: Yale University Press, 1976).
[6] М. Мельник, «Виробництво — для людей, а не навпаки: iнтерв’ю з головою держадмiнiстрацii
Харкiвського району В. И. Пугачовим», Слобiдський край, 13 мая, 1999, 2.
[7] Такую реакцию можно наблюдать во всем мире. См.: Michael Goldman, ed. Privatizing Nature:
Political Struggles for the Global Commons (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press,
1998).
[8] Такая проблема проявлялась в других странах, где реализовывались похожие программы
макроэкономических и земельных реформ. См., например: Marc Edelman, Peasants against
Globalization: Rural Social Movements in Costa Rica (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1999)
и Sam Moyo, Land reform under Structural Adjustment in Zimbabwe: Land Use Change
in the Mashonaland Provinces (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2000).
[9] Статистические данные взяты из материалов Харьковского регионального отдела фермерских
хозяйств, 1999, и «Города и районы Воронежской области», часть 3, Районы
(Воронеж: Воронежский региональный государственный статистический комитет, 1997).
[10] См. Ivan Szelenyj, ed. Privatizing the Land: Rural Political Economy in Post-Socialist Societies
(London: Routledge, 1998).
