Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Эссе о времени, труде и капитале
|
Понятия труда и капитала — не просто абстрактные концепты, изобретенные одаренными богатым воображением радикальными интеллектуалами, но концептуализация некоторых человеческих практик, обладающих определенными социальными функциями. В этом смысле труд и капитал можно было бы назвать
абстрактными генераторами социальной жизни. Генераторами — постольку, поскольку в их взаимной игре, материалом которой являются живые человеческие
организмы, производятся такие важные человеческие институты, как трудовой коллектив, корпорации, фирмы, кооперативы, институты кредита и профессиональные союзы. Они же оказывают влияние на такие, по видимости, автономные человеческие институты и учреждения, как государство, нация, политический клуб или
партия, семья, наука и техника и иногда определяют их эволюцию. Абстрактными
же они являются не только потому, что неуловимы непосредственным профанным
восприятием и схватываются только отвлеченным, теоретически воспитанным воображением. Они абстрактны, поскольку их генерирующие функции осуществляются в относительной независимости от социальных обстоятельств (сообщества,
семьи, нации, цеха или прихода) и от географической привязанности. Как труд, так
и капитал в современной рыночной экономике все больше мотивируется не социально, а посредством специализированных кодов, абстрактных символов.
Появление концепта труда позволило выделить его в качестве одного из исчисляемых (в гомогенных единицах времени и стоимости) факторов производства, что в значительной мере облегчило его практическую утилизацию. Появилась
техническая возможность извлекать из самых разных человеческих индивидов
некую «производящую субстанцию» — труд. Абстрагирование труда из множества индивидуальных особенностей человека — половых, возрастных, культурноэтнических и проч. — позволило разрешить проблему «адекватного» измерения
труда и прежде всего его производительности. Абстрагирование труда и последующее совершенствование техник исчисления производительности способствовали развитию рынка труда, т. е. превращению труда в товар, стоимость которого
легко находила свое символическое выражение в денежных единицах.
Не только труд стал мыслиться абстрактно и операционально, но и межчеловеческие взаимоотношения приобрели более абстрактный характер. Превращение труда в товар означало не только возможность высвобождения капитала (который был назван Марксом «накопленным трудом»[1]) от традиционных форм
производства и человеческого общежития, но и открыло небывалые возможности для социального экспериментирования. Способность денег к поистине универсальной символизации не только трансформировало ментальность буржуазии
и наемных рабочих, но обещало неисчерпаемые перспективы в рационализации
социальной и экологической среды.
Фабрика была организована как «хорошо темперированный клавир», да и сама природа человека, как казалось первым политическим экономам, могла бы
быть реформирована столь же рациональным образом, вывести человека из тумана религиозных, сословных и прочих предрассудков, освободив его от бремени
традиции. Экспериментаторский энтузиазм и увлеченность социальным конструированием в начале и середине XIX века становятся до наглядности понятными, когда мы наблюдаем за детьми, восхищенно познающими конструктивные
возможности известной сегодня детской утехи, подаренной человечеству фирмой Lego. Рациональное расположение в пространстве фабрики различных оперативных блоков, объединяющих людей и машины, могло обрести душу и превратиться в живой организм только при условии обнаружения некоторого
общего для железной механики и человеческих тел темпа. Время и темп, когда
с ними поэкспериментировали на фабрике, вышли на улицу и превратились
в универсальный дисциплинарный код, следуя которому организовывалась
жизнь городов, наций, международной торговли и кредита. Изменилась сама
«субстанция» времени и способы его переживания — теперь оно все больше абстрагировалось от сезонных, природных циклов и дробилось в соответствии с циклами производства. «Время — деньги» — так народная мудрость выразила суть
происшедшей экзистенциальной революции, ассоциативно связав цикл обращения капитала, меру стоимости трудовых затрат и суть нового дисциплинарного
канона.

С помощью времени стало возможно контролировать производительность отдельного работника, экспериментировать с разными формами организации коллективного труда, выстраивая сложные алгоритмы взаимодействия машины, индивидуальных и коллективных тел. Кроме того, время помогло организовать жизнь
отдельного гражданина, включив его, например, в циркуляцию городских и национальных транспортных потоков. Таким образом, рационализирующий бриколаж,
непрерывная калибровка целей и функций производственных и управленческих
подразделений не только трансформировали рабочее место, но радикально изменили весь социальный пейзаж и такие его фрагменты, как семья, институты образования, город и пр. Тенденция, характерная для капитализма, которую Маркс
определил как «время, упраздняющее пространство», в своем пределе с неизбежностью приводила к тому, что Жиль Делез и Феликс Гваттари называли «голым трудом»[2]. Такой «голый труд» не подразумевает никакого индивидуального агента
вроде гражданина или отца семейства, повязанного самыми разными социальными обязательствами и наделенного правами, но некую абстрактную серию, единый
поток, в циркуляцию которого была включена изъятая из человека способность —
труд. Появление «голого труда» означало, что труд включился в абстрактный товарный поток и был накрепко связан с потоком капитала[3].
Скорость обращения капитала возрастала параллельно с ростом производительности труда. Одно было невозможно без другого, как замок, теряющий свой
смысл, если к нему не существует ключа или отмычки. Новые производственные
формы обещали гораздо более скорое усвоение капитала, и это неизбежно приводило к мультипликации и разнообразию новых форм финансирования производства: теперь уже осваивались не только личные и семейные сбережения, но
с развитием фондовых рынков стали появляться товарищества и общества с ограниченной ответственностью, затем национальные и международные корпорации. Похоже, что универсализация такого дисциплинарного кода, как время,
могло осуществляться только в обществах, которые сумели абстрагировать
и эмансипировать труд и капитал от социальных мотивов и ценностей, препятствующих установке на прибыль и экономическую мощь.
Обратим внимание, что новая (темпоральная) дисциплинарная парадигма
приветствовалась не только прогрессивными работодателями, но и наемными
рабочими. Ведь автоматизация производства обещала не только более высокие
прибыли, но и зарплаты, возможность сокращения рабочей недели и увеличения
досуга. Как бы странно это ни выглядело, но новой дисциплинарной кодификации сопротивлялись вовсе не рабочие, но консервативно настроенная буржуазия, среди идеологов которой, например, в США в начале ХХ века было широко
распространено убеждение, что если рабочие наденут на руки часы, то они сразу
начнут заниматься политикой. Корку конвенции подорвал Генри Форд, который
высказал радикальное по тем временам мнение, что если у рабочих появится
больше свободного времени, то они повысят уровень своего потребления, начнут
покупать, например, автомобили. Революция, совершенная фордизмом, заключалась, таким образом, не только и не столько в изобретении конвейера, но в том,
что капитал, научившись рациональной утилизации рабочего времени, стал окучивать время свободное и взялся за создание нового человека — потребителя.
Разумеется, «политика времени» не имела шанса на успех без широкого и добровольного участия самих трудящихся в ее реализации. В качестве примера мне
бы хотелось обратиться к эволюции отношений между наемными работниками
и работодателями в отраслях так называемой «новой экономики», которая бурно
развивалась в 1990-е годы. В передовых, высокотехнологичных отраслях производства, где фордизм ушел в прошлое, наемному работнику удалось уйти от прямого и постоянного контроля. За его спиной уже не стоит «фабричный сержант»,
мастер или прораб, а за своим рабочим столом он приобрел автономию — внешняя дисциплина трансформировалась во «внутреннюю мотивацию». Программисты, учителя и адвокаты добровольно расходовали свое свободное время ради реализации своих профессиональных амбиций. Их иногда религиозное
и самоотверженное подвижничество (некоторые до сих пор отдают работе до 60 часов в неделю) было возведено работодателями в назидательный пример. Трансформация паноптического контроля в индивидуальную ответственность была давней
мечтой всякого, особенно ориентированного на творческий труд, работника, для
которого был важнее скорее качественный результат, чем затраченное на его достижение время. Казалось бы, давнее стремление к эмансипации своего рабочего
места от дотошного контроля была реализована. Программисты, биотехнологи
и другие представители новых творческих профессий с энтузиазмом восприняли
новую организацию своего рабочего времени и пространства прежде всего потому,
что их труд был мотивирован не только и не столько экономически.
В новых секторах экономики чрезвычайно трудно найти адекватные способы
контроля. Здесь не существует столь же формализованных контрактных взаимоотношений с работодателями, какие существуют в секторах, где регуляция времени и вознаграждения успела обрасти конвенциями и традициями найма. Индивидуализация контрактов и повышение персональной ответственности, которые
стали характерными для новых отраслей, вначале вовсе не вызывали болезненной
реакции со стороны высококвалифицированных работников, тем более, что эти
годы, в особенности 1990-е, были периодом сверхинвестиций. Как следствие,
в этих сегментах рынка труда была крайне низкая конкуренция — для них был характерен скорее кадровый голод. При том широком и бурном потоке капиталов,
которыми накачивались эти отрасли, легко прощались как ошибки менеджмента,
так и личная недобросовестность и низкая компетенция некоторых специалистов.
Поскольку в новых отраслях производился, как правило, индивидуализированный продукт, постольку творчески мыслящему менеджменту следовало изобрести новые и адекватные организационные формы труда. По отношению к труду
стали употребляться новые модные метафоры — гибкость, эластичность, мобильность. Тиражировался новый тип трудовых контрактов «определенной длительности». Коллективные контракты ушли в прошлое, и, эксплуатируя склонность
профессионалов к индивидуализму, работодатели с готовностью перешли на контракты индивидуальные. Филиалам отдельной корпорации была дана невиданная
доселе автономия, с тем чтобы стимулировать между ними конкуренцию. Этим же
соревновательным целям служило формирование нескольких микрокоманд, перед
которыми ставились идентичные цели. Подобные стратегии усиления ответственности, самоконтроля и индивидуализации карьеры обоюдно приветствовались как
новыми профессионалами, так и новыми менеджерами.
Но как только окончился период бума, как только появились первые признаки настоящей конкуренции с традиционными отраслями[4], новые профессионалы тут же на себе почувствовали всю тяжесть стратегий усиления ответственности, самоконтроля, жесткость персонифицированного характера новой иерархии и произвола, связанного с индивидуализацией карьеры, появление которых они сами восторженно приветствовали. Теперь им приходилось прилагать
дополнительные усилия, чтобы демонстрировать мотивацию к труду, имитировать творческий подход, что проявлялось, главным образом, в «добровольном»
увеличении длительности рабочего дня. В условиях более жесткой конкуренции привилегированные новые профессионалы почувствовали себя такими же
жертвами «политики времени», какими стали, например, врачи, юристы, учителя и официанты ресторанов. «Новая экономика» была, таким образом, нормализована и рутинизирована. Были созданы новые институты трудовых взаимоотношений. Радикально изменилась трудовая этика, которая отставила
творческие приоритеты в сторону ради конкуренции и индивидуальной философии успеха.
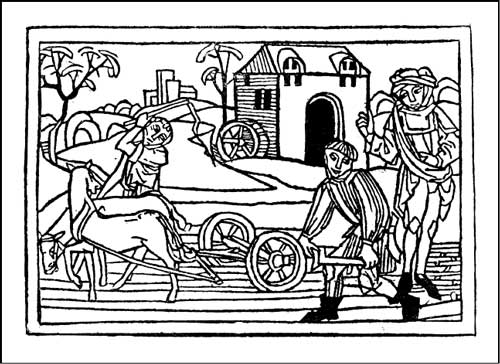
Вообще, развитие и имплантация новых технологий в производство и повседневную жизнь привели к самым неожиданным результатам. Для Майкла Данкерли, например, информационная революция — это, прежде всего, вопрос
о власти. Она способствует не столько реализации социальных надежд большинства работающего населения, сколько усилению существующей системы господства и интенсивной дифференциации доходов[5]. Однако самый интересный результат наблюдений Данкерли выразился в том, что он назвал «парадоксом
производительности»: именно в годы технологического бума, в 1970–1990-е годы, на фоне растущего социального расслоения, происходил процесс уменьшения коэффициента производительности труда. Так в США средний рост коэффициента производительности труда, который равнялся в 1960–1973 годах двум
процентам, в период 1973–1987 годов упал до 0,3 процента в год, а в следующее
десятилетие этот процесс только усилился. Причем отмеченные процессы характерны, главным образом, для англо-саксонских экономик, где неолиберальные доктрины нашли самую благотворную почву. Данкерли ссылается
на исследования известного американского экономиста и популярного обозревателя New York Times Пола Кругмана[6], результаты которых действительно
трудно примирить с расхожими представлениями об эффектах технологической революции последних двух декад. Другой странный эффект — в этот же
период заработная плата специалистов по информационным технологиям росла в среднем на 3,8 процента в год, в то время как у юристов и менеджеров этот
рост составлял 29,7 процента.
Неолиберальный тренд, который установился в 1980-х годах и достиг своего
пика в 1990-х, сделал критерий прибыльности практически универсальным. Изобретенная «новой экономикой» методика, позволяющая присваивать рабочее
время творческих работников, была с успехом распространена также на университеты[7]. Здесь предприимчивые университетские менеджеры изобрели другую
схему «рационализации»: они стали сокращать издержки, упраздняя «дорогие»
посты профессуры за счет увеличения преподавательской нагрузки на ассистентские кадры, т. е. на продвинутых студентов старших курсов. Конечно, образовательный процесс значительно удешевился, одновременно увеличив ресурсы для
повышения зарплат менеджменту. Качество преподавания не замедлило ухудшиться, а наиболее талантливые студенты перестали связывать планы профессиональной карьеры с университетами.
Следует ли говорить, что подобные рыночные стратегии в условиях рынка делают университеты неконкурентоспособными в охоте за квалифицированными
кадрами? Пример использования неолиберальных стандартов в университетах
лишний раз показывает, что по «балансовой отчетности» и рыночным законам
может работать практически любая человеческая институция, но при этом неустранимой остается тенденция к присвоению основной доли ресурсов теми, кому
эту отчетность доверили.
В принципе с университетами получилось то же самое, что с другими институтами, имеющими особую социальную значимость, которые были подчинены
исключительно экономическому критерию прибыли и рыночной конкуренции.
Аналогичные процессы деградации происходят не только в образовании, но
в секторах здравоохранения, страхования[8].
Самое забавное, что в политике неолиберализма мало нового. Историю тотального подчинения общества экономическим императивам, закончившуюся
крахом рыночных механизмов, международной торговли и мировой войной, мы
можем прочитать в цитировавшейся уже книге Карла Поланьи «Великая трансформация» (1940). У него же мы обнаружим и мораль этой never-ending story:
«Бухгалтерию “спроса-предложения-цены” можно, вообще говоря, использовать где
угодно, какими бы ни были реальные мотивы конкретных человеческих индивидов, экономические же мотивы per se на большинство людей оказывали, как известно, гораздо меньшее влияние, чем так называемые эмоциональные мотивы»[9].
Поланьи утверждает, что выделение исключительно экономических и рыночных мотивов — не просто опасное доктринальное увлечение, но политика, разрушающая не только производительный труд, но саму ткань социальной жизни.
Все болезни лечить пенициллином — разве это не патогенная медицинская стратегия? Препарат нужно специфицировать по отношению к болезни. Точно так же
следует специфицировать и ограничить область рынка, иначе после шоковой терапии мы рискуем не найти уже не только больного, но и лечащего врача.
Введение жесткой рыночной конкуренции в университетскую среду может
послужить хорошей иллюстрацией более глобального тезиса: политика неограниченного и нерегулируемого рыночного соперничества способствует воспроизводству и трансферу как в национальных масштабах, так и на уровне отдельных
предприятий, наиболее одиозных социальных практик, представлений и предрассудков. В принципе конкуренция приводит к снижению издержек, и здесь под
рукой оказываются устоявшиеся культурные и социальные различия между полом, возрастом или национальным происхождением. Ведь в соответствии с общим культурным предрассудком женщине, если она молодая, да к тому же иммигрантка, следует платить гораздо меньше, чем заплатили бы отцу семейства
местного происхождения. В данном случае соображения о профессиональной
компетенции наемного работника становятся вторичными и на первый план выдвигаются соображения о сокращении издержек, что усиливает напряженность
между иммигрантами и автохтонным населением.
Схожие процессы концентрации власти, дифференциации доходов и политики различий происходят также на уровне взаимодействия между национальными
государствами, если они начинают руководствоваться исключительно «рыночными» соображениями. Политика Международного валютного фонда и Всемирной
торговой организации, в соответствии с духом и буквой неолиберализма, требует
от стран международного сообщества, с одной стороны, создания гибких и мобильных национальных рынков труда, сокращения социальных и государственных
расходов, с другой, снятия всевозможных национальных препятствий международной циркуляции капиталов. Смысл этих требований сводится к тому, чтобы на
национальном уровне заставить наемных работников конкурировать между собой,
что при фактически закрытых для миграции границах означает понижение товарной стоимости рабочей силы, особенно в странах, экономика которых не находится в своей наилучшей форме. Таким способом создается необходимый дифференциал для извлечения прибавочной стоимости. Здесь совсем не нужно говорить
о том, насколько различны стартовые позиции стран-конкурентов — в справедливость такого соревнования может поверить разве что простодушный.

Не надо большого ума, для того чтобы понять, что деньги как символическое
выражение богатства представляют собой достаточно редкий ресурс. Однако эта
редкость носит относительный характер — деньги доступны и дешевы в богатых
странах и регионах, но дороги в бедных[10]. Ключевая роль в поиске формулы привлечения и локализации капитала принадлежит сегодня национальным государствам. Их задача — «социализировать» этот абстрактный дух, сделать его оседлым
и доступным для широких масс. В тех конкурентных условиях, которые предлагают упомянутые международные институты, у государств есть очень ограниченный арсенал протекционистских средств[11], препятствующих оттоку капитала
и ограждающих от деструктивных воздействий спекулятивного капитала. Однако
более эффективная и оправданная политика — это протекционизм по отношению к национальному рынку труда и использование «технологий» создания капиталоемкой, квалифицированной и производительной рабочей силы. В долгосрочной перспективе выиграют те государства, которые сумеют удачно
комбинировать рыночную политику с сильной социальной политикой.
Советский Союз, а затем и Россия, ради живой денежной ликвидности получали небольшие займы. В обмен от них требовали только бюджетной дисциплины,
создания стабильной банковской системы, снятия всех препятствий для свободной
циркуляции капитала, а также установления надежного политического режима[12].
Выполняя эти условия, как мы сегодня понимаем, Россия потеряла больше капитальных ресурсов (через вывоз капитала), чем приобрела. Тем не менее, она постепенно научилась использовать протекционистские средства, более дерзко стала
прибегать к методам политического и экономического давления. Тем самым в некоторых областях она отошла от романтического следования неолиберальной рыночной догме. Но беда сегодняшнего этапа развития заключается в том, что политическая и интеллектуальная элиты России продолжают верить в неолиберальную
догму как в волшебное средство здоровой перестройки социальной жизни.
Люди, сидящие в международных финансовых и коммерческих институтах,
пришли туда не посредством демократических выборов, а, следовательно, не несут никакой ответственности перед избирателями. Это — так называемые «эксперты», которые следуют набору одобренных политическими элитами государств-доноров квазинаучных доктрин. Эти эксперты — не столько носители
знания, сколько проводники идеологии и определенных эгоистических интересов. Принимая эти доктрины для своего внутреннего пользования, политические
элиты государств — реципиентов вроде России не только отказываются от своего
демократического мандата, но принимают чужие правила игры на своем поле, тем
самым ограничивают собственный суверенитет. А фактически, добровольно передают капитальные ресурсы в чужие руки. В целом распространение рыночных отношений в российском обществе не только способствовало распространению
индивидуалистического пессимизма, но повысило ощущение неопределенности
и дефицита государства, а следовательно, постепенно сформировало политическую потребность в более интенсивном вмешательстве государства. Если эта потребность не будет находить соответствующего политического отклика, тогда восстановить уже подорванное доверие к рынку (а он, если им умно пользоваться,
может быть действительно эффективным) будет чрезвычайно трудно.
При капитализме именно публичным институтам, выражавшим разнонаправленные тенденции политической борьбы, принадлежала исключительная роль
в придании социальной направленности хаотической динамике рыночных стихий. В странах, где капитализм интенсивно развивался, уже в начале XIX века почувствовали, насколько рискованно быстро он трансформировал такие экзистенциальные территории человека, как город и деревня, места отправления
культа, семейное пространство, кланы и пр. Столь же интенсивные изменения
происходили в формах организации «рабочего пространства». Одним из ключевых институтов была государственная машина, которая, пытаясь понизить социальную напряженность в обществе, фактически изобретала целый ряд социальных технологий производства специфического товара «рабочая сила». И делалось
это с помощью комплексных механизмов (техники регулирования найма, медицинского страхования, семейных и имущественных отношений, образования
и пр.), которые были названы социальной защитой или страхованием13.
Пожалуй, только рыночный романтизм в его неолиберальной версии и безоговорочный приоритет экономического роста, который с неизбежностью повышает социальные риски, может похоронить рыночные реформы. В обществе, где
такая вера становится доминирующей, над судьбой отдельного человека простирается не столько знамя свободы — главная идеологема неолиберализма, сколько три проклятия: во-первых, его лишают малой (или большой) родины и обрекают на постоянное скитание и миграцию, во-вторых, он живет всегда в кредит
и постоянно кому-то должен (пусть даже через внешний государственный долг),
в-третьих, чтобы жить, он должен учиться себя продавать, и это качество превращается в единственное мерило его достоинства и морали.
[1] Карл Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Социология. М., 2000.
С. 186.
[2] Deleuze G. & Guttari F. A thousand plateaus. London: Athlone Press, 1999. Р. 454.
[3] Карл Поланьи называет труд, наряду с землей и деньгами, «фиктивным товаром», поскольку, «исходя из эмпирического определения товара», он таковым не является: «Труд — это лишь
другое название для определенной человеческой деятельности, теснейшим образом связанной
с самим процессом жизни, которая, в свою очередь, “производится” не для продажи, а имеет
совершенно иной смысл; деятельность эту невозможно отделить от других проявлений жизни,
сдать на хранение или пустить в оборот…» (Поланьи К. Великая трансформация. Политические
и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. С. 86–87).
[4] В Швейцарии, например, в 2000 году отрасли, связанные с новыми технологиями, испытывали нехватку примерно 20 тысяч программистов. Но уже в 2002 году государственные
службы зарегистрировали 4 тысячи безработных этой специальности.
[5] «Новая технология найдет свое применение, оказавшись в руках властных организаций и индивидов. Они приспособят ее для собственных целей. Большинство населения планеты
не является ни сильным, ни богатым» (Dunkerley М. The Jobless Economy? Computer
Technology in the World of Work. Cambridge: Polity Press, 1996).
[6] Krugman P. The Age of Diminished Expectations. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
[7] Duane D. Eggheads Unite // The New York Times Magazine. 2003. May 4
[http://www.nytimes.com/2003/05/04/magazine/04STUDENT.html]. В этой статье вы найдете более пространную иллюстрацию сумасбродной неолиберальной политики в стенах
современного западного университета.
[8] Особую тревогу общественности вызывают процессы, происходящие в приватизированном секторе медицинского и социального страхования. В особенности активное участие
страховых компаний и пенсионных фондов на финансовых рынках, которые вот уже третий
год переживают циклический и структурный кризис. Американцы, особенно
предпенсионного возраста, с грустью наблюдают, как их пенсионный капитал понизился
на 60 процентов. В европейских странах — на 40 процентов. В Швейцарии приватизация
страхового сектора привела к беспрецедентной дороговизне не только медицинских услуг,
но и страховых взносов. Последние подорожали за десять лет примерно в три раза. Среди
последних публикаций см., например, следующую: Walsh Mary W. Discord Over Efforts at
Valuing Pensions // The New York Times. 2003. 1 May.
[9] Поланьи К. Великая трансформация… С. 240.
[10] Имеется в виду стоимость кредита.
[11] Например, в Чили нашли интересный способ предохранения от «быстрого» спекулятивного капитала: шкала налогов на инвестиции зависит от их срока, т. е. если они долговременные,
то налоги ниже, если кратковременные, то высокие. Китай же в течение нескольких лет
поддерживает намеренно низкий обменный курс юаня — таким способом дотируется
китайский экспорт. Если чилийская формула вполне соответствует духу и букве
международного коммерческого права, то китайскую можно назвать «серой».
[12] О том, к чему привело совершенное игнорирование социальных проблем ради соблюдения бюджетной дисциплины, можно прочитать в книге лауреата Нобелевской премии
Дж. Штиглица: Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. New York, 2002. Читайте
в особенности главу “Who Lost Russia” («Кто потерял Россию»).
