Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Цветоделение как геополитическая проблема
Самюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева,
Ю. Новикова. М.: ООО «Издательство АСТ»,
2003. 605 с. (Серия «Philosophy»).
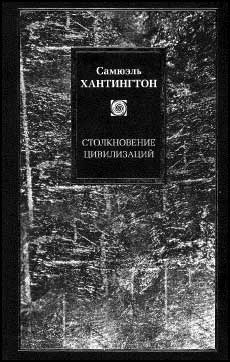
Книга “The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order” (1996) выросла
из статьи 1993 года “The Clash of
Civilizations?”. За три года знак вопроса уступил место «созданию ремейка мирового порядка». Кинематографические коннотации
слова «ремейк» в данном случае могут быть
весьма продуктивны: представьте, что «мировой порядок» — это старая черно-белая
картина, владельцы которой предложили известному и талантливому режиссеру сделать цветной «ремейк»
с новыми актерами в роли
старых персонажей. Вот так
и Хантингтон перекрашивает старую черно-белую
карту мира, причем, что любопытно, тяготеет именно
к семи цветам («семь цветов
радуги») и выделяет западную, латиноамериканскую,
исламскую, синскую, индуистскую, православную
и японскую цивилизации.
Африканская цивилизация
стоит под знаком вопроса
(«африканская?»). Буддистская цивилизация беззаконным путем проникла на
карту (с. 22–23) в виде белой
лакуны. «Субсахарская» Африка, таким образом, задним числом получает свой «исконный» черный цвет. Черный и белый цвета —
не совсем цвета. Африканская и буддистская
цивилизации — не совсем цивилизации. Все
логично.
Основная идея труда, как сообщает Хантингтон, состоит в том, что в мире после
холодной войны в, так сказать, потеплевшем
мире различные виды культурной идентификации определяют модели сплоченности, дезинтеграции и конфликта. Урок книги специально для западного читателя: «Выживание
Запада зависит от того, подтвердят ли вновь
американцы свою западную идентификацию
и примут ли жители Запада свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную,
а также их объединения для сохранения цивилизации против вызовов не-западных
обществ» (с. 16). Первый шаг фундаментально-геополитического рассуждения — редукция всей многообразной эмпирической причинности к трансцендентальной идее
«культуры». Так, утверждается, что восточноазиатский экономический успех обусловлен
восточноазиатской культурой, причины провала демократии в большей части мусульманского мира кроются в исламской культуре,
одновременный успех в экономике и в демократии проистекает из западного христианства, а «…перспективы экономического и политического развития в православных странах
туманны» (с. 26). На втором шаге Хантингтон
доказывает, что модели единого или двухполюсного мира, равно как
статистическая многоцентровая модель и «модель хаоса», совершенно не годятся для понимания мира.
Одни чересчур абстрактны
и страдают пороками
ориентализма (упоминается
Эдвард Сэд, известный также как Эдуард Печальный),
другие чересчур конкретны
и лишены перспективы. Одни близоруки, другие дальнозорки. Первым больше
подойдет масштаб изящного сувенирного глобуса,
вторым — масштаб подробного многостраничного
атласа. Хантингтон в своих
построениях явно ориентирован на модель разноцветной настенной карты.
На следующем шаге предлагается доказательство того, что цивилизация есть предельная культурная идентификация. Во-первых,
автор апеллирует к единодушному согласию относительно того, что нельзя «на немецкий
манер» отделять культуру от цивилизации.
Цивилизация — это «…явно выраженная культура» (с. 48). А в культуре главное, как
известно, религия. Конечно, люди идентифицируют себя множеством различных способов. Поэтому, дабы цивилизации не показались всего лишь воображаемыми сущностями,
Хантингтон подкрепляет свой рассказ известным мифом о цивилизациях как очень долго
живущих организмах. Демонстрация реальности цивилизаций осуществляется посредством социально-психологической «теории отличительности»: «Люди определяют свою
идентичность при помощи того, чем они не
являются. В то время как возросшие общение, торговля и путешествия множат взаимодействия между цивилизациями, люди все чаще придают наибольшую важность своей
цивилизационной идентичности. Два европейца — один немец и один француз, — взаимодействуя друг с другом, будут идентифицировать себя как немца и француза. Два
европейца — один немец и один француз, —
взаимодействуя с двумя арабами, одним жителем Саудовской Аравии и одним египтянином, будут идентифицировать себя как европейцев и арабов» (с. 93). Собственно, дальше
просто констатируется, что поскольку люди
стали чаще встречаться, имеет место обострение цивилизационного самосознания. Однако аналогию можно продолжить. Допустим,
встретились эскимосская девушка из Канады,
протестантский гомосексуальный пастор ирландского происхождения из Сан-Франциско, боец ИРА, еврейский бизнесмен
из Москвы с расплывчатой конфессиональной идентификацией, дочь греческого миллионера и пожилая женщина из Сибири,
относящая себя к скопцам. Следует ли отсюда с логической неотвратимостью, что первые
трое будут при этом идентифицировать себя
как представителей западной цивилизации,
а другие трое — как представителей православной?
Другой пример Хантингтона проливает
некоторый свет на проблему: «Офицер армии
может идентифицировать себя институционально со своей ротой, полком, дивизией
и родом войск. Аналогично, любой человек
может идентифицировать себя со своим кланом, этнической группой, национальностью,
религией и цивилизацией. Рост важности
культурной идентификации на низком уровне может усилить ее значимость на высоком
уровне <…> В мире, где культура важна, взводы — это племена и этнические группы, полки — это народы, а армии — это цивилизации» (с. 191). Итак, цивилизационная
идентификация является институциональной,
а не естественной или стихийной. Чтобы
«алеманн» мог причислить себя к «западному
миру», надо, чтобы юго-запад Германии уже
являлся частью этого мира. Чтобы большие
массы людей вдруг осознали себя «мусульманами» в цивилизационном противостоянии
«Западу», надо, чтобы такого рода самосознание политически культивировалось и конструировалось, что как раз и выражается в феномене «Исламского возрождения». Модель
цивилизационной идентификации, на которую опирается Хантингтон, больше всего
подходит к «представителям исламской цивилизации» именно потому, что избранные
и наиболее активные носители исламского
самосознания сознают себя именно «бойцами» великой армии ислама.
Всякая цивилизация пишет свою историю как центральный сюжет истории человечества. «Западный» сюжет этой истории (если
можно говорить о «всемирной истории» как
об универсальном феномене) сегодня представлен упадочными и нежизнеспособными,
слишком мягкими формами «давосской культуры». Сегодня не-западные люди, полагает
Хантингтон, склонны мыслить жестко,
в терминах усиления политической власти,
религиозного возрождения в сильных и организованных формах, модернизации как «девестернизации» и «девестоксификации», стремления к собственному универсализму
(особенно силен нынче «азиатский универсализм» и «оксидентализм», см. с. 151–162).
Поскольку такого рода «возрожденческое»
мышление не характерно для, скажем, «православной цивилизации» (на институциональном уровне), автору требуется здесь более
тонкий инструментарий. Так, Украина характеризуется как расколотая страна, разделенная на униатский запад и православный восток. Расколотыми странами являются также
многие африканские, Индия, Китай, Филиппины, Индонезия и др., причем в основном
линии раскола проходят по границам «ислама», тогда как в сердцевине мусульманской
цивилизации, похоже, никакого раскола нет
(как нет там, впрочем, и «стержневой страны», подобной Америке в западном мире
или России в православном). Россия, наряду
с Турцией и Мексикой, является страной разорванной (т. е. ее лидеры ориентированы на
другую цивилизацию). Впрочем, когда «…русские перестали вести себя как марксисты
и стали вести себя как русские, разрыв между
ними и Западом увеличился» (с. 216). Что касается Турции, то она вполне могла бы стать
«стержневым государством» ислама, если бы
отказалась от идеи светскости и наследия
Ататюрка (с. 277–278).
Столкновения цивилизаций могут происходить как по линиям разлома (внутри
«расколотых стран»), так и между «стержневыми государствами». Конфликты первого
рода происходят в основном по границам
ислама, конфликт второго рода возможен между западными странами и Китаем. Причины
многовекового конфликта христианства
и ислама «…кроются вовсе не в таких преходящих феноменах, как рвение христиан двенадцатого века или фундаментализм мусульман века двадцатого. Они проистекают
из природы двух религий <…> С одной стороны, конфликт породили различия, а особенно — мусульманское представление ислама
как образа жизни, выходящего за границы государства и объединяющего религию и политику, в то время как западнохристианская
концепция отделяет царство Божие и царство
кесаря. Также конфликт проистекал и из
сходства обеих религий. Обе они являются
монотеистичными <…> и обе воспринимают
мир дуалистически — “мы” и “они”. Обе
являются универсалистскими, и каждая провозглашает себя единственно верной. Обе —
миссионерские и основаны на убеждении,
что их последователи обязаны обращать неверующих в единственно истинную веру <…>
Помимо этого, для ислама и христианства,
как и для иудаизма, характерен телеологический взгляд на историю» (с. 329–330). Ислам,
по выражению Хантингтона, — это цивилизация с «кровавыми границами» (с. 418). На той
же странице утверждается, что мусульмане
предрасположены к насилию вообще и в международных конфликтах в частности, последнее демонстрируется подробной статистикой:
«…ислам с самого начала был религией меча
<…> в мусульманском учении и практике отсутствует концепция отказа от применения
насилия» (с. 428). Следует также учесть, что
конфликты по линиям разломов в принципе
неразрешимы (с. 479).
Отметим также критику Хантингтоном
мультикультурализма (с. 502–505), разоблачение универсализма как неверного, аморального и опасного (с. 511), утверждение,
что в интересах США и европейских стран
«…признать Россию как стержневую страну
православной культуры и крупную региональную державу, имеющую законные
интересы в области обеспечения безопасности своих южных рубежей» (с. 514), а также
призыв всем мировым цивилизациям
объединиться в общем противостоянии
варварству.
