Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Базарный век, жестокие сердца
Карл Поланьи. Великая трансформация:
Политические и экономические истоки
нашего времени / Пер. с англ. А. А. Васильева,
С. Е. Федорова, А. П. Шурбелева.
Под общ. ред. С. Е. Федорова. СПб.:
Алетейя, 2002. 313 с.
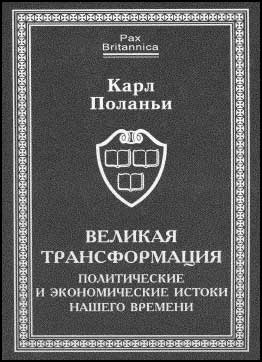
Книга Карла Поланьи, изданная в 1944 году,
состоит из трех разделов. В первом («Международная система») и третьем («Ход трансформации») описывается окончательный
крах цивилизации XIX века, наступивший
в 1930-е годы. Во втором, самом большом
разделе («Подъем и крах рыночной экономики»), анализируется другая трансформация,
которая как раз и привела к установлению этой
цивилизации. Так что в
книге идет речь о двух
трансформациях, из которых вторая явилась естественной реакцией на
первую.
Источником и порождающей моделью
рухнувшей системы был
саморегулирующийся
рынок. «Мы намерены
показать, что идея саморегулирующегося рынка
основывается на самой
настоящей утопии. Подобный институт не
мог бы просуществовать
сколько-нибудь долго,
не разрушив при этом
человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически
уничтожил человека, а среду его обитания
превратил в пустыню» (с. 13–14). Это и есть
центральный тезис книги. Система развалилась потому, что общество, противодействуя
однажды установленному рынку, мешало
ему саморегулироваться, в результате чего
рынок обрушился вместе с обслуживающей
его социальной организацией. Уникальность
цивилизации XIX века заключалась именно
в том, что она, вопреки правилам, искусственным путем основала самое себя на фундаменте определенного и ясно очерченного
институционального механизма. Этим механизмом была международная банковская система и финансовая олигархия как ее ядро.
Для своего функционирования эта система
нуждалась в мире — явлении, немыслимом
в XVIII веке. И когда она рухнула где-то на
рубеже XIX–XX веков, мировая война последовала с логической неотвратимостью.
Тут аргументация Поланьи приобретает
неожиданный оборот: «В соответствии с понятиями этого века первое послевоенное десятилетие воспринималось как революционная эра, в свете же нашего недавнего опыта
оно получает совершенно иной смысл. Основная тенденция десятилетия была глубоко
консервативной, отражая почти всеобщее
убеждение в том, что лишь восстановление
довоенной системы… способно возвратить
людям мир и благоденствие. Крах этой попытки вернуться в прошлое и вызвал трансформацию 30-х гг.» (с. 34). В этом широком
смысле ориентации на
идеалы «буржуазных» революций и в более узком
смысле непоколебимой
веры в золотой стандарт
«Ленин и Троцкий… принадлежали к западной
традиции» (с. 35). Вера
в золотой стандарт была
верой эпохи. Замысел его
восстановления «был самым грандиозным предприятием в истории нашего мира» (с. 37). И этот
замысел потерпел крах.
В 1923–1926 годах основные европейские страны,
и победившие, и побежденные, стабилизировали
свои валюты. Однако уже
в 1931 году от золотого
стандарта отказалась Великобритания, а в 1933-м — Америка. Мировая экономика исчезла. История почти мгновенно изменила свой ход.
Исследование причин катаклизма Поланьи начинает с обращения к эпохе промышленной революции: «…мы решительно
утверждаем, что после того как в коммерциализированном обществе начали использоваться в производстве сложные машины и агрегаты, практическое формирование идеи
саморегулирующегося рынка стало неизбежным» (с. 52). Чтобы такое сложное производство окупало себя, все элементы процесса,
в том числе сырье и труд, должны находиться
в открытой продаже. Но сырье — это просто
другое название для природы, а труд — для человека. Чтобы сделать очевидным катастрофический характер превращения природы
и человека в товар, Поланьи совершает экскурс в историю экономики. Вплоть до нашей
эпохи, утверждает Поланьи, не существовало
экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка. Прибыль и доход,
получаемые посредством обмена, никогда
не играли важной роли. Склонность «естественного человека» к прибыльным занятиям, к которой апеллировал, например,
Адам Смит, — не более чем фикция. «Недавние изыскания историков и антропологов
привели к замечательному открытию: экономическая деятельность человека, как правило, полностью подчинена общей системе
социальных связей… экономическая система
приводится в действие неэкономическими
мотивами» (с. 58). Думается, где-то здесь
в оригинальном тексте и появляется словечко
embeddedness или, по крайней мере, породивший его глагол (точнее, past participle)
embedded. Употребление этих выражений
у Поланьи носит терминологический характер, что, к сожалению, не отражено в русском
переводе. В соответствующих контекстах переводчики используют глаголы «подчинять»,
«погружать», «встраивать» и производные
от них. Итак, если нормальным состоянием
экономики является ее погруженность
в общество, то в рыночной утопии общество
модифицируется таким образом, чтобы
эффективно погрузиться в экономику. Не
следует думать (как это делал, например,
Фернан Бродель), что, согласно Поланьи,
в XIX веке экономика на самом деле
была эффективно выгружена (disembedded)
из общества. Тезис Поланьи состоит как раз
в том, что этого не могло произойти.
Традиционные экономики управляются
принципами, которые сами по себе не являются экономическими: это взаимность (reciprocity),
перераспределение и принцип домашнего хозяйства (греческая oeconomia). Действенность
этих принципов обеспечивается институциональными моделями симметрии, центричности и автаркии. Ярким примером сложнейшей
торговой системы, сам принцип работы которой исключает мотив прибыли и склонность
к меновой торговле, служит (или, скорее, уже
служило) «кольцо Кула» в Западной Меланезии. К месту пришелся и Аристотель, который
«указывал… на глубокое противоречие между
изолированно действующим экономическим
мотивом и социальными связями» (с. 67).
Если классическая рыночная доктрина начинает с «естественной» склонности индивида
к обмену, дедуцирует из нее необходимость
появления местных рынков и разделения труда и выводит отсюда неизбежность торговли,
в конечном счете внешней и в том числе дальней, то на самом деле исходным пунктом является географически обусловленное наличие
дальней торговли, которая изначально напоминает не столько обмен, сколько рискованное путешествие, охоту, пиратство или войну.
Местные рынки обустраивались (посредством
сложной системы запретов) так, чтобы исключить мотив личного обогащения путем обмена. Города возникли не столько для защиты
рынков, сколько для предотвращения их экспансии в сельскую местность. «Фактически
внутренняя торговля в Западной Европе возникла благодаря вмешательству государства…
[поскольку] города всячески противодействовали формированию национального, или внутреннего, рынка, которого так упорно требовали капиталисты-оптовики» (с. 76–78).
В XV–XVI веках городам была навязана система меркантилизма, вовсе не предполагавшая,
однако, стопроцентно свободную и конкурентную торговлю. Рынки не мыслились
без жесткого регулирования. Пока не наступила промышленная революция.
Революция потребовала организации
по рыночной модели основных факторов
промышленности, а именно труда, земли
и денег, каковые — и это один из центральных аргументов Поланьи — суть фиктивные
товары, не предназначенные на самом деле
для продажи. Труд неотделим от самой жизни, земля синонимична природе, а реальные
деньги — это просто символ покупательной
способности, которая, «как правило, вообще
не производится для продажи» (с. 87). Рыночная экономика, следовательно, зиждется
на фикции. В том смысле, что она несовместима с основами человеческого бытия. Основы эти суть выживание человека как вида и сохранение среды его жизнеобитания. Поланьи
детально анализирует, как в 1795 году, когда
был смягчен акт 1662 года об оседлости и рынок труда готов уже был возникнуть, благодаря принятой собравшимися в Спинхемленде
беркширскими мировыми судьями системе
денежной помощи бедным (бедными тогда
считались все, кто должен был работать, чтобы жить) в дополнение к заработной плате создание этого рынка задержалось до 1834 года
(Акт о реформе закона о бедных). Несмотря
на то что система Спинхемленда обеспечивала «право на жизнь», в сочетании с несправедливыми законами 1799–1800 годов против
рабочих союзов (профсоюзы разрешили лишь
в 1870 году) она привела к падению заработной платы и массовому пауперизму. Значение
этой ситуации трудно переоценить: «все наше
социальное сознание формировалось по модели, заданной Спинхемлендом» (с. 99).
Именно благодаря спорам вокруг Закона
о бедных и фигуры паупера открытие общества произошло в форме политической экономии. И, что в конце концов и определило облик рыночной цивилизации, форма эта была
натуралистической. Нищета и голод были
укоренены в самой Природе, и самым эффективным способом борьбы с нищетой было
объявлено естественное воздействие голода,
принуждающее паупера продавать свой труд.
На практике же оказалось (только этого
никто не хотел замечать), что сам по себе
принцип laissez-faire[1] не способен естественным образом породить свободный рынок (это
и означает, что никакого выгружения не произошло). Потребовалось громадное расширение административных функций государства
и обеспечение идеальной прозрачности общественного механизма для чиновничьего взгляда (Поланьи даже сравнивает бюрократическую организацию «свободного рынка»
с «Паноптикумом» Бентама, с. 157). Таким образом, принцип «невмешательства» на деле
привел к невероятному увеличению масштаба
вмешательства. «Этот парадокс дополнялся
другим, еще более удивительным. Экономика
laissez-faire была продуктом сознательной государственной политики, между тем последующие [начиная с 1870 года] ограничения
принципа laissez-faire начались совершенно
стихийным образом» (с. 158). Развитие рынка
было задержано здоровым и прагматичным
стремлением общества к самозащите. В основе
«коллективистских» и «протекционистских»
мер (социальное законодательство, фабричные законы, аграрные тарифы, земельные законы, централизация банковского дела, таможенные пошлины) лежал не экономический,
а социальный интерес, который, в обобщенном
виде, состоял в том, чтобы вывести фиктивные
товары из сферы влияния рынка. Номиналистическая утопия либерализма, объявившая нации и деньги лишенными реального существования, неизбежно корректировалась
реалистической политикой правительств
и центральных эмиссионных банков. На рубеже 1870–1880-х годов «…нации превращались
в органическое целое, которое могло жестоко
пострадать из-за потрясений, обусловленных
любого рода поспешной адаптацией к требованиям внешней торговли и валютного курса»
(с. 235). Именно протекционистским требованием стабильности валюты, а не мифическим
заговором империалистов объясняется активная колониальная политика после 1880 года.
В последней части книги Поланьи вновь
обращается к событиям двух послевоенных
десятилетий. Тут особенно интересной представляется трактовка феномена фашизма как
программы реформы рыночной экономики
путем ликвидации демократических институтов, лишения личности «естественных человеческих свойств» и отрицания идеи «человеческого братства». Появление фашизма
не связано с местными причинами. Более того, термин движение к фашизму неприложим,
фашизм вообще не связан с феноменами
«массовости». Фашизм — это скорее сдвиг,
нежели движение. Его предпосылка (как и социализма) — отказ рыночного общества нормально функционировать. В этом смысле фашизм не следует путать с контрреволюцией
или националистическим пересмотром итогов мировой войны, ибо в этих двух случаях
речь идет всего лишь о восстановлении status
quo. «Фактически роль фашизма определялась одним-единственным фактором — состоянием рыночной системы» (с. 263). Так,
в короткий период восстановления золотого
стандарта фашизм практически исчез со сцены. Зато после 1930 года, когда рыночную
экономику поразил тотальный кризис, фашизм за несколько лет превратился в мировую силу, сделав ставку на окончательное
уничтожение рыночных институтов.
Неявный потенциал этой на первый
взгляд несколько туманной трактовки на самом деле очень велик. Дело в том, что большинство теорий фашизма и тоталитаризма
сводятся к констатации одержимости фашиста какой-то непонятной и чуждой логикой, или навязчивой идеей, фантазмом, комплексом и т. д. Одержимость инстинктом,
движением к некой коллективной цели, слепой верой, одержимость массовостью и коллективной телесностью как таковой, одержимость формой… Разумеется, в сочетании
с трансформацией собственного «я», с устранением каких-то специфически человеческих
качеств. «Фашизм» чаще всего является воплощением того или иного метафизического
концепта, например «антитрансценденции»
(Эрнст Нольте). Фашизм собирается укоренить культуру и жизненный мир человека
в природе, вне истории; фашизм состоит
в массовой идентификации с некой воображаемой фигурой… Короче говоря, фашист
мыслит (если вообще мыслит) и действует несколько иначе, чем обычный человек в обычных обстоятельствах.
Тогда конструктивное ядро утверждений
Поланьи можно эксплицировать следующим
образом. Независимо от того, существует ли
массовое фашистское движение и как именно
устроена психика тех или иных «фашистов»,
следует четко различать стадии «фашистского
сдвига». В тот момент, когда мировая экономика исчезает подобно следу на песке, определенные влиятельные лица, действуя вполне
рационально (или, что то же самое, социально), пытаются сохранить свой высокий статус, но уже не на экономических, а на «чисто
социальных» основаниях, для чего им требуется полная изоляция страны и возможность
«конструировать» социальные отношения.
К власти приводятся «фашисты». После чего
действительно устанавливается социальный
порядок на вполне произвольных основаниях, возможно, по абстрактной «сословно-монархической» или «кастовой» модели,
и не всегда в пользу тех самых лиц. На этой
стадии в процесс перераспределения статусов
включается множество людей, которые опять
же могут преследовать самые разные интересы. Фашизм — это как бы реванш социального, вдруг высвободившегося из-под гнета экономических отношений. Если бы в результате
перестройки социума не были созданы концлагеря и гетто, а была бы установлена, скажем, идиллическая система взаимных даров,
публичных форумов и совместных трапез,
произошедший «сдвиг» и в этом случае следовало бы квалифицировать как «фашистский».
Остается выяснить, была ли Вторая русская
революция рубежа 1920–1930-х годов «фашистской» по своей направленности. Поланьи не дает на этот счет четких указаний, однако, вероятнее всего, склоняется к тому, что
не была. Если на первой стадии «фашистского сдвига» некие лица используют ситуацию
для защиты своих сугубо «классовых» интересов, то сталинский поворот продиктован необходимостью приспосабливаться к новым мировым обстоятельствам с точки зрения
«национального» интереса. Это нехитрое различие открывает простор для критического
пересмотра спекулятивных концепций тоталитарности и тоталитаризма.
[1] Принцип неограниченной свободы предпринимательства.
