Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Биомеханический человек
А. К. Гастев. Как надо работать:
Практическое введение в науку организации
труда. М., 1966 (переиздание статей
начала 1920-х годов).
мы научились сильно ударять (фронт)
теперь надо научиться методично
нажимать
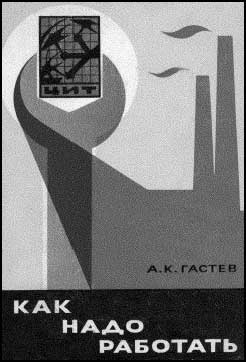
А. К. Гастев, слоган из статьи
«Бьет час» в брошюре
«Восстание культуры», 1923
Пореволюционные двадцатые годы были
временем на изумление креативным. «Стаи
идей носились в воздухе»[1]. Новое видение, новое искусство, гениальные новаторства, левый
пафос, пароход современности, порыв перетряхнуть все устоявшиеся понятия — моменты
предвосхищения далекого будущего и полное
футуристическое безумие тесно переплетались,
но равно претендовали
на немедленное воплощение.
Алексей Капитонович
Гастев (1882, Суздаль) —
сын учителя и портнихи, фабричный рабочий
и большевик со стажем,
профессиональный революционер с 1900 года, чередовавший ссылки со вполне настоящей работой на заводах, в том числе и в эмиграции.
Он же — один из ведущих поэтов Пролеткульта. Главным своим художественным (!)
произведением Гастев считал организованный им в 1921 году ЦИТ — Центральный
институт труда. Инициативу поддержал сам
Ленин, распорядившийся среди голода и разрухи выделить ЦИТу полмиллиона золотых
рублей («Такое учреждение мы все же таки,
и при трудном положении, поддержать должны»[2]), впрочем, на практике ужавшихся до
недополученных восьми тысяч.
Гастев трансформировался в теоретика
и основоположника научной организации
труда. В отличие от многих своих коллег —
и с их стороны это вызывало яростные нападки — он внимательно изучал западный опыт
усовершенствования организации труда —
Тейлора, Форда; с Фордом даже переписывался. Особенность подхода Гастева состояла
в том, что он сосредотачивался на организации отдельного рабочего места («узкая база»,
как говорили его критики), доказывал принципиальное сходство трудового процесса
на любом месте, будь то рабочий у станка или
руководитель («рабочий за станком — это директор предприятия»), и пытался вывести для
этого процесса какие-то общие формулы, как
мы бы сейчас сказали, алгоритмы (адепты
Гастева называли его предтечей кибернетики). Гастев предлагал исходить
из подробного анализа
«установки» рабочих операций. Для начала он
выбрал технику рубки
зубилом (его личные пристрастия рабочего-металлиста). Подробности движения рук, положения
корпуса, оттачивание и оптимизация каждого элемента: «Машина работает
исправно тогда, когда правильно установлена станина и инструмент. Машина-автомат работает
исправно, быстро и точно — как заведена, так
и идет, — а заводка зависит
от установки. С человеком
то же самое: установка тела и установка нервов определяет движение, определяет трудовую сноровку. Сначала движение (работа)
идет трудно, а как только выработается у-станов-ка, движение идет уверенно, точно и быстро. Установка создается постепенно тренировкой. Эту тренировку можно точно
рассчитать, сделать легкой. Тренировкой же
можно воспитать быстрый переход от одной
установки к другой» (с. 156). Он это называл
социальной инженерией, биоинженеризмом
(адепты — предвидением эргономики).
Доктрина трудовых установок была положена в основу разработанной ЦИТом обучающей
методики, при помощи которой удавалось
готовить квалифицированного рабочего за
три-шесть месяцев, а не за несколько лет, как
водилось в тогдашних фабрично-заводских
школах. В годы НЭПа выученики ЦИТа были
нарасхват у работодателей.
Гастев: «Мы приходим… к идее такого
синтетического строго рассчитанного режима реакций и движений, которые включались бы определенной системой механизмов и машин, и все обучение было бы по
существу машинным движением»[3]. Работник (в идеале) — «социально-инженерная
машина»:
«В машине-орудии
все рассчитано и подогнано.
Будем также рассчитывать
и живую машину — человека» (с. 101).
Это была попытка сформулировать ответ
на вызов времени. Не один только Гастев,
но целая генерация левых 20-х годов явственно, насущно, в качестве главной черты современности ощущала пришествие Машины.
К этому надо было как-то относиться. Тогда
тема машины прочно вошла (въехала?)
в искусство и литературу, в самых разных вариациях, от спасительных изобретений до
кошмарного бунта машин. Гастев смотрел на
это дело взглядом бывалого слесаря: «Мир машины, мир оборудования, мир трудового урбанизма создает особенные связанные коллективы, рождает особые типы людей, которые
мы должны принять, принять так же, как мы
принимаем машину, а не бьем свою голову о
ее шестерни. Мы должны внести какие-то поправочные коэффициенты в ее железный дисциплинарный гнет, но история настоятельно
требует ставить не эти маленькие проблемы
социальной охраны личности, а скорее смелого проектирования человеческой психологии
в зависимости от такого исторического фактора, как машины» (с. 24).
В изложении же Гастева-поэта вопрос
выглядел так:
ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК
АМЕБЕ — давшей реакцию,
СОБАКЕ — величайшему
другу, зовущему
к упражнению.
ОБЕЗЬЯНЕ — урагану
живого движения,
РУКЕ — чудесной
интуиции воли
и конструкции,
ДИКАРЮ с его каменным
ударом,
ИНСТРУМЕНТУ,
как знамени воли,
МАШИНЕ — учителю
точности и скорости
и ВСЕМ СМЕЛЬЧАКАМ,
зовущим к
ПЕРЕДЕЛКЕ ЧЕЛОВЕКА.
ПРОКЛЯТЬЕ всем
трусам,
ханжам,
мракобесам,
подымающим вой и визг
по дорогам и площадям,
где мчится наша машина.
ЗДРАВСТВУЙ ЖЕ!
Здравствуй весело
боевой наш
ЖЕЛЕЗНЫЙ
ПОЛНОКРОВНЫЙ
УВЕРЕННЫЙ
МОНТАЖ!
Удивительно ли, что изучив труды этого
основоположника НОТ, мы не найдем в них
слов о «повышении производительности труда». Равно как и любых других, касающихся
собственно хозяйственного результата.
Труд — вообще не для того. Труд — это чтобы
все ровными рядами (Гастев то и дело возвращается к образу заводской проходной, за пять
минут пропускающей тысячи пришедших по
гудку рабочих), труд — это перековка человека с оглядкой на уроки, данные машиной.
Истоки этого порыва оказываются вполне человечными и по-своему здравыми (и не
так уж сильно попахивают запалом гитлерюгенда какого-нибудь), если вчитаться в начальные пояснения самого Гастева, понять,
от чего он отталкивался. «Пора перестать
ждать, перестать надеяться на заморское счастье. Из той рухляди, какая осталась, надо начать делать все своими руками» (с. 34). В самом деле.
«Картинно-героический, иллюминационный период революции прошел. Наступила эпоха созиданий, работы. Но она лишь декларирована, она не обозначена в широком
действии, методической воле» (с. 34). Страна
охвачена болезнью «раздумья, неверия, скептицизма, ожидания». «Как безумно мало людей», готовых методично работать. «О, как мало их, тех, которые способны “долбить”!
<…> Огромные массы работников теперь
пребывают в состоянии косного ожидания
сторонних неведомых сил. Они убеждены,
что придет заграница и “даст”; придут какието люди и “ох, и заработают”. Чем пассивнее
люди, тем больше у них всяких ориентаций
на внешние силы. <…> Подавляющая масса
интеллигенции оказалась неприспособленной ни к темпу войны, ни к темпу революции, ни к темпу нашего возрождения…
Хныканье и скептицизм идут рядом с организационной и бытовой неряшливостью. В разоренной бедной стране мы ведем себя так,
как будто земля стонет под тяжестью амбаров.
Нам вовсе не некогда, мы не спешим. При каждом вопросе, даже архислужебном, мы, прежде всего, даем реплику: “а? что?” И первой
мыслью является вовсе не действие, а попытка отпарировать усилие и действие. “А может
быть это и не надо”, “А если там скажут”.
Словом, вместо простых слов: “слушаю”,
“да”, “нет”, — целая философия; недаром
у нас в России так много философов и психологов. Быть может, это обратная сторона пассивности, неповоротливости. Быть может, эта
философская загруженность — просто путаность, неряшливость мысли. Бытовая неряшливость — наше главное зло. “Это мелочь, это
пустяк, это поверхностно — требовать, чтобы
стол был чистый и бумаги в порядке”, — говорят столичные, уездные и деревенские россияне, все время разрешающие мировые вопросы. <…> Пора же, пора нам спохватиться!»
(с. 34–35).
Ну да, и другой, гораздо более известный
автор указывал, что если вместо работы все
начнут петь хором, то начнется разруха.
И Гастев предлагает на самом деле нехитрые лекарства. Дисциплина. Порядок на рабочем месте. Сноровка. А там, глядишь,
придет и большее. Гастев, далекий от интеллигентских штучек, полагает, что «культура —
это сумма привычек народа, его уменье трудиться, сумма его обработочных возможностей» (с. 51). Вот немцы работают лучше —
так они и культурнее (интересно, полагал ли
Гастев, что это марксизм?). И начинать надо
с физических навыков. «Прежде всего, нам
необходим элементарный физический тренаж… Мы должны биться за создание особой
пластики движений… Теперь мы можем использовать весь богатый исторический материал, который дала нам армия, спорт, ремесло, и создать экономные нормали движений.
Словом, мы должны создать бытовую биомеханику. Каждый гражданин, и особенно
тот, кто учится в школе, в университете, проходит ряды армии, — все должны пройти искус экономных и ловких движений. <…> Надо научиться владеть своим телом, надо ликвидировать стихийную, физическую распущенность, когда все тело не работает, а беспомощно гуляет» (с. 51).
Заметим кстати, что за всякими отрицательными гастевскими примерами маячат
фигуры если не философствующего разгильдяя-интеллигента («Люди, которые возражают против автоматизации, это — чудаки, с которыми надо разговаривать на эти темы как
раз в тот момент, когда они с открытым ртом
попадаются под колеса трамвая» (с. 52)), то —
русского крестьянина. Пролетарий же, напротив, являет собою пример положительный. У него даже походка лучше. Как-то уж
очень досадили большевикам товарищи крестьяне, все хотелось их обстругивать да
обстругивать.
«Можно было бы не требовать, чтобы человек знал обязательно какое-нибудь ремесло, но обязательно нужно требовать, чтобы
каждый гражданин точно владел двумя
основными проявлениями работы — ударом
и нажимом» (с. 52). Любопытный взгляд
на вещи.
Жесткий, суровый физический тренаж
повлечет за собою тренаж психологический.
«Конечно, нельзя проповедовать телесных
наказаний, но, во всяком случае, надо без колебаний ставить суровый терпеливый тренаж,
не чуждый и принуждения» (с. 53). (Нет, всетаки югенд.) Затем должны расцвести: наблюдательность (фиксированное внимание,
настороженность, жизненный анализ);
изобразительность (внятность и скорость речи и письма, владение графикой и искусством фотографии); воля (готовность к действию); режим, организация; не будут
лишними и социальные установки (приветливость, культурная условность). «Сноровка
и выдержка прежде всего должна быть в ваших работающих руках, в ваших ходящих ногах. Она автоматически даст выдержку и сноровку вашей голове: мы создадим твердых,
волевых и в то же время выдержанных людей»
(с. 33). Короче, возвращаемся к идее человека-машины. Никакого скрипа и расхлябанности.
Нет, может быть, приход к власти Сталина был не худшим вариантом? На таком фоне? человеков-машин отменили, Пролеткульт распустили, ЦИТ упразднили, Гастева
расстреляли в 39-м. Всего-то ввели уголовную ответственность за опоздание на работу.
Забавно порассуждать о том, кто из них,
Гастев или Сталин, был бoльшим марксистом
и сколь извилистыми путями развиваются
идеи коллективизма. Гастева коллективистская мечта в практическом преломлении привела к мелочным советам по обустройству индивидуального рабочего места и организации
личного времени. Одним из любимых его детищ была идея хронометрирования — ЦИТ
разработал специальные графленые карточки
для каждодневного учета времени, причем не
только рабочего, но и всего дня. Похоже при
этом, что вопросы рационального управления и организации труда на уровне хотя бы
структурных подразделений предприятия —
т. е. собственно проблемы коллективного
труда — творца советского НОТ волновали
мало. Он полагал, что коли у руководителя
бумаги на столе в порядке и график рабочего
дня составлен прилежно — то и ладно, и дело
пойдет. Возможно, для чумового начала 20-х
это был уже неплохой результат («Безумная
чехарда перемен амплуа, положений… продолжается. Только вчера еще он был председателем треста, завтра он уже занят организацией труппы; сегодня он спец по калориям,
завтра заведует банями. Революционная эпоха требует, конечно, скачки, но наступила
эпоха отстоя, и универсализм превращается в
надоедливую паутину» (с. 34)).
Гастев, в рядах леваков 20-х, хотел влезть
в каждую индивидуальную душу, переиначить
ее на коллективный лад, чтоб человек встал
в общий строй добровольно и считал себя
счастливым. Сталин столь глубоко в души залезать раздумал, а просто согнал всех в лагеря, чтоб там они ходили шеренгами и жили по
общему/строгому режиму — ощущения счастья не требовалось, недобровольный характер построения признавался. Кто из них посягнул на большее насилие над личностью?
В сущности, если отрешиться от обязательной революционной фразеологии, в лице
Сталина к власти пришел человек глубоко патриархально-консервативных взглядов. Не
любил он левацких немереных инициатив.
И левого искусства не любил. Любил простое,
понятное, кондовое. От завода он хотел — пятилетнего плана, а не тренировки трудовых
установок до полного автоматизма. Очевидно,
что ЦИТ с его амбициями и сталинские пятилетки не то чтобы вступали в противоречие,
а просто существовали в непересекающихся
реальностях. Если одна из них вполне воплощалась, то другая приобретала характер четвертого измерения. И кто-то один неизбежно
должен был стать материальнее, другой же —
вылинять до смутной тени. Характерно, кстати, что о Гастеве вспомнили и переиздали его
книги в 60-х годах: не только вследствие реабилитанса, но и по некоему ностальгическому
тогдашнему сочувствию левой революционной романтике и эстетике. (В предисловиях
много говорилось о современности идей Гастева, предшествовании кибернетике и пр.)
В советской реальности от ЦИТа остались
разговоры о призрачном НОТе, сводившемся
все к тому же хронометрированию (теоретически оно должно было лечь в основу установленных норм выработки, каковые, отчитавшись о кропотливых научных изысканиях,
устанавливали от винта — такими, чтоб любой
ленивый перевыполнял план к своей и руководства пользе) да к трогательным советам:
предметы, используемые правой рукой, класть
от себя справа, а используемые левой — слева.
[1] А. и Б. Стругацкие, по другому поводу.
[2] Цит. по: Гастев Ю. А. От «социальной инженерии» к кибернетике // Гастев А. К. Трудовые установки / Под ред. Ю. А. Гастева, Е. А. Петрова. М., 1973. С. 8.
[3] Гастев Ю. А. Указ. соч. С. 19.
