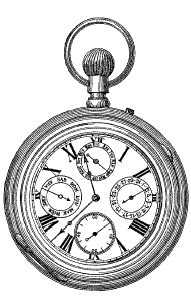Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Реформирование российской науки: анализ и перспективы
По прошествии десяти лет с начала радикальных реформ советской экономической системы вполне уместно проанализировать, к чему сегодня привели те меры и усилия, которые были предприняты правительством Егора Гайдара и отчасти Виктора Черномырдина в начале 1990-х. Да, именно в начале 1990-х, ибо я отношусь к тем участникам событий, кто убежден, что начиная с середины 1990-х годов прошлого века и до самого конца эпохи Бориса Ельцина процесс реформирования экономики был приостановлен и полностью замещен процессами борьбы за собственность и власть. Однако и тех немногих лет хватило, чтобы провести необратимые институциональные изменения в обществе — узаконить частную собственность на средства производства и свободные цены, создать новые финансовую и банковскую системы, ввести конвертируемый рубль, «открыть» российскую экономику и встроить ее в мировое рыночное хозяйство.
В то же время оказалось, что цена этих преобразований гораздо выше ожидавшейся. Причем не только из-за ошибочных или неоптимальных решений, принимаемых людьми, которым история доверила это право.
Важнейшей причиной здесь стало колоссальное сопротивление (а иногда и откровенный саботаж) старой элиты, не желающей сдавать свои позиции. В результате во многих сферах народного хозяйства, во многих подсистемах отечественной экономики реформы либо не были доведены до конца, либо вообще не начинались. Например, только в наше время всерьез заговорили о реформах жилищно-коммунального хозяйства, естественных монополий, банковской системы и т. д.
К сожалению, к таким «недореформированным» секторам относится и научно-техническая сфера. Об этом было ясно и откровенно заявлено (в который уже раз?) на недавнем объединенном заседании Совета безопасности, президиума Госсовета и Совета по научно-технической политике при президенте России. И вновь выступления представителей власти, включая президента страны, и представителей научно-технической элиты напоминали диалог глухих. Власть вежливо и мягко призывала ученых отказаться от архаичных методов ведения «хозяйства», включиться в построение современной инновационной экономики. Большинство же мэтров отечественной науки и техники также вежливо просили власть увеличить долю финансирования сферы НИОКР, по крайней мере в два раза. Тогда, мол, мы сможем для вас что-нибудь сделать.
Стороны согласились сблизить свои позиции к 2010 году. По результатам совещания был принят специальный документ — «Основы политики страны в научно-технической сфере», — документ столь же правильный, сколь и разочаровывающий своей многословной констатацией хорошо известных истин.
Драматизм же этой ситуации в том, что обе стороны по-своему правы, однако власть права прагматично — современно, т. е. права конкретно и сегодня. Ученые же правы абстрактно и «ностальгически вчера». Действительно, разве можно за эти деньги делать настоящую Большую Науку — как в Америке или объединенной Европе? Конечно нельзя, значит, и не ждите от нас ничего.
А может быть, все-таки пора понять, что Россия на пороге веков — это (увы!) не Америка, что наша экономика ближе, например, к португальской и что надо строить эффективную сферу НИОКР в расчете на те ресурсы, которые общество может сегодня реально в нее инвестировать?
Наследство, которое мы получили
Итак, почему в начале 1990-х так остро встал вопрос о немедленном реформировании советской научно-технической системы, почему с началом революционных, болезненных преобразований в российской экономике нельзя было оставить старую систему организации и управления НИОКР? Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо вернуться в прошлое и хотя бы кратко рассмотреть достоинства и недостатки советской схемы организации НИОКР.
Но прежде одно существенное уточнение по поводу возможных вариантов действий в 1992 году. Противники реформ нередко заявляют: все делали не так, отобрали деньги, загубили науку, оставили бы лучше все как было. Как будто бы у нас был выбор. Я еще в 1992 году сказал, что наука «попала под паровоз» экономических реформ. К концу 1991 года, после августовского путча и особенно после формального распада СССР, стало совершенно ясно, что страна катится в пропасть. Необходимо было немедленно начать строить формальные институты нового государства и одновременно начинать коренную реформу разваливающейся экономической системы. Короче — строить демократическое государство и рыночную экономику.
Эти решения были приняты политическим руководством страны, и они автоматически приводили к появлению частной собственности, радикальному изменению роли государства в экономике, глубокой демилитаризации. Федеральный бюджет на науку в 1992–1993 годах сокращался в разы, промышленность, озабоченная собственным выживанием, практически полностью отказывалась от заказов на НИОКР, исчезало и большинство союзных министерств-заказчиков. Таковы были «начальные условия» жизни науки в 1992 году.
Нам было ясно, что в этих условиях говорить о том, чтобы оставить в науке все «как есть», не только наивно, но и преступно. Фактически речь шла о спасении самого ценного: надо было сохранять наиболее сильные школы, конкурентоспособные научные коллективы. Для этого необходимо было срочно задействовать механизмы конкурсного отбора лучших проектов. Еще в 1986 году мы принесли в ЦК КПСС предложения, оформленные письменно (первый раз — в1983 году): в них говорилось о необходимости создания государственного научного фонда, с конкурсами, с оценками коллег и т. д. Но в душе мы понимали: научный фонд — это другая идеология, идеология свободы. Не может фонд существовать в условиях идеологии, согласно которой все ресурсы распределяются сверху донизу в административно-командной системе управления. И это при том, что наука была более демократична, чем материальное производство. Но, в принципе, устроена советская наука была так же, как и вся командно-административная экономика. Это была огромная социально-экономическая система, организованная на принципах многоэтажной иерархии. Основополагающим в той схеме была ведомственность, т. е. разделение всего народного хозяйства на вертикально-интегрированные блоки, во главе которых стояли конкретные министерства (ведомства). Над ними были Совмин и ЦК КПСС, но на самом деле ни ЦК, ни Совмин реально не способны были анализировать всю информацию, все сюжеты экономического и государственного развития. Они отдавали некоторые существенные права ведомствам, которые нередко становились «государствами в государстве» (Минсредмаш или нынешний Минатом, например). Потому что ведомственность — это всего лишь три главных права: право назначить-снять руководителя нижестоящего предприятия, право полного контроля над его финансовыми и материальными потоками, а также право распоряжаться его имуществом. Но именно этого достаточно, чтобы все, что внизу, по сути, принадлежало ведомству. И хотя de jure собственность была государственной, в том числе и на интеллектуальный продукт (в этом, кстати, причина всех наших «не внедрений»), но de facto собственником было ведомство. Все народное хозяйство СССР делилось на два очень различных сектора — военно-промышленный комплекс (ВПК) и гражданский. При этом все качественные ресурсы экономики, в том числе интеллектуальные, в основном сосредоточивались в ВПК, а гражданскому доставались так называемые массовые (теория Ю. В. Яременко). Все это в полной мере относилось и к научно-технической сфере. Это хорошо объясняло, например, почему истребитель Су-27 летает уже четверть века и конкурентоспособен, а зерновой комбайн «Ростсельмаша» в1970-х годах работал до первого отказа в среднем 16 часов. Потому что этот самолет конструировался и создавался мировыми авиационными школами, куда приходили выпускники МАИ, МВТУ, Физтеха и т. д., производился на уникальном (в том числе импортном) оборудовании из самых лучших материалов (сплавов, композитов) и т. д. А упомянутый комбайн создавался в основном выпускниками местных педвузов из «стали-3» и соответствующих резинотехнических изделий на универсальных советских станках типа ДИП-200.
Доктрина «холодной войны», а значит, автаркии, замкнутости вынуждала на первое место ставить критерий выживания системы, нации. Идеологи власти играли на тонких струнах каждого из нас — на защиту Родины все отдадим, и отдавали все. Остальные жизненно важные сферы обеспечивались по остаточному принципу.
Точно такие же приоритеты действовали и в сфере НИОКР, поэтому в СССР было не только две экономики, но и две науки: военно-ориентированная и гражданская.
Фундаментальная наука, и в частности Академия наук СССР, по своему престижу, снабжению ресурсами была ближе к оборонному сектору, хотя не везде и не всегда. Так, новосибирский Академгородок 70–75 процентов средств получал от оборонных заказов. Но это не означало, что там занимались разработкой оружия. Нет, проводились фундаментальные работы по теории взрывов, микробиологии и т. д., которые можно было использовать и в гражданской жизни.
Широко распространено убеждение, что у советской науки было два хозяина: ЦК и ВПК. В этом, безусловно, много правды. Про ВПК я уже сказал, что же касается ЦК, то его влияние распространялось не только на общественные и гуманитарные науки (там-то уж точно все были «построены»), но и на науки естественные. Самые известные факты «закрытия» генетики и кибернетики иллюстрируют одну из печальных особенностей советской науки, когда целые направления были нами провалены, потому что запрещено было этим заниматься.
Кроме идеологических и политических причин наши технологические провалы нередко объяснялись излишней секретностью. Мы во многом проигрывали из-за того, что информационная инфраструктура науки и техники была рассечена барьерами даже тогда, когда это не диктовалось безопасностью. Иногда секретность маскировала собственное незнание, внутриведомственные недостатки.
Итак, характерные черты советской науки: первое — существование двух секторов с очень разным качеством потенциала, второе — громоздкая административно-командная схема управления и распределения ресурсов. Один из очевидных недостатков в такой схеме — очень длинные управленческие ходы. Известно, что иерархические схемы хорошо работают, когда ходы короткие (лаборатория, команда) либо когда это мобилизационная экономика, например в условиях войны, когда приказы не обсуждаются, а если не исполняются — расстрел.
Кроме того, ведомственность и закрытость (секретность) приводили к дублированию, неэффективному использованию ресурсов.
Организационная структура советской науки была представлена в основном крупными и сверхкрупными коллективами; обычным был НИИ в несколько тысяч ученых и инженеров. Трудно эффективно управлять исследовательскими коллективами в 1000 человек — это ведь не промышленное предприятие с хорошо отлаженной технологией. В науке «производящие знания» ячейки должны быть свободными и самостоятельными в поиске решений. Поэтому-то в нижних этажах такой иерархии творческие команды жили относительно свободно — было бы бюджетное финансирование (под большую численность выбивался большой бюджет), а дальше они делали что хотели, так как и отчетность была не очень «прозрачной» и не очень детальной.
Это было важное и полезное для фундаментальной науки свойство советской схемы. Бюджет НИИ формировался и диктовался в основном либо «генералами от науки», либо самими ведомствами, либо просто численностью, поскольку всхеме базового финансирования, если у вас 1000 человек, вы и в следующем году получите средств на 1000 человек, а если удастся, то выбьете и сверх того. Здесь не надо было самому исследователю искать ресурсы, вы действительно занимались чем вам хочется.
Научные исследования, как и все в советской экономике, планировались на пять лет вперед. Само по себе это неплохо. Но нелепо было в науке, а тем более в фундаментальной твердо планировать получение конкретного результата. А именно под него и давались ресурсы, за которые потом надо было отчитаться. Однако все знали, что в пятилетние планы записывались почти готовые результаты, а потом народ занимался тем, что было интересно.
Это удобно для самой научной системы. Но с точки зрения наиболее рационального использования общественных ресурсов система была неэффективна. В ней легко «прятались» целые области второсортной, а иногда и откровенной псевдонауки. Такая система могла существовать только в условиях закрытой экономики, в условиях отсутствия межстрановой конкуренции.
Были ли преимущества в такой системе организации науки? Безусловно. О первом, наиболее важном преимуществе я уже сказал — это почти идеальная система для занятия фундаментальными и поисковыми исследованиями. Хотя в ведомственной схеме организации и управления очень трудно объективно распознать «плохих» и «хороших». Второе преимущество — возможность для государства решать в ограниченные отрезки времени крупные научно-технические задачи национального масштаба. Проекты ядерной бомбы, освоения космоса осуществлялись, когда все ресурсы общества можно было сконцентрировать на одной-двух задачах, ни у кого не спрашивая: ведь все — государственное. И организационные структуры самого научно-технического сектора были хорошо приспособлены именно к таким задачам.
В условиях закрытости страны ее руководство уверяло нас, что вся наша наука находится на мировом уровне. Увы, это было далеко не так. Были люди талантливые и самоотверженные. По «гамбургскому счету» в науке все знают, кто есть кто. Но за их спинами и в их тени скрывалось столько псевдоученых, что, когда все открылось, стало ясно: есть сторона нравственная, а есть чисто экономическая. Таэкономика, которая позволяла себе содержать науку, равную науке Соединенных Штатов, при том что у нас ВВП во много раз меньше, была мобилизационной экономикой, экономикой насильственного призыва, и все ресурсы шли туда, где что-то ковалось: щиты, мечи и т. д.
Но была за это и определенная плата. Понятно, почему до сих пор у нас нет ни нормальной транспортной инфраструктуры, ни связи, ни конкурентоспособной гражданской промышленности.
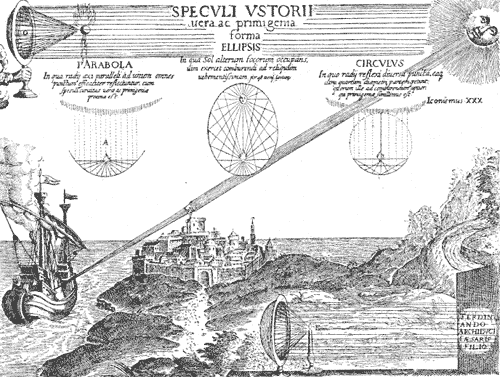
Важный тезис — наука, ее качество, эффективность, продуктивность, если хотите, в огромной степени зависит от экономики, от экономической системы, в которую она включена. Образно говоря, не может быть хорошей науки в плохой экономике. Одно из наших исследований советской науки того времени (Варшавский А. Е. Проблемы ускорения технического прогресса. Экономические науки, 1986, № 11) показало, что мы нередко высказывали оригинальные научные идеи одновременно с западными учеными, но, как только требовалось построить установку, ускоритель, реактор, мы неизбежно отставали. Потому что «там» строят пять лет, а у нас — пятнадцать — двадцать; рыночная экономика гораздо более гибкая и откликается на конкретный заказ. А у нас нужно было включить НИР в пятилетний план, чтобы ресурсы выделить... Но наука медлить не может. Сверхзависимость от экономического механизма — это самый существенный ответ на то, почему мы сейчас такие, почему у нас такая наука, почему нас так мало в науке осталось. Советская наука была очень трудоизбыточна в отличие от фондовооруженной, приборовооруженной западной (или японской). Не только крестьяне и рабочие у нас были самые дешевые, но и ученые тоже. Многие из них сегодня забывают, что они и тогда были очень дешевые. Вся советская экономика, в том числе и сфера НИОКР, имела затратный характер, в ней никто не считал денег, и именно поэтому она была экономически неэффективной.
Хотя парадокс в том, что одновременно наша наука иногда могла относительно скромными средствами решать довольно сложные задачи за счет высокой «интеллектуалоемкости»: нет мощных компьютеров — есть хорошие программисты. Но масштабные технологические задачи так решить было невозможно. Программу очень хитрую можно было создать, материал какой-нибудь изобрести, опыт один провести, но создать и поддерживать на конкурентном уровне огромную технологическую систему было невозможно. Негибкая, малоподвижная, убивающая инициативу экономическая система неизбежно приводила к технологическому отставанию.
Советская научная система относительно хорошо себя чувствовала в условиях экстенсивного роста, в условиях постоянного притока новых ресурсов. Недаром «золотой век» советской науки приходится на 1960-е — начало 1970-х годов, когда в страну текли потоки нефтедолларов. Тогда в ходу была такая формула: новая проблема — новая лаборатория, большая проблема — новый институт. Численность научных работников в те годы росла с ежегодным темпом прироста в7–10 процентов (!). С тем же связаны проблемы наукоградов. Я их назвал «городами на одно поколение» (например, Пущино). В эти города все ресурсы и продукты ввозились извне, вывозилось же только одно — новые знания (интеллектуальный продукт). Такая система абсолютно не приспособлена для нормального воспроизводства, потому что наивно предполагать, что через 20–30 лет все дети, а потом и внуки пущинских биологов тоже будут биологами. Но ведь больше им в этом городе заняться нечем! Кроме НИИ, в этих городах ничего не было. Тогда как «слева» должен быть колледж широкого профиля, университет, а «справа» — инновационный бизнес и высокотехнологичная промышленность. В этом смысле новосибирский Академгородок был построен более удачно. Это более крупная система, а вот Пущино, Троицк, некоторые «закрытые» города без радикальной структурной реформы не имеют будущего. Что делать с наукоградами? В них должны быть и университет, и инновационная промышленность. Дайте образованным людям рабочие места, и эта система начнет сама себя воспроизводить. Иначе все время придется что-то подвозить и что-то вывозить. Но это можно было делать только в мобилизационной экономике. Еще один важный вопрос: чем должна заниматься российская наука? В условиях «холодной войны» и противостояния ответ очевиден — всем! Но сегодня так же очевидно, что, во-первых, это требует колоссальных затрат и, во-вторых, невозможно везде обеспечить необходимый потенциал и качество. Тем не менее в советские времена у нас доминировала концепция «сплошного фронта» исследований, что и породило еще одну причину низкой эффективности в ряде секторов сферы НИОКР. Следующая особенность (нередко остающаяся в тени), которая имела колоссальное влияние на функционирование научно-технической сферы, — полное «огосударствление» интеллектуального продукта, где бы и кем бы он ни создавался. Это означало, что ученый, инженер, новатор были лишены главного стимула, главной мотивации: выгодно реализовать, окупить результат своего интеллектуального труда. Поэтому широко распространена сейчас метафора (я тоже люблю ее использовать): Россия — страна Кулибиных, а Америка — страна Эдисонов. Кулибин — изобретатель; это то, что мы можем, — изобрести и в одном экземпляре сделать. А Эдисон — человек, который, обладая правом на результат, делает из этого бизнес, т.е. коммерциализирует изобретение и становится богатым и независимым. При советской системе у нас было много нереализованных новшеств и мало инноваций, потому что инновация — это проданное или купленное новшество. А если куплено, значит, есть потребитель, который из этого извлечет какую-то пользу, прибыль. Коммерциализация новшества превращает его в инновацию.
Раньше это называлось у нас «внедрением». У изобретателя, после того как он получил свидетельство об изобретении, фактически отнимали все права и говорили: вот тебе авторское свидетельство и 150 рублей. А дальше мы — государство— владеем этим, и именно мы займемся коммерциализацией. Но государство не может хорошо заниматься коммерциализацией. У чиновника никакой мотивации для этого нет. Чиновник должен управлять, а не торговать.
Таким образом, у изобретателя, новатора, государство отнимало главный стимул дальнейшей деятельности. Тем самым мы сразу обрекали себя на неизбежное отставание по мере ускорения научно-технического прогресса.
Выбор курса реформ
С середины 1980-х годов ХХ века наше отставание в ряде приоритетных направлений науки и технологий стало угрожающе нарастать. Подчеркну, что одной из важнейших причин этого явились системные недостатки модели науки советского типа. Еще раз перечислю основные:
— закрытость, непрозрачность системы и как следствие — отсутствие реальной связи между общественными потребностями и приоритетами научно-технической политики;
— неэффективное управление выделяемыми на науку огромными ресурсами;
— сверхцентрализация управления и как следствие очень низкая гибкость и мобильность системы;
— неоправданная трудоизбыточность системы, порождавшая значительную массу «балласта», что в итоге приводило к еще большему снижению эффективности научной системы.
Все это указывало уже тогда на необходимость реформирования огромной и неповоротливой научной системы. Однако реальные и открытые обсуждения вариантов реформирования отечественной науки стали возможными только в горбачевскую эпоху, когда научно-техническая интеллигенция получила наконец политические свободы. Многие помнят, сколько резких слов было произнесено на митингах и собраниях в институтах АН СССР по поводу «феодальных порядков» в академии, по поводу необходимости участия «низов» в управлении научными коллективами, по поводу так называемых профсоюзных академиков ит. п. Апофеозом движения за реформирование всей советской научной системы была организация акции (с митингом у стен президиума АН СССР) в поддержку Андрея Сахарова, за его избрание делегатом Съезда народных депутатов СССР. Одновременно возникли сильные союзы ученых с вполне практичными программами реформирования прежде всего Академии наук СССР.
Увы, все это ушло в тень огромных политических и экономических проблем, возникших сразу после распада СССР и начала шоковой терапии в России. Темне менее мы (в правительстве Егора Гайдара) чувствовали свою ответственность за продолжение борьбы за свободу научного творчества и переустройство нашей науки на демократических принципах. Другое дело, что в 1992 году на первое место вышли не политические, а экономические императивы.
В 1992 году начала меняться вся экономическая парадигма, менялся, по сути, общественный строй, как же можно было оставить «нетронутой» советскую систему науки? Мы хотели сделать науку гораздо более компактной, отвечающей новой модели экономики — рыночной. Это означало, что все экономические субъекты становятся равноправными с государством и играют на равных. Если говорить об экономике, у государства только одна привилегия — оно, к сожалению или к счастью, задает условия и правила игры. Нам было ясно, что в такой экономике, гибкой и четко считающей ресурсы, выживет только та наука, которая нужна потребителю, будь то частная фирма или государство.
В результате в декабре 1991 года нами были приняты следующие базовые постулаты реформы.
Во-первых, было очевидно, что в условиях глубокого экономического кризиса и демилитаризации государство не способно будет сохранить советскую науку в прежнем объеме. По нашим прогнозам того времени, за 3–5 лет она должна будет сократиться в 2–3 раза и приобрести размеры, соответствующие экономическим возможностям нового государства.
Во-вторых, надо было создать юридические основы и экономические механизмы обеспечения свободы научного творчества, равного доступа к информации и другим ресурсам. Иными словами, обеспечить условия состязательности, конкуренции и создать систему вневедомственной, по возможности объективной оценки идей, результатов и т. п.
В-третьих, необходимо было законодательно обеспечить право собственности разработчиков, в том числе и частных лиц, на результаты своей интеллектуальной деятельности; создать новую законодательную базу науки в целом.
В-четвертых, необходимо было отказаться от «сплошного фронта» исследований и сохранить только те направления, где мы имели достижения мирового уровня. Отсюда неизбежен был переход к селективной политике, к жесткому выбору приоритетов.
В-пятых, надо было закрепить принцип открытости российской науки и обеспечить ее включенность в мировое научное сообщество.
В-шестых, следовало перейти в основном к целевому, проектному финансированию, а также радикально улучшить управление ресурсами науки.
Конечно, мы не выдумывали новые механизмы организации и управления наукой «из головы», модели научных систем, адекватных рыночным экономикам, уже существовали. Никто не идеализировал Запад, но тем не менее в ряде развитых стран модели науки были более гибкими, более подвижными и в итоге более продуктивными.
Например, одной из причин излишней консервативности советской научной системы было отсутствие механизма естественной ротации кадров, особенно молодых. Выпускник нашего вуза, попавший в научно-исследовательский институт, чаще всего работал там до пенсии. А в США существовал, так сказать, «эдисоновский» канал: многие в 25–35 лет что-то изобретали и хотели реализовать «это» в инновационном бизнесе. И уходили из науки в бизнес, освобождая места новым кадрам. Сейчас подобное возможно и у нас — уже существует более 30 тысяч новационных предприятий, где люди пытаются на основе своих ноу-хау открыть собственное дело (бизнес). И это не второсортная наука. Это другая наука— на ней все технологии растут. Когда исследуют строение Вселенной или крыло бабочки— это хорошо. Но когда от этих ученых требуют внедрить что-то— это нонсенс. Внедряют Эдисоны, люди другого склада. А вот для них в экономике должен быть открыт особый путь, должна быть создана инфраструктура, в том числе в виде фондового рынка, где торгуют акциями привлекательных компаний; они растут в цене, как вырос, например, «Майкрософт» Билла Гейтса и многие фирмы в сфере программирования и Интернета. А собственно в науке, в той сфере, где «добывается» новое знание, главное — обеспечить свободу научного творчества, обеспечить доступ к государственным ресурсам всем способным и талантливым. Здесь самой важной задачей было создание системы государственных научных фондов.
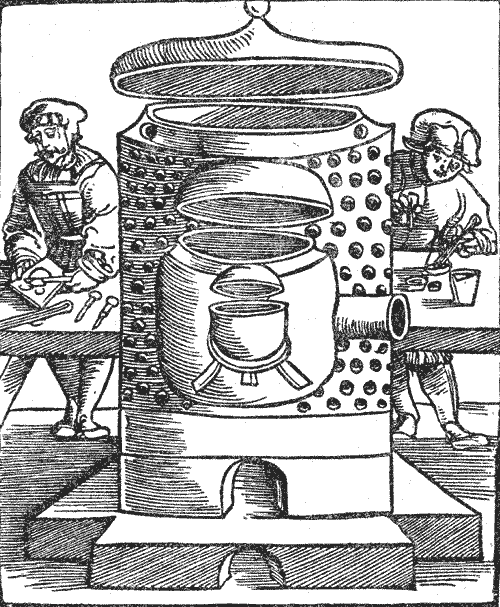
Российские фонды — это, конечно, новая веха, новая идеология и технология. Свобода — это идеология фондов. Это огромный шаг вперед по сравнению с тотальной ведомственной схемой распределения ресурсов. Это значит, что каждый может, ни у кого не спрашивая, подать заявку. Он будет оценен своими же коллегами: экспертиза peer review. Он пройдет конкурс, т. е. соревнование за ресурсы, которые получат только лучшие. Конечно, это теория, потому что в«живых» социальных системах немедленно возникает столкновение интересов, борьба. В итоге возникают научные кланы и справедливость нередко нарушается. Значит, и здесь нужна ротация кадров, ротация экспертных советов, ротация даже аппаратов фондов.
Например, в Национальном научном фонде США каждые три года меняется, по-моему, одна треть или половина начальников отраслевых отделов. Но все упирается в экономическую систему. В США человек гораздо более мобилен: бросает Вашингтон и уезжает в Хьюстон, покупает новый дом. Все просто. А у нас, если ты потерял место в фонде, то куда сегодня денешься? Вернешься ли в науку? Тем не менее к этому постепенно надо идти. Структура только формируется.
В фондах действует и новая технология — органично встроенный в систему механизм конкурсного отбора лучших проектов на основе оценки коллег-ученых (peerreview). И наконец, в фондах действуют новые механизмы финансирования (через целевой грант) и прозрачные механизмы отчетности и контроля. Нередко принято считать, что поскольку в фундаментальной науке часто не бывает практических результатов, то нечего и отчитываться. Но в фундаментальной науке и отрицательный результат — это тоже результат. Вы должны опубликовать то, что вы сделали на эти деньги, что во всех фондах по гранту и положено. А когда опубликовано, уже само сообщество способно оценить, много ли и хорошо ли на эти деньги коллектив сделал, т. е. вы и ваша работа видны, как за стеклом. А раньше все было в темноте. Для авторов это может быть хорошо: нет отчета — нет контроля. Но не для общества и научного сообщества. За ресурсы всегда идет конкурентная борьба, она шла и в советской науке. Важно совсем другое — правила этой борьбы должны быть понятны и едины для всех.
Итак, я рассматриваю фонды как новый для нас институт финансирования фундаментальных исследований, эффективность которого подтверждает мировой опыт. В этой связи я абсолютно убежден, что доля фондов (РФФИ и РГНФ) в общем бюджете на науку постепенно должна возрасти в 2–3 раза.
С другой стороны, фонды — не альтернатива иным формам и механизмам финансирования НИОКР, а дополнение. Должны оставаться и базовое финансирование научных организаций (прежде всего их инфраструктуры), и финансирование крупных научных программ. Проблема в другом — на основании каких критериев должны работать эти традиционные механизмы. Сегодня эти критерии явно устарели, т. к. пришли из «той» системы.
Блестящей школой новой идеологии и технологии финансирования, кроме очевидного и ощутимого вклада в виде 120 миллионов долларов, оказался фонд Сороса. В начале 1993 года, когда РФФИ только брал разбег, фонд Сороса уже выпустил методические указания, как заполнять заявки на гранты и т. д. — всю новую для нас технологию расписал. Результаты опросов ученых-грантополучателей показали, что они были благодарны за то, что наконец поняли, как добываются деньги в науке. И когда подоспели наши русские фонды, многие люди были уже обучены новой технологии. Поэтому кроме огромного материального вклада это был отличный тренинг.
Определение приоритетов
Много внутренних дискуссий было у нас относительно селективной политики — политики поддержки приоритетных объектов и направлений. В итоге в процессе реформ 1992–1996 годов эта политика была реализована следующим образом.
Приоритеты в сети научных организаций прикладной науки выразились в масштабной программе создания и поддержки государственных научных центров (ГНЦ). Мы выбрали по конкурсу из многих сотен НИИ около 60 организаций в различных областях науки и техники (авиация, электроника, атомная энергетика и ядерная физика, новые материалы, биотехнологии и др.), которые правительство обязалось дополнительно поддержать из бюджета на период их реформирования (три года с последующим продлением решением специальной комиссии). Кстати, на первом этапе в этот список входили также и семь академических НИИ, обладающих уникальными исследовательскими установками. К сожалению, РАН впоследствии «отозвала» эти учреждения из программы поддержки ГНЦ, заявив, что вся академия является одним большим ГНЦ. На уровне крупных научных проблем политика приоритетов была реализована в виде четырех десятков государственных научно-технических программ, в которых участвовали научные группы из сотен НИИ разного профиля. На уровне конкретных технологий селективная политика выразилась в разработке списка критических технологий (около70), на которые предполагалось направить дополнительные ресурсы. Этот опыт нельзя признать полностью удачным. С одной стороны, список формировался под мощным давлением министерств и ведомств, что приводило к появлению в нем сомнительных технологий. С другой стороны, его разработка не привела к изменению практической политики финансирования НИОКР. Непреодолимым препятствием оказался ведомственный лоббизм. Кстати, сейчас, спустя шесть лет, ситуация полностью повторяется (лишь незначительно сужен список технологий). Хочется надеяться, что вторая попытка будет более успешной. На уровне материально-технической базы науки политика приоритетов была реализована нами в виде специальной программы поддержки уникальных исследовательских и экспериментальных установок. Принципы те же: конкурсный отбор ограниченного числа установок с помощью экспертизы, поддержка из бюджета только лучшей экспериментальной базы. Программа работает до сих пор. Наконец, понимая уникальную роль телекоммуникаций (в частности, Интернета) в науке и образовании, мы разработали(декабрь 1994 года) и поддержали отдельной строкой бюджета на НИОКР масштабную межведомственную программу по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры. Ее участниками стали Миннауки, Минобразования, РАН и РФФИ. Программа также работает и сегодня. Если в прикладных разработках с приоритетами все логично, то в фундаментальной науке все обстоит сложнее. Здесь нельзя заранее определить, где зернышко прорастет. Нужно вроде бы все. Я уверен, что необходимо иметь некую «систему слежения» по всему передовому фронту мировой науки, что надо иметь хотя бы небольшие научные группы, которые были бы «в курсе» и понимали «язык», знали, что в этой проблеме происходит. И, наблюдая, быть готовым нарастить потенциал там, где намечается крупный научный или технологический прорыв. Но «сплошной фронт», как в советские времена, сейчас невозможен. Для упомянутой цели достаточно иметь одну небольшую кафедру в вузе, а не научно-исследовательский институт в 1000 человек. Если этот институт сегодня оказался третьесортным, то забудьте о нем. А если есть там пять «умников», вот их и оставьте.
Надо пересмотреть и оптимизировать программу капитальных вложений в объекты науки, отказаться от финансирования неэффективных в научном плане установок, шире использовать международное сотрудничество. Ведь так поступают даже США, которые вложили в свое время полтора миллиарда долларов в супер ускоритель в Техасе, но не завершили его. Американский конгресс сказал: в Европе, в ЦЕРНе, есть один мощный ускоритель, которого хватит для всего мира. Мы будем вносить необходимые взносы, чтобы вы могли там работать, и работайте, пожалуйста.
Что сегодня очень мешает трезвым оценкам — так это советский синдром великой научной державы. «В США это есть, и мы должны!» Да не можем мы сегодня руководствоваться таким призывом. У нас вся наука получает столько, сколько один крупный американский университет! Реально опереться в возрождении нашего научного потенциала, в том числе академического, мы сегодня можем только на очень сильных ученых и современно мыслящих организаторов (менеджеров).
Еще один большой резерв для повышения эффективности сферы НИОКР — новые (т. е. рыночные) подходы к организации работы творческих коллективов, т. е. к микроэкономике НИОКР.
В массе своей мы все еще живем в советских научно-исследовательских институтах. Действительно, советский НИИ совмещал в себе все: форму управления научно-исследовательским процессом, управление кадрами, управление имущественным комплексом и финансовыми потоками. Никто не мог без решения ученого совета и директора нанять нового сотрудника в лабораторию (даже если есть деньги), повысить зарплату, купить прибор или компьютер. Сейчас стало чуть свободнее, но общая схема сохранилась.
Но существуют принципиально другие формы организации. Например, та, что была реализована нынешним заместителем министра промышленности, науки и технологий А. Фурсенко и его командой в Инновационно-технологическом центре «Светлана» в Петербурге. Здесь имущественным комплексом и всей инфраструктурой руководит специальная управляющая компания (некоммерческая структура). Комплекс включает в себя производственные и лабораторные помещения, выставку, тренинг-центр. Он обеспечивает научные фирмы, арендующие помещения, всеми необходимыми услугами (включая охрану). Но управляющая компания не может им ничего диктовать.
Эта схема применима и к чисто исследовательским организациям. В этом случае отдельные лаборатории (исследовательские группы, центры) живут почти самостоятельно (выбор исследовательских проектов, численность, уровень оплаты труда и проч.), арендуя необходимые площади, приборы и оборудование. Здесь должна выдерживаться общность проблематики (физика или, к примеру, биотехнология), что позволит иметь общий ученый совет (как информационно-совещательный орган, а не орган управления), общие инфраструктурные службы и т. д. Дирекция такого комплекса не вправе вмешиваться в экономическую жизнь ячеек.
Но так могут организоваться только сильные коллективы, «нахлебники» внутри этим структурам не нужны. Такие формы можно опробовать в процессе объединения нескольких нынешних «опустошенных» институтов.
Между прочим, новые формы организации науки (и вообще новая, нередко негосударственная наука) появились в гуманитарных и общественных сферах. Многие оперативные исследования, аналитика, консалтинговые услуги выполняются сегодня по заказам правительственных и частных структур не академическими институтами, а многочисленными негосударственными центрами, фондами, ассоциациями.
Важнейшим моментом реформы, почти не замеченным ни учеными, ни экономистами, ни журналистами, явилось введение института частной собственности на интеллектуальный продукт. Это стало возможным после подготовки и принятия в 1992 году нового российского патентного закона, закона об авторских и смежных правах и еще полдюжины законов в сфере интеллектуальной собственности. Их принятие открыло реальные возможности для появления в России инновационного бизнеса, т. е. бизнеса, основанного на коммерциализации изобретений.
Как мы уже упоминали, сегодня в России действует около 30 тысяч малых инновационных предприятий, которые, с одной стороны, являются пионерами рисковых направлений НТП, а с другой — дают сотни тысяч рабочих мест, в том числе бывшим работникам НИИ и КБ.
Упомянутые выше законы стали основной частью новой законодательной базы в науке, а ее стержнем на сегодня по-прежнему является принятый в 1996 году закон «О науке и научно-технической политике».
Кстати, для государственной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса нами были созданы два специализированных фонда — внебюджетный Российский фонд технологического развития (май 1992 года) и бюджетный Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере (1994 года).
Академии и академики
Рассуждаем ли мы о науке фундаментальной или прикладной, о перспективах ее развития, невозможно обойти молчанием традиционную для России форму организации науки — РАН. Меняется общество — меняются его институты, характер связей, функции. Трудно представить себе, что навсегда останется неизменной академическая система управления, кастовость, закрытость и непрозрачность финансовой деятельности этой организации. Главная проблема, о которой упоминал и российский президент, очевидна: в РАН совмещены две ипостаси. Во-первых, это уникальное сообщество ученых (как Французская академия, Британское королевское общество и т. д.), оно в любой стране может быть, должно быть и в России; и одновременно это ведомство — мощное, абсолютно советское ведомство, которое по-прежнему, по-старому в основном, распределяет ресурсы и управляет своими организациями. Когда я говорил о ведомственности как основном принципе управления в советской схеме, то это и сегодня почти полностью применимо к системе управления в РАН. За одним существенным исключением. Государство, как собственник, передавая ведомству имущество, контроль за денежными потоками и другие права, всегда оставляло за собой главное право (как выражение функции глобального контроля над ведомством) — назначение его руководителя решением правительства. Здесь-то и парадокс, этого не может быть в РАН как самоуправляемой общественной организации — она сама вправе выбирать своего президента. Но, с другой стороны, такого до сих пор не было и нет ни в одном государственном ведомстве — все их руководители назначаются правительством. Обсуждаемая коллизия возникла в советские времена (в1933–1935 годах), когда не было Гражданского кодекса и иных современных законов и она была всего лишь одной в длинном ряду правовых коллизий советского государства. Сегодня она требует четких правовых объяснений. Но это всего лишь правовая коллизия, суть же проблемы в другом. Весь научно-технический комплекс РАН по своим масштабам, методам организации и управления был адекватен экономическим возможностям и правилам игры советской административно-командной экономики 1960–1970-х годов прошлого века. Сейчас, когда вокруг РАН развивается рыночная экономика, нарождается совершенно новая национальная инновационная система и одновременно бюджетные ресурсы РАН, по словам ее руководства, сократились в 5–10 раз, невозможно эффективно функционировать в прежних масштабах и по старым правилам. Давно необходима глубокая структурная реформа академии. Ее целью должно быть не уничтожение РАН (что мне почему-то регулярно приписывают), а сохранение и укрепление этого уникального научно-технического комплекса страны. Спасти его может только продуманная реформа сети организаций, системы управления ими, механизмов распределения ресурсов и экономики самих научных учреждений. А вовсе не простое увеличение финансирования (например, в два раза) при сохранении старых схем и механизмов. Причем и президент в ежегодном Послании призывает «найти подходы, соответствующие нашим ресурсам, современной географии рынков, типам хозяйственных связей» и зовет отказаться наконец от старых форм, «помпезных и архаичных», которые так любят некоторые руководители академии.
У институтов РАН есть много возможностей вписаться в новую жизнь, т. е. получить финансы: это и бюджет, и гранты различных фондов; заказы промышленности, включая зарубежных заказчиков; эксплуатация имущественного комплекса, использование интеллектуальной собственности. Есть много примеров, когда академические НИИ отлично используют свои производственные возможности. Плохо, когда довольно слабые коллективы неплохо живут за счет аренды, тогда как хорошие такого источника порой не имеют.
Было предложение все арендные деньги собирать в централизованный фонд при академии и из этого фонда выделять деньги на покупку новых приборов и зарплату. Тогда это действительно будет помощь государства, которое дает не живые деньги, а право эксплуатировать свое имущество. Можно конвертировать эти фонды в деньги и использовать их для обновления оборудования и приборов. Но зарплату давать за счет аренды нехорошо, потому что это случайная рента. Повторяю, очень плохой институт может иметь большие площади и прекрасно жить, ничего не производя, а хороший институт, оказавшийся без помещений, будет нищенствовать. Это несправедливо.
Теперь по поводу схемы финансирования. Ведомство должно стать прозрачным. И жить по общим законам сегодняшней экономики. Например, американское министерство энергетики тоже управляет огромными государственными национальными лабораториями. Но там отчетность гораздо более строга и прозрачна, чем у нас. Нынешняя система распределения в академии базовых денег такова, что даже те, кто их получает, не знают, почему они получили именно эту сумму, а «сосед», который как будто бы по размерам меньше, получил денег больше.
И совсем невозможно потом привязать эти суммы к тому, что выдается в конечном счете как результат деятельности Академии наук. Результаты отдельно, а затраты — отдельно. В отличие от фондового, грантового типа финансирования невозможно понять, много или мало сделано на отпущенные деньги. Президенту России на прошлогодней встрече с президиумом РАН показалось, что маловато академия сделала на эти деньги... Академия говорит, что, наоборот, на них делается очень много, что, мол, на такие средства и выжить-то невозможно. И неизвестно, кто же прав. Неудивительно и то, что члены президиума были недовольны предложением президента провести «инвентаризацию громоздкой структуры в самой науке», потому что система непрозрачна и раскрываться ей невыгодно. По словам президента страны, в инвентаризации «объемной материальной базы икадров» отечественной науки «скрыты значительные резервы». Но раскрывать резервы и наводить порядок — дело хлопотное, проще требовать денег.
Еще в начале реформ, в 1993 году, Леонид Келдыш — один из лучших российских физиков — написал статью о судьбе академии. Он утверждал, что академия— плоть от плоти старой системы. А теперь экономическая система будет совсем другая. И академия в этой системе должна либо измениться, либо умереть. И указал на три очевидных направления изменения академических институтов.
Первое — интеграция с высшей школой и создание исследовательских университетов. Это не обязательно слияние физическое, речь идет о хорошо организованных и эффективно управляемых научно-образовательных комплексах, где сильны обе компоненты — и образование, и наука. Скажем, в новосибирском Академгородке это очень легко сделать, там есть десятки академических институтов, университет и специализированные вузы. Такой же вариант может быть в Зеленограде.
В США примерно две тысячи учреждений называются университетами, а часто упоминаются даже четыре тысячи, так как в это число включаются и колледжи. Из двух тысяч только около 150–180, т. е. меньше 1/10, имеют статус исследовательских университетов. Критерии отнесения к этой категории просты — объем выполненных НИОКР и число подготавливаемых докторов (устанавливается высокий порог). Остальные же университеты просто готовят людей с высшим образованием.
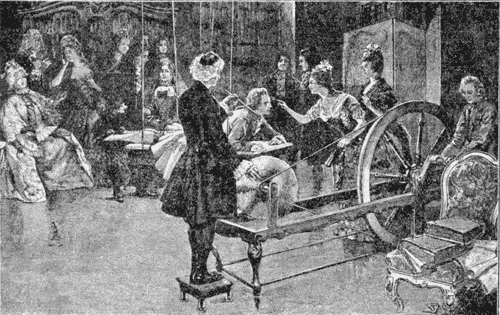
У нас МГУ — готовый образец исследовательского университета. Но лепить их много, быстро и наудачу не надо. Здесь должен быть тщательный отбор, пилотные проекты и длительный процесс. В Дубне создали эколого-ядерный университет. Сейчас он уже стал полноценным. В Пущине попытка была, но неудачная. А ведь почва там для организации университета благодатная. И детям будет где учиться, и не надо уезжать в Москву после получения образования: надо только инновационный сектор промышленности создать (биотехнологические фирмы и т. п.).
Вторая часть институтов академии volens nolens должна превратиться в наукоемкие фирмы. Они все меньше и меньше будут зависеть от бюджета. Государство, как правило, через фонды будет давать им деньги только на фундаментальные работы, а в основном они будут жить за счет того, что продают свои результаты промышленности.
Третий тип академических институтов относится к тем, что мы называли государственными научными центрами. Это институты, которые обладают уникальными исследовательскими и экспериментальными установками и приборами: ускорителями, реакторами, телескопами. Они должны основываться на современной «материальной базе» и могут управляться ведомством (хотя возможны и другие схемы), но предоставлять услуги (время и оборудование) любой исследовательской группе на конкурсной основе. Нам сейчас не по карману иметь многие десятки таких исследовательских центров, но выбрать и поддержать лучших, наиболее оснащенных — задача государственной важности.
Наверное, могут быть и другие варианты трансформации институтов, но надо уже что-то делать. Ведь десять лет прошло, а никаких программ преобразования даже не объявлено. Хотя, как всегда, отдельные институты РАН давно уже идут по пути таких реформ. Например, знаменитый петербургский Физтех стараниями Жореса Алферова постепенно превращается в научно-образовательный центр, а в последние годы наш нобелевский лауреат наконец поддержал идею создания пилотных высокотехнологических производств в рамках института. Другое дело, что все это отдельные примеры, а не ясная и продуманная программа реформирования академической системы.
Естественно, всякая реформа должна начинаться с «инвентаризации» имущества, коллективов (научных групп и их потенциала), результатов работ. Выводы ее нетрудно предвидеть: большое количество свободных (или сданных в аренду) помещений, устаревшее оборудование и приборы, постаревшие коллективы...
Но выбор у нас сегодня невелик. Простых решений не будет. Почти в каждом из существующих институтов сохранились сильные группы и лаборатории, поэтому потребуются сложные структурные решения. Это невероятно трудно, т. к. затрагивает интересы элиты, директоров, их заместителей. Вместо трех директоров может остаться один, кто-то из заведующих отделами станет руководителем научной группы в другом институте и т. п.
Нынешнее состояние — результат множества компромиссов
Итак, что же представляет собой нынешняя модель российской науки? Если сказать кратко, то это откровенно переходная, а значит, и не очень эффективная конструкция. Другими словами, это модель, в которой часть структур и механизмов привнесена почти без изменений из административно-командной системы, другая их часть вполне адекватна принципам рыночной экономики. Если не давать никаких качественных оценок тем или иным явлениям и процессам, то нынешнюю модель российской науки можно описать следующим образом.
Масштаб. Трудовые ресурсы сократились более чем в два раза, финансовое обеспечение — в 5–7 раз. Существенно сузился фронт исследований, особенно в прикладной науке. В силу неконкурентоспособности исчезли целые направления (и организации) в гражданском отраслевом секторе, отчасти в ВПК и академической науке.
Политические и идеологические ограничения. В основном реализован принцип открытости и включенности нашей науки в мировую. Десятки тысяч наших ученых и инженеров работают за рубежом, участвуют в зарубежных и совместных проектах. Ежегодно научно-технические организации и отдельные команды выполняют работы (в том числе и по грантам) на сотни миллионов долларов.
Заметно уменьшилась доля затрат на военные НИОКР. Исчезли идеологические барьеры в науке.
Законодательная база. Принято около десяти законов (в том числе патентный) в сфере интеллектуальной деятельности, что дало толчок развитию малого (в основном частного) инновационного бизнеса. Обеспечение свободы творчества. В сфере фундаментальной науки созданы два вневедомственных фонда (РФФИ и РГНФ), которые действуют на принципах конкурентности, равноправия апликантов и независимости экспертизы. Однако объемы финансирования из этих источников, на наш взгляд, недопустимо малы.
Организационная структура науки начинает медленно меняться. Заметно уменьшаются размеры научно-исследовательских организаций (НИО), появились новые секторы — негосударственной науки и малого инновационного бизнеса, существующие как в форме инновационно-технологических центров и технопарков, так и в виде самостоятельных структур. Создается финансовая и информационная инфраструктура этих секторов. Действуют государственные и частные инновационные и инвестиционные фонды, начала работать ассоциация венчурного инвестирования.
В условиях открытости и конкуренции происходит заметная дифференциация потенциала НИО, однако сохраняющиеся ведомственность и патернализм мешают процессам естественного отбора и закрытия неэффективных НИО.
Проведенная поспешно и с ошибками приватизация отраслевых научно-технических организаций тем не менее открыла путь к созданию нормальной для рыночной экономики «внутрифирменной» науки. Появилось много примеров успешно работающих научно-технических структур, практически целиком финансируемых промышленными предприятиями.
С другой стороны, весьма значительная часть академического сектора науки, части отраслевых НИО, включая многие государственные научные центры, почти не изменили принципы организации, управления и финансирования. Все это ведет лишь к деградации их научного потенциала, отставанию от мировых лидеров, нежеланию молодых ученых работать в таких организациях.
Качественные характеристики. Оснащенность приборами и оборудованием в среднем ухудшилась, но возросла дифференциация между сильными и слабыми.
Наука очень опасно постарела, однако в последние год-два заметно вырос интерес молодежи к естественно-научным и техническим вузам. Появилась надежда на возрождение.
Очень медленно сближаются наука и образование. Решение этой проблемы могло бы придать качественно новый импульс процессу возрождения отечественной фундаментальной науки.
Острой остается проблема менеджмента в науке. За редкими исключениями он совершенно неадекватен новым экономическим реалиям.
Это особенно заметно на микроуровне науки — управлении научно-техническими организациями.
В этой связи мы видим основную проблему нашей науки не столько в недостаточности бюджетного финансирования (в ближайшие годы вряд ли возможно его существенное увеличение), сколько в том, что весьма неэффективно используются и нынешние средства бюджета. А это следствие не доведенной до конца реформы научно-технической сферы. Здесь главными объектами реформирования должны стать неадекватно большая и «рыхлая» сеть научных организаций, устаревшие механизмы финансирования и архаичная система организации научной деятельности, где по-прежнему доминируют традиционные ведомственные институты советского типа. Иначе говоря, значительная часть пути по созданию новой модели функционирования российской науки нами пока еще не пройдена.
В первой половине 2002 года власть демонстрировала усиленное внимание к проблемам реорганизации научно-технической сферы, однако есть реальная опасность, что действующая научно-техническая элита рассматривала все происшедшее лишь как масштабную PR-акцию, проведенную с единственной целью — увеличить объем ресурсов, потребляемых старыми структурами и механизмами.
Недаром почти во всех интервью, щедро розданных участниками событий, был использован неувядаемый, как «Отче наш», слоган — «без науки у России нет будущего!». Но мы хорошо понимаем, что подавляющее большинство произносящих его имеют в виду советскую огромную и мощную науку 60–70-х годов прошлого века.
Увы! Как это ни печально, именно у этой науки в новой экономике России нет будущего. В ближайшее десятилетие страна может позволить себе совсем другую (весьма отличную от советской!) науку — компактную, гибкую, частично ушедшую непосредственно в промышленность, частично слившуюся с образованием. С одной стороны, только такая наука выживет в жесткой конкурентной среде, лишенной безответственного бюджетного патернализма, а с другой — только такая наука может помочь нашей стране выстоять в межстрановых экономических баталиях наступающей глобализации.