Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Наука и информация
На протяжении последних десяти лет власть, казалось бы, не вспоминала о том, что по отношению к науке она обязана принимать какие-то решения (называть их реформами или нет, дело вкуса). Пока ничего не менялось в организации науки, стремительно менялся социально-политический контекст, в котором она существует. Наконец в марте этого года власть пришла к трезвому выводу (и озвучила его устами президента страны), который уже много лет напрашивался сам собой: у государства просто нет средств на поддержку российской науки как сложившейся системы. Оно готово возделывать лишь небольшую, более или менее четко выделенную «делянку», которая условно отнесена к сфере высоких технологий, а остальное — поле деятельности благотворительности и бизнеса[1].
Решение о проведении структурной политики — сейчас единственно возможное, хотя нет полной уверенности, что оно не запоздало.
Чтобы схема заработала (если вообще можно заставить ее работать), нужна, конечно, законодательная база, нужно заинтересовать отечественный и зарубежный бизнес льготами, потому что бизнес никогда не станет финансировать науку, пока есть сферы, где можно заработать безопаснее, больше и быстрее. Но, прежде всего, для структурной политики нужна совершенно иная информационная база по сравнению с той, что существует сейчас.
Информация нужна не только для того, чтобы предвидеть появление «прорывных технологий» (как показал опыт советской науки, это не самое сложное), но и для того, чтобы вовремя ликвидировать на первый взгляд вполне благополучные, но на самом деле бесперспективные направления. При принятии таких крайне неприятных решений частный капитал, выбирая претендентов на финансирование, может действовать решительно и жестко (хотя бы потому, что в отличие от Отдела науки ЦК КПСС вынужден считать деньги). Но кроме жесткости нужно еще умение предвидеть и анализировать.
Проводить структурную политику значит не только вовремя «переносить тяжесть с одной ноги на другую», отказываясь от поддержки не оправдавших себя направлений и подключая новые. Нужно еще представлять себе технологии «второй очереди» и, оказывая содействие «избранникам», не допускать возникновения вокруг них выжженной земли, иначе никакой гибкой стратегии не получится: некуда будет «переносить тяжесть».
Структурная политика не может ограничиваться одними приоритетными направлениями. Необходимо что-то делать и с «ничейной землей» — областями, бесперспективными и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения государства. Возьмем в качестве примера, скажем, египтологию (пусть нас простят египтологи). Добить — неприятно и стыдно (и традиции есть, и замечательные коллекции), развивать — накладно. И таких направлений, которые существовали в развивавшейся «по всему фронту» советской науке (в эпоху дешевой рабочей силы, дешевых энергоносителей, дешевой полиграфии и проч.), — тысячи. По каждому из них нужно искать уникальное творческое решение. Реструктурирование науки — задача многократно более сложная и дорогая, чем сокращение армии. Сейчас на эту задачу работает, и не столь уж успешно, единственная программа — Федеральная целевая программа «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы».
Итак, основной вопрос структурной политики — это вопрос информации о состоянии и тенденциях развития науки. В данной статье мы попытаемся конкретизировать этот вопрос и рассмотреть, какой должна быть информация, которая позволила бы нам заглянуть в будущее науки, хотя бы до 2010 года.
Какой информацией о науке сейчас располагает политик? Для политика — как в России, так и на Западе — наука на протяжении всего XX века была и остается пресловутым «черным ящиком»: мы создаем науке условия, говорят сильные мира сего, а она решает проблемы, помогая достичь национальных целей. Но если нет целей, то нет и политики, а наука существует по могучей силе инерции.
В СССР целей было две — наращивание военной мощи и придание блеска режиму; они сильно деформировали нашу науку, хотя и не выхолостили ее окончательно (во многом благодаря нашему российскому разгильдяйству). Испытание свободой и голодным пайком оказалось более жестким.
Конечно, модель науки, на вход которой что-то подается, а на выходе что-то возникает, отражает действительность «как-то криво»: в своем нормальном состоянии наука не только решает проблемы, она их ставит и формулирует. Ноиз примитивной модели «вход-выход» можно извлечь кое-что полезное.
Начнем с целей. К сожалению, наше общество неспособно вдохновляться разумными и прагматичными целями вроде озвученной президентом задачи выйти на уровень среднеразвитых европейских стран. Цель, реально сплачивающая сейчас нацию, вполне бессмысленна: вернуть стране статус великой державы. От этого статуса у нас осталось несколько побрякушек (ядерное оружие, ракеты и место в Совете Безопасности ООН), остальное — бланк, пустое место, которое предстоит чем-то заполнить.
Пока остается констатировать, что цели в той форме, в которой они могут быть отражены в годовом бюджете и соотнесены с наличными ресурсами и заделом, не сформулированы.
Перейдем теперь к условиям, которые должны создавать для нее политики. Естественно, что последние (как и сами ученые) прежде всего вспоминают о финансировании. Но, может быть, вопрос о том, сколько денег налогоплательщиков нужно потратить на науку, целесообразно решать в последнюю очередь. Ведь если для развития науки не имеется необходимых в нефинансовых (кадровых, информационных и др.) ресурсов, в нее вообще неразумно вкладывать средства — в таком случае стоит подумать о «немыслимом»: нужна ли нам вообще наука. Существуют же страны, причем богаче нас, в которых просто нет науки, хотя из соображений национального престижа поддерживается видимость ее существования: есть отдельные ученые, национальные академии, издаются научные журналы и проч.
На этих критических для развития науки нефинансовых ресурсах — способных людях и информации — мы и сосредоточимся в данной статье. По тому, как и в какой пропорции потребляет эти ресурсы национальная наука, можно многое сказать и о ее состоянии, и о перспективах ее развития.

Кадры науки. Сначала о наших традиционных соперниках. Американская система образования и в прошлом не была в состоянии, и сейчас не может обеспечить науку США достаточным количеством специалистов. К американскому школьному образованию европейцы относятся, мягко говоря, пренебрежительно, а американизацию национальной системы рассматривают как катастрофу[2]. Но эта система решает — и решает не так уж плохо, хотя и не без срывов — совершенно иную по сравнению с нашей задачу: она готовит законопослушных, ответственных и инициативных граждан, снабженных, правда, по части знаний лишь survival kit (т. е. прожиточным минимумом).
Есть замечательная формула: возьмем самое лучшее из разных систем. Вот только редко таким способом удается добиться чего-то путного. С середины XIX века американское образование развивалось как эгалитарное. Оно дает обязательный для всех набор знаний и достаточно жестко наказывает как тех, кто пытается чем-то из этого «пакета» пренебречь, так и тех, кто дерзает к нему что-то добавить по собственному вкусу. Средство устрашения последних — огромные цены на образовательные услуги, которые не входят в основной «пакет». Недаром газеты утверждают, что основной причиной, подвигшей небезызвестного Ханссена заняться шпионажем, было желание дать католическое образование своим шестерым детям. А исследователем в США можно стать только вопреки этой системе.
Наше образование — элитарное, что бы ни было написано на лозунгах, которые вывешиваются у нас по табельным дням. В подгруппе элитарных наша система совсем не лучшая и никогда не была такой[3]. Но мы трогательно оберегаем этот миф. В конце концов, существовавшая в СССР система была одной из немногих подлинных вещей в царстве фантомов. По крайней мере, она вполне успешно решала одну весьма специальную задачу: вела тотальный скрининг с целью выявить молодежь, способную работать в естественных науках и математике, а потом обучала эту молодежь (многоуровневые олимпиады, кружки, физико-математические школы и проч.). Система работала и частично продолжает работать, во многом опираясь на энтузиазм педагогов и людей науки, на котором держится и вся система внешкольного образования.
Внешкольное образование существенно дополняется институтом репетиторов. Причем энтузиасты бесплатного внешкольного образования и репетиторы— это зачастую одни и те же лица. Репетиторы пишут прекрасные пособия для поступающих, наряду с олимпиадными часто придумывают и экзаменационные задачи, а потом решают их вместе со своими подопечными. Появившись почти полвека тому назад, репетиторство постепенно стало одним из важных каналов финансирования образования, и если сейчас наше образование сохранило какой-то уровень, то в основном благодаря ему.
Американцы относятся к нашим успехам в области естественно-научного образования с таким же недоумением, с каким мы сами отнеслись бы к массовой подготовке шпагоглотателей. Но они задают и вполне осмысленный вопрос: почему вас не смущает, что принятая у вас система образования отбрасывает массу молодежи как пустую породу? Действительно, эти люди не получают в сущности никакого законченного образования, поскольку программа средней школы дает знания, которые нужны, прежде всего, для получения новых знаний в вузе. Уродливой остается и сама структура высшего образования. В основу ее легла доктрина Н. Бухарина, наиболее лапидарно и емко сформулированная в названии его статьи «Научно-техническое обслуживание промышленности»(1934). В соответствии с этой доктриной подготовка специалистов была поставлена на поток, наука, которая в дореволюционной России, как и в Европе, развивалась в университетах, была оторвана от образования, а та, что осталась в вузах, — обречена на прозябание[4].
Интеллектуальную элиту у нас не смущало и то, что отечественное образование перерождалось из элитарного в сословное: спецшколы и престижные гуманитарные вузы de facto становились закрытыми учебными заведениями, готовившими «сливки» партийно-государственной бюрократии, интеллигенция— в качестве советского аналога среднего класса — могла рассчитывать на естественно-научное образование для своих детей, «работягам» же оставалось ПТУ. Тревога охватила интеллигенцию только тогда, когда фильтрация стала осуществляться по национальному признаку.
В капиталистической России система образования продолжает развиваться в том же русле. Разве что сословные перегородки стали более высокими и возникают они на самых ранних этапах обучения (уже при приеме в школу), а система из общегосударственной становится региональной: стоимость жилья, транспорта и размеры взяток делают вузы обеих столиц недоступными для иногородних. Кроме того, наша система перестала быть надежным источником кадров для науки: для тотального скрининга не хватает ни средств, ни энтузиазма, а главное — нет больше государственного заказа на такой скрининг.
Уже давно понятно, что наше образование находится в тупике. Сначала государство, пытаясь его реформировать, искало взаимопонимания с обществом, но не нашло общего языка ни с родителями, ни с педагогами, так как не смогло ни ясно сформулировать проблему, ни найти привлекательные пути ее решения. Сегодня чиновники уже не используют одиозного слова «реформа», пытаясь вместо этого внедрить ряд новшеств (например, единый государственный экзамен), направленных на устранение хотя бы наиболее вопиющих несправедливостей системы (в частности, ее регионализации). Однако система на всех уровнях будет сопротивляться любым попыткам ее реформировать, отчасти потому, что теперь это — бизнес, в который вложено немало частных средств, а отчасти в силу того, что образовательный ценз — едва ли не основной конституирующий признак отечественного среднего класса.
Америка удовлетворяет сейчас кадровый голод своей науки за счет иммиграции и вынуждена будет делать это и в будущем. Мы же таким образом никогда не сможем привлекать новые кадры в науку, поэтому у нас любая долгосрочная научная политика должна быть одновременно и политикой в области образования. Направление этой политики со всей очевидностью вытекает из того факта, что средний возраст научного работника в России растет, и без пополнения науки молодежью наша наука не имеет никаких перспектив[5].
Информация для науки — во всяком случае для советской науки — была критическим ресурсом. Самоизоляция страны и попытка развиваться «по всем азимутам» допускали единственную модель развития — вдогон. А эта модель, в свою очередь, требовала особого отношения к информации.
Дело в том, что при развитии вдогон дефицит информации становится хроническим. Идущему впереди — пионеру — важно только знать, не наступает ли ему на пятки ближайший конкурент, отстающий же постоянно выбирает, на кого ему целесообразно ориентироваться, как именно тот добился своих результатов и как воспроизвести эти результаты с помощью имеющихся в наличии средств. И пионеры, конечно, не могут обойтись без помощи информационных работников (на Западе эту функцию традиционно выполняли библиотекари), но тем, кто отстает, нужна целая самостоятельная индустрия обработки информации.
В СССР развитие этой индустрии началось с создания Всесоюзного института научной и технической информации (1952). В свои лучшие годы ВИНИТИ ежегодно издавал один миллион рефератов, в которых кратко излагалось содержание научных статей и докладов, взятых из изданий, поступавших со всего мира. Чтобы печатать «Реферативный журнал», в Люберцах под Москвой был построен целый полиграфический комбинат. Некоторое время спустя появился аналогичный институт для обработки информации в области общественных наук (ИНИОН), медицинских наук, ВНТИ Центр, который занимался отчетами и диссертациями, центр переводов да еще огромный институт, обслуживающий оборонные отрасли. И это было только начало: в каждой союзной республике, в большинстве областей, во всех основных отраслях промышленности, на крупных предприятиях появились свои информационные центры, в которых к середине 80-х годов работало до 200 тысяч человек. В этой системе — государственной системе научно-технической информации (ГСНТИ) — были сконцентрированы, а следовательно доступны только при ее посредстве, очень большие информационные ресурсы.
Но и эта гигантская индустрия была в состоянии отслеживать не более40процентов всего мирового потока информации, на большее не хватало средств. Ведь в мире уже к середине 80-х годов издавалось около 100 тысяч научных журналов, ежегодно печатавших не менее трех с половиной миллионов статей. К настоящему времени это количество возросло не менее чем на 50 процентов, причем параллельно (и очень заметно) растут и цены на научные издания. Сейчас на свете очень мало библиотек, которые могли бы выписывать всю научную периодику[6].
Но более важным по сравнению с полнотой обработки информации стал фактор времени. Авторы одного из лучших в стране научных журналов — «Журнала экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ) — ссылались на работы коллег, выходившие в среднем за восемь месяцев до того, как рукопись попадала в редакцию. А в журнале, издававшемся в Киеве, где зарубежная публикация становилась известной только после того, как она была пропущена через ВИНИТИ, этот же промежуток возрастал до 42 месяцев; в аналогичном издании Томского университета он же составлял уже 62 месяца. Если добавить к этим месяцам еще полтора (а иногда два) года, которые статья вылеживалась в редакции, дожидаясь своей очереди, а потом печаталась, да накинуть еще годик, проходивший до того, как ее реферат появлялся на Западе, то легко видеть, что на завершение цикла уходило в среднем пять лет. Согласитесь, не так уж много найдется желающих участвовать в диалоге, где реплики собеседника придется ждать пять лет. И хотя физика была одной из немногих отраслей науки, где СССР занимал ведущие позиции, немалая часть работавших в ней исследователей — особенно в провинции — не участвовала в мировом обмене идеями. И частично это было побочным эффектом колоссальной концентрации всех информационных ресурсов в ГСНТИ.
После первых успехов СССР в космосе существовавшая в стране система научной информации начала вызывать значительный интерес в мире. Одно время американцы совершенно серьезно говорили о создании «ВИНИТИ на Потомаке». Но у них хватило здравого смысла не формировать не очень-то им нужную гигантскую централизованную систему, а поискать асимметричный ответ. Они нашли целых два таких ответа.
В основу первого легло изобретение, сделанное в библиографии, т. е. в сфере, где, казалось, и изобрести-то ничего нельзя. Ю. Гарфильд усовершенствовал обычную аналитическую библиографию, т. е. роспись статей, опубликованных на страницах известных научных журналов (такие библиографии публикуются во всем мире). Пользуясь тем, что за текстом большинства научных статей следует список публикаций, на которые их авторы ссылаются, он снабдил аналитическую библиографию сведениями о библиографических ссылках, имеющихся вкаждой из включенных в нее статей. Имевшаяся в то время вычислительная техника уже позволяла отсортировать этот довольно внушительный массив вином порядке: для каждой процитированной статьи дать список статей, которые на нее ссылаются. Это простенькое изобретение произвело настоящую сенсацию: научный работник впервые получил возможность увидеть перечень тех, кого в мире заинтересовала его публикация. Число ссылок на публикацию стало рассматриваться как мера ее ценности[7].
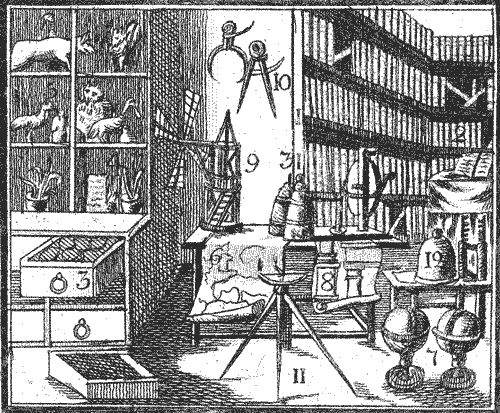
Ю. Гарфильд объединял библиографические выпуски в кумулятивные тома за год и за пять лет, давая возможность проследить, как пробуждается интерес к публикации, какие масштабы этот интерес приобретает и как он угасает. Естественным образом возник рейтинг исследователя, журнала («импакт-фактор»), научного направления и т.п. Указатель научного цитирования (Index of Science Citation — ISC) позволил прослеживать такие связи между научными работами, о которых не догадывались сами авторы. С тех пор была проведена бездна науковедческих исследований, опирающихся на «Индекс», но главное, что в любой нашей библиотеке, выписывающей «Индекс», эта книга — одна из самых потрепанных. Вторым, еще более весомым, ответом американцев стали автоматизированные информационно-поисковые системы (ИПС) и библиографические базы данных (БД). Идея была сама по себе не новая, но американцы располагали вычислительной техникой, на которой эти системы могли реально работать. Прямые потомки первых автоматизированных ИПС (типа системы Lexis-Nexis) хранят сейчас невероятное количество полнотекстовой информации, и услуги их стоят очень дорого. Но, конечно, самый важный прорыв состоял в создании доступа к разнотипным базам данных с помощью единой телекоммуникационной сети с открытым доступом, которая дала начало современному Интернету.
У нас попытки создать аналогичные ИПС и сети закончились безрезультатно, и это было одним из последствий катастрофического для страны решения копировать вычислительную технику и программное обеспечение американской фирмы IBM. Копии — к тому же неудачные — появились тогда, когда скопированная техника устарела, а отставание стало непреодолимым.
Десятилетия самоизоляции СССР сформировали очень своеобразное отношение к информации, которое сохранилось и в современной России. В общественном сознании понятие информации оказалось тесно связанным с понятиями «скрыть» и «похитить». В СССР существовала масса препон для публикации результатов исследовательских работ даже в самой стране, не говоря уже о публикациях за рубежом. Научных изданий было непропорционально мало (а стало еще меньше). В результате в 80-е годы полтора миллиона советских научных работников (официальная статистика утверждала, что это 25 процентов всех ученых в мире) публиковали менее 10 процентов всех научных статей[8].
Что нужно знать власти и обществу о науке? То есть какая информация необходима власти, чтобы проводить по отношению к науке некую эффективную или хотя бы осмысленную политику, а обществу — чтобы понимать, чего оно может ждать от науки?
Первый вопрос связан со стимулами, способными побудить молодежь заниматься тяжелым и часто очень неблагодарным научным трудом. Впервые в истории России речь идет о привлечении в отечественную науку свободного поколения, у которого есть довольно широкий выбор, включающий и работу в зарубежной науке, и занятия бизнесом. Причем было бы несправедливо создавать молодым ученым более благоприятные условия, чем у старшего поколения, а возможности улучшать за счет бюджета материальное положение науки в целом будут в ближайшие годы очень ограниченными. Нужно еще учесть, что откладывать «призыв в науку» тоже нельзя: потенциальные наставники просто выбывают из науки по возрасту.
Сейчас корректно оценить «тягу» молодого поколения к науке невозможно, так как стимулы, о которых идет речь, не существуют даже в проектах (хотя, в общем, понятно, что у нас нужно вводить тот же механизм «постдоков», который используется на Западе). Доверять же косвенным признакам — конкурсу в вузы или даже количеству защит диссертаций — не стоит. Для большинства молодежи защита — это момент выбора, продолжить ли научную карьеру, которая еще очень долгое время будет приносить новоиспеченному кандидату весьма скромные дивиденды, или, добившись столь ценимого в нашей стране статуса «остепененного», выбрать иную жизненную стезю.
Второй вопрос состоит в том, удастся ли в будущем средней и высшей школе подготавливать кадры для науки. Сейчас получить в школе необходимый для поступления в наиболее престижные вузы уровень подготовки невозможно. Этого уровня добиваются в подавляющем большинстве случаев с помощью репетиторов, иногда — совместными усилиями хорошего педагога в школе и репетитора.
Неизбежное снижение качества подготовки абитуриентов приведет к тому, что «школьной премудрости» придется учить уже в вузе. Чтобы подготовить студента к научной работе за оставшиеся после ликвидации «школьных пробелов» два-три года, учить его придется очень интенсивно, как говорится, прямо «у станка». Поэтому следующий, третий, вопрос — о масштабах и темпах интеграции науки и образования.
Четвертый вопрос вытекает из признания того факта, что развивать науку мы сможем, только используя все преимущества мирового разделения труда и все разнообразие форм этого разделения. Сотрудничество — единственный путь решить проблему «информационного голода», и если исследователь действительно нуждается в том, чтобы работать в библиотеке, то, наверное, еще очень долго будет проще отправить его за границу, чем снабжать информацией в самой стране.
Пока интеграция нашей науки в мировое научное сообщество носит очень неравномерный характер. Максимума она достигает в физике и находится на точке замерзания, скажем, в педагогике. Структурная политика в науке, конечно, невозможна без мониторинга международных связей отечественной науки.
Вообще интенсивность связей — не только международных, но и связей коллективов исследователей и организаций друг с другом внутри страны — должна рассматриваться как признак возможного успеха. Поэтому следующий, пятый, вопрос — естественно, об интенсивности связей отдельных направлений науки с бизнесом.
Этот ряд вопросов можно продолжить. Все они нацелены на то, чтобы выяснить, что у нас в науке естественным образом получается, а для чего нет ни человеческих, ни материальных ресурсов. Нельзя, конечно, утверждать, что списки перспективных направлений и «критических технологий», фигурирующих в правительственных документах, — это обязательно результат лоббирования и «пиара», но веры им было бы куда больше, если бы они опирались на объективную информацию о состоянии всей науки.
И, наконец, о методах получения информации о науке. Составление отчетов никогда не было в науке особо популярным занятием, а их точность всегда вызывала сомнения. Но даже вполне добросовестный отчет все равно описывает особую «административную реальность»: нельзя требовать полной откровенности от казенной бумаги. Тем большую важность представляет информация, которая, подобно «Индексу научного цитирования», возникает в ходе основной деятельности научного работника автоматически.
Основным источником информации о состоянии отечественной науки служит ежегодник «Наука России в цифрах», подготавливаемый Центром исследований и статистики науки (ЦИСН)[9]. Из двух видов нефинансовых ресурсов, названных выше критическими, справочник ЦИСН рассматривает лишь один — кадры. Конечно, было бы нелепо искать здесь готовый ответ на первый из сформулированных выше вопросов — пойдет ли молодое поколение в науку.
Цифры показывают только, что прием студентов, достигнув минимума в 1993 году, стал довольно быстро расти и уже в 1995 году вернулся к уровню1985 года, а в 2000 году превысил «до перестроечный» уровень в два раза (sic!). То же произошло и с выпуском из аспирантуры: после 1995 года численность окончивших ее быстро растет, к 2000 году она удвоилась по сравнению с 1995 годом. То есть численность специалистов, которые, по крайней мере формально, подготовлены для научной работы, увеличивается, тогда как общая численность людей, занятых в науке, уменьшается. Это сокращение началось еще при советской власти (с полутора миллионов исследователей в начале 80-х их численность уменьшилась до1,2 миллиона — в конце), но в начале 90-х произошло стремительное сжатие науки более чем в два раза (до 525,3 тысячи человек в 1994 году), и сейчас ее кадровый состав продолжает сокращаться, хотя и медленнее. В2000 году по сравнению с 1994 годом число исследователей сократилось почти на 100 тысяч и составляет сейчас 425,9 тысячи человек. Несмотря на рост числа подготовленных для занятия наукой людей (только аспирантура с1995 по 2000 годы подготовила102 тысячи), число молодых ученых сокращается. В 1994 году в науке было занято 48,5 тысячи человек в возрасте до 29 лет (9,2 процента), в2000— 45,0 тысяч(10,6 процента). Вместе с этим растет и средний возраст научных работников: в 1994 году он составлял 45,3 года, к 2000 году возрос до 48,2 года.
Цифры ежегодника ничем не могут помочь нам в ответе и на второй вопрос, будет ли молодое поколение способно работать в науке, так как изменение содержания образования вообще никак в нашей статистике не отражается. К 2010 году усилия Министерства образования по борьбе с репетиторством (если приведут к успеху), скорее всего, понизят качество подготовки выпускников высшей школы, поскольку даже на бумаге нет мер, которые бы компенсировали разрушение этой системы.
В ответе на остальные из поставленных вопросов этот справочник нам тоже не помощник. Поэтому обратимся к альтернативной информации.
Данные Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Основной задачей РФФИ является поддержка отечественных исследований в области естественных наук (и отдельных исследований на стыке социальных и естественных наук). С 1993 года фонд проводит конкурсы и по их результатам ежегодно распределяет примерно три тысячи грантов на поддержку исследовательских проектов, предлагаемых самими учеными[10]. Помимо инициативных исследовательских проектов, максимальный срок осуществления которых — три года, при условии предоставления РФФИ отчетов, фонд поддерживает издательскую деятельность, поездки ученых, приобретение оборудования и проч., но основная доля его средств направлена на исследовательскую работу, причем как израсходовать эти средства, решает руководитель проекта[11].
Фонд распределяет таким образом шесть процентов от бюджета науки[12], большая часть оставшихся средств уходит на поддержание доставшейся нам в наследство от СССР гигантской инфраструктуры науки[13]. Что-то тратится и на сами исследования, но как и на что именно, установить трудно, так как ни о какой прозрачности бюджета науки (в отличие от бюджета фонда) говорить не приходится.
Однако даже если основная часть средств на конкретное исследование или разработку поступает из ресурсов, ассигнованных на выполнение какой-либо из государственных программ, редкий ученый не пытается получить дополнительное финансирование от РФФИ, попадая таким образом в базы данных фонда. Впервые в истории нашей страны появилась оперативно обновляемая, достаточно подробная информация об отдельных исследователях, тогда как ранее наша статистика оперировала данными только о целых исследовательских организациях. Эта информация, как и та, на которой основан «Индекс научного цитирования», — «попутный продукт» деятельности фонда (и самого ученого). Без нее невозможна оперативная работа фонда, и в базы данных она попадает из заявок и отчетов исследователей, при этом обе стороны заинтересованы в том, чтобы она была достоверной[14].
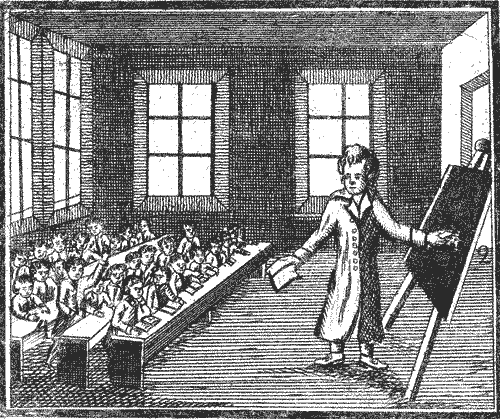
Прежде всего, сведения РФФИ позволяют дать ответ, сколько же в России реально есть исследователей. Официальная статистика говорит о списочном составе научных учреждений, базы данных фонда позволяют сказать, сколько из них хотя бы раз за восемь лет приняли участие в научном проекте, который, по мнению экспертов, имело бы смысл поддержать. Оказывается, что таких научных работников примерно 100 тысяч[15]. Их средний возраст (44,9 года) чуть меньше, чем средний возраст российского ученого. Назовем их «активом».
Теоретически можно представить, что какое-то число исследователей просто не нуждается в скромных грантах фонда (дай Бог, чтобы таких было как можно больше) или не обращается к нему по каким-то иным причинам. Но, видимо, формулируя структурную политику, нужно в большей степени ориентироваться на приведенную выше оценку размеров «актива», чем на данные официальной статистики. Большая часть «списочного состава» научных учреждений в сущности давно уже нашла себе другое занятие. Общество в целом должно осознать, что, возможно, наша наука и станет в будущем более эффективной, но ее роль на рынке труда будет скромной.
В «аспирантском возрасте» (до 25 лет) молодежь довольно активно участвует в реализации поддержанных фондом проектов. Дальше наступает возраст25–35лет, который для ученого, работающего в естественных науках, является наиболее активным. Но количество участников проектов в этой возрастной группе — наименьшее, максимум же научной активности приходится на возрастную группу 45–50 лет, что, конечно, противоестественно. Отсюда можно сделать вывод, что за наплывом в аспирантуру стоит желание получить квалификацию, пресловутые «корочки» кандидата, но не интерес к науке (во всяком случае — не котечественной).
Но не все так скверно в российской науке. В частности, существенно окрепли ее международные связи. В базах данных РФФИ накапливаются сведения, взятые из отчетов получателей грантов. В отчете обязательно должен быть список публикаций, связанных с проектом, а сама статья должна содержать ссылку на поддержку РФФИ. Обработка такого потока библиографической информации — дело довольно трудоемкое, поэтому пока она была выполнена только для проектов, поддержанных в 1997 году (отдельные результаты получены также для1999года). Ниже пойдет речь только об одном, самом важном, типе публикаций — научных статьях.
Суммарная продукция 41 тысячи человек, получивших поддержку в 1997 году,— 27,3 тысячи статей. Дополнительные соображения позволяют оценить общее количество публикаций «актива» в 100 тысяч статей в периодических изданиях. Это хорошо согласуется с основанными на прямых подсчетах данными о продуктивности исследователей в середине 80-х годов — тогда все ученые СССР ежегодно издавали около 260 тысяч статей. То есть продуктивность отдельного ученого в нашей стране изменилась с тех пор мало, он публикует одну статью за то время, за которое его западный коллега публикует две-три.
Сейчас примерно треть всех наших статей публикуется за рубежом и около четверти — в соавторстве с зарубежными учеными, это очень существенные изменения по сравнению с СССР. Более половины всех публикаций по проектам, поддержанным РФФИ, — это публикации в наиболее престижных отечественных журналах, входящих в список тех периодических изданий, на основе которых составляется «Индекс научного цитирования», но все еще примерно 40 процентов всех наших публикаций практически недоступны на Западе и за пределами страны не вызывают никакого отклика.
Если в до перестроечное время основными нашими партнерами за рубежом были исследователи из стран «народной демократии», то сейчас сотрудничество с соседями из стран СНГ и Восточной Европы играет очень скромную роль, а основной вклад вносят ведущие страны Запада. Лидером является Германия, за ней следуют США и Франция, но возникли и региональные предпочтения Например, Сибирь и Дальний Восток предпочитают сотрудничать с США и Японией.
Хотя получатели грантов работают более чем в 1400 организациях, большинство поддержанных проектов выполняется в небольшом количестве институтов, преимущественно РАН и ее региональных отделений. Доля проектов, выполняемых академическими организациями, постепенно растет — в 1997 году она составляла чуть менее 60 процентов, а в 1999 году — уже 67 процентов. Если не учитывать проекты, выполняемые в МГУ, то доля вузов (вместе с их научно-исследовательскими подразделениями) — около четверти всех проектов. (МГУ — безусловный рекордсмен среди всех организаций: 10–11 процентов всех грантов в каждом из ежегодных конкурсов приходится на его долю.)
Но если «валовые» показатели вузовской науки застыли на месте, то качество работы вузов над проектами отличается от академических институтов в лучшую сторону. Сопоставим МГУ и Сибирское отделение РАН. Они получили примерно равное число грантов, хотя в МГУ исследователей меньше, чем в СОРАН (9,1 и 11,0 тысяч соответственно), в МГУ на один грант приходится четыре публикации, а в СО РАН — всего 2,8. Та же тенденция прослеживается и в других вузах.
На основании материалов РФФИ можно многое узнать и о научных связях внутри страны. Большинство вузов стремятся сотрудничать с академическими организациями, но проявляют мало интереса друг к другу, комплектация же команд, выполняющих один проект, из разных академических организаций — широко распространенное явление. Серьезным препятствием для сотрудничества остается у нас география размещения организаций высшего образования и науки. Если размещение вузов еще как-то отражает потребность в образовательных услугах, то три четверти нашей науки сконцентрированы в Москве и вокруг нее, а также в Санкт-Петербурге. Черноземье и густо населенный юг европейской части России представляют собой в этом отношении пустыню, и это положение не обнаруживает никаких тенденций к изменению. Оказавшись в изоляции, вузы проявляют мало интереса к научным исследованиям.
Данные фонда свидетельствуют, что значительное количество исследователей отлично понимает возможности использования результатов их исследований в прикладных целях. Эти исследования имеют потенциально высокую значимость для развития критических технологий практически по всему списку, утвержденному Правительством РФ, особенно много работ, связанных с технологиями мониторинга природно-техногенной сферы. Фонд по своей инициативе систематизирует эти материалы, но эффект от этой деятельности пока еще очень мал.
* * *
В том, что информация о науке большей частью остается невостребованной, нет ничего странного: само по себе знание — еще не сила. ВСССР информация «восходящими потоками» стекалась в отдел науки ЦК, в Академию наук, Госкомитет по науке и технике, в прочие центры принятия решений, «им же несть числа», оседая там слоями геологических масштабов, а решения были либо неверными, либо запоздалыми. Дело не в том, что не хватало воли, решения иногда проводились в жизнь весьма жестко.
Если речь идет о государственной поддержке науки, то суть проблемы в том, что не было тогда и до сих пор нет «площадки» — реальной или виртуальной, на которой могли бы сталкиваться разные подходы к науке и разные интересы. Никому не дано знать заранее, чего требует общественное благо: бороться ли с автомобильными выхлопами, считать ли количество лапок у мухи или разрабатывать высокоточное оружие. Решение может быть только ситуативным и должно достигаться в ходе «торга», проводимого по правилам, которые дают возможность представить самые разные мнения и принять взвешенное решение. В таком торге нет абсолютно ничего экзотического: именно так в любом фонде эксперты распределяют средства на исследования. Если он есть, то существует и подлинный спрос на информацию о состоянии науки, потому что в этой ситуации осведомленность — важнейший козырь участника торга. Пока ситуация парадоксальна: процедуры распределения крохотных грантов расписаны у нас до мелочей, а то, как распределяются миллиарды, покрыто мраком неизвестности.
Если говорить о поддержке науки со стороны бизнеса, то тут нужны посредники, которые должны взять на себя непростую задачу анализа информации о науке, поиска инвесторов, решения правовых вопросов. Пока наука плохо представляет, что нужно бизнесу, а бизнес нередко предпочитает закупать на Западе технологии, которые возникли в России, но не были здесь «доведены до ума» из-за отсутствия к ним интереса со стороны деловых кругов.
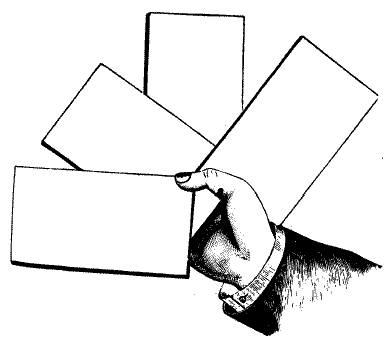
[1] Хотя у отечественного бизнеса едва ли будут на это средства. «Доля затрат на инновации в общем объеме промышленной продукции в 1999 году составляла 1,06%. По прогнозу, к2010году эта доля достигнет 2,5%, что соответствует пороговому уровню, но в 2 раза ниже, чем в среднем по странам ОЭСР [т. е. промышленно-развитым странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития]» (Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Проект).
[2] У нас эта точка зрения ясно сформулирована в статье: Арнольд В. И. Нужна ли в школе математика? Стенограмма пленарного доклада (Дубна, 21 сентября 2000 г.). М.:МЦНМО,2001.
[3] Детального сравнения системы нашего школьного и высшего образования с другими образовательными системами вообще никогда не проводилось. Если речь идет об овладении базовыми навыками, в частности об умении наших подростков работать с текстом, то мы отстаем от большинства стран ОЭСР и приближаемся к уровню Южной Америки. См.:Knowledge and Skills for Life. Program for International Student Assessment-2000. Executive Summary. Текст доступен на сайте http://pisa.oecd.org.
[4] Подробнее см.: Арапов М. В. Наука и высшая школа. Глава в книге Авдулова А. Н. и КулькинаА. М. «Структура и динамика научно-технического потенциала России». М.:Эдиториал УРСС, 1996. С. 154–216.
[5] В своем выступлении на заседании СБ Президент РФ для «среднего возраста науки» приводит цифру 56 лет, но расчеты на основании официальных данных (Наука России в цифрах 2001: Статистический сборник. М.: ЦИСН Минпромнауки РФ, 2002) дают меньшую, хотя тоже впечатляющую, цифру — 48 лет. Научный работник оказывается на10лет старше, чем среднестатистический работник, занятый в российской экономике. Цифра 56, скорее всего, относится к самой многочисленной возрастной группе.
[6] Здесь и далее сведения об информационном обеспечении науки в СССР заимствованы из книги: Концепция развития информационной службы в СССР на 1991–2010 годы. М.: ВИНИТИ, 1988.
[7] Именно поэтому в СССР так и не появилось отечественного аналога «Индекса». Как рассказывал автору один из участников совещания у акад. М. В. Келдыша (Р.С.Гиляревский), тогдашний президент АН СССР ясно дал понять, что в СССР оценка заслуг ученого не может основываться на статистике.
[8] Количество публикаций — самая простая, но не очень корректная мера производительности труда ученого. Нужно делать поправку на принятую на Западе контрактную систему найма, которая диктует научному работнику принцип «publish or perish» («публикуйся — или погибнешь»), с одной стороны, и на хроническое отставание в СССР издательской базы от нужд науки, с другой стороны.
[9] Последний выпуск за 2001 год (см. выше сноску 5).
[10] Всего в период с 1993 по 2000 год было поддержано 26,1 тысячи проектов, что составляет примерно четверть от числа поданных заявок.
[11] Большая часть фактических сведений о работе РФФИ взята из работы: Алфимов М., Минин В., Либкинд А. Страна науки — РФФИ // Вестник РФФИ. 2000. № 2 (20).
[12] В 2002 году средства, выделенные РФФИ, составляют 5,6 процента всех бюджетных ассигнований на науку, все ассигнования на науку — это около одного миллиарда долларов.
[13] На поддержку Фонда не претендуют представители социальных наук, которым оказывает поддержку Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). По этому каналу расходуется около одного процента бюджета науки, но количество гуманитариев у нас менее двух процентов от общего числа работников, занятых исследованиями.
[14] Автору данной статьи, по-видимому, первому в России пришла в голову идея использовать данные фондов, поддерживающих науку, для исследования состояния науки. См.:АраповМ.В. О поддержке научных исследований в России (Опыт МНФ и РФФИ) // НТИ, сер. 1. 1995. № 3. С. 10–14.
[15] Эти данные могут быть скорректированы в сторону уменьшения (примерно на 10 процентов), так как одно и то же лицо — несмотря на все усилия администраторов БД — может фигурировать в ней несколько раз. При проектировании БД не предполагалось, что они будут использоваться для отслеживания «грантовой истории» отдельных исследователей.
