Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Диалоги с диаспорой
Суета вокруг утечки
Первый серьезный всплеск интереса к утечке умов из России можно датировать1991–92 годами, хотя процесс эмиграции ученых из России набирал силу еще в 70-х и 80-х годах. Заметный общественный интерес к этому явлению сохраняется и сегодня, хотя уже всем ясно — утечка умов есть лишь один (и не самый масштабный) из нескольких социальных процессов, определяющих кадровую ситуацию в сфере науки и образования России. Общественная атмосфера, сложившаяся у нас вокруг этого, вообще говоря, заурядного (и хорошо известного в развитых странах) явления интеллектуальной миграции сама по себе требует изучения и описания.
Массовая интеллектуальная миграция в развитых странах представляла какую-то новизну разве что в первые послевоенные годы. В современной же науке мобильность ученого — одно из необходимых условий его успешной карьеры. Соответственно, давно сложились и методы, с помощью которых исследовательские организации обмениваются кадрами. Однако в СССР научная мобильность была весьма своеобразной, кроме того, она не представляла собой предмета для изучения.
Тема эмиграции ученых из распадавшегося СССР стала конъюнктурной именно в начале 90-х как результат обеспокоенности западного мира неожиданным падением железного занавеса. Западная Европа всерьез опасалась нашествия наших оголодавших сограждан. Чего стоило хотя бы сообщение от декабря1991года: Чехословакия разворачивает на границе с СНГ инженерные войска, не надеясь на то, что хлипкие пограничные силы сдержат обезумевшую орду с востока. Особенно оголодавшими представлялись работники науки и образования.
Именно западноевропейские государства вложили немалые деньги в постановку задачи, предварительные исследования и прогнозирование в отношении миграционных устремлений российских ученых в обстановке надвигавшегося (как всем казалось) голодного хаоса. Заказ с удовольствием приняли к исполнению различные исследовательские силы в России — многие как раз находились на распутье и были вынуждены менять профиль исследований. Например, специалисты в области истории партии и научного коммунизма в массовом порядке переквалифицировались в социологи. Вообще говоря, случаи, когда в научную проблему «вгрызаются» столь многочисленные силы, довольно редки, и можно было ожидать интересных результатов изучения нового явления. Эти результаты могли бы помочь в разработке новой научно-технической политики России девяностых годов и на перспективу.
Но, к сожалению, многие вновь обращенные эксперты по проблеме утечки умов имели очень слабое представление о том, что же это такое — российская наука. Печальные результаты их бурной деятельности ощущаются до сих пор. Тема утечки, лишь поверхностно рассмотренная, «зазвучала» во всех ветвях власти, стала модной, быстро политизировалась и превратилась в игрушку для партий и общественных деятелей всех направлений. Средства массовой информации быстро довершили дело — мифологизировали и демонизировали процесс смены ученым своего места работы, а потом отдали остатки проблемы на откуп досужим обывателям — от членов правительства до эстрадников-юмористов.
И вот теперь, после 10-летнего, казалось бы серьезного, изучения проблемы, приходится слышать доносящиеся с очень высоких трибун и тиражируемые в СМИ глупости:
• Россию покинули 300 тысяч (вариант — 600 тысяч) ученых мирового уровня.
• Каждый второй математик в США — русский, 2/3 физиков-теоретиков в США — русские.
• В погоне за длинным долларом… вывезли за пазухой уникальные гербарии и образцы расщепляющихся материалов!
И так далее…
Как следует из нескольких правительственных документов прошедшего десятилетия, руководство научно-технической отрасли видит решение проблемы очень простым: «Вернуть всех!» Идея затруднить отъезд ученых любыми мерами, вплоть до изъятия загранпаспортов, как ни странно, находит отклик и в общественном сознании. Сдается, что дело тут не только в радении о государственных интересах. Видимо, не обошлось без хорошей человеческой зависти. Как же так, обнаружилась очень немногочисленная профессиональная группа, которая, в отличие от других, получила шанс самостоятельно устроиться в благополучных странах, не меняя специальности и не теряя социального статуса. Эта самая группа в последние годы советской власти подвергалась осуждению («лодыри, ничего не делают для ускорения научно-технического прогресса») и служила мишенью для многочисленных анекдотов и кинокомедий о жизни абсурдных НИИ и КБ. И вот— на тебе! Живут теперь на виллах и гребут деньги лопатой.
Однако не все так мрачно. К чести руководителей Российской Академии наук, они всегда выступали и выступают против насильственных мер по отношению к ученым, ищут возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества наших ученых за рубежом с «материнской» наукой. Прояснению картины интеллектуальной миграции из России и стран СНГ служат обстоятельные исследования А. Аллахвердяна, А. Юревича, Л. Леденевой, В. Воронкова, И. Дежиной, Е.Тюрюкановой и других экспертов. Благодаря этим работам мы имеем хотя бы общее представление о масштабах процесса, выталкивающих факторах, структуре выезжающего потока и динамике развития диаспоры.
Оговоримся сразу: объект нашего внимания — не все наши соотечественники за рубежом, а лишь те, кто занимает творческие научные должности, кто поддерживает связь хотя бы с одним, двумя, тремя русскоязычными коллегами, кто интересуется происходящим сегодня в России (пусть этот интерес не всегда доброжелателен). Изучать российскую научную диаспору нелегко. Инструменты исследователя — анализ скудной зарубежной статистики, мониторинг Интернет-активности диаспоры да личная переписка с возможно большим числом россиян, активно работающих по всему миру и во всех областях знаний. Диалог с диаспорой далеко не всегда может быть источником объективных сведений, чаще всего это сугубо личностные эмоциональные суждения. Однако слушать голос диаспоры необходимо — ведь за сухой статистикой кроются судьбы наших сограждан. В последующем тексте, помимо статистики, я привожу (курсивом, без указания авторства) палитру мнений наших ученых, работающих за рубежом, по различным животрепещущим вопросам. Это выдержки из переписки, а также данные мониторинга Интернет-форумов, организованных в ходе проекта «Диалог с диаспорой» 1998–2001 годов под эгидой Центра информационного обеспечения науки при Акустическом институте имени Н. Н. Андреева.

Сколько их?
Чаще всего задают вопрос, кто составляет диаспору и сколько их, уехавших? Этот вопрос беспокоит многих, даже далеких от проблем научно-технической политики, потому что на личном уровне известно — у кого-то уехал коллега, у кого-то родственник, у кого-то друг. Мы, конечно же, знаем, что уехали ученые и, видимо, очень сильные, поскольку слабым там просто делать нечего. Но сколько их там, как им там живется, что они там делают, каковы их успехи, есть ли обратная связь с коллегами из научно-технической сферы России? Обо всем этом известно очень мало.
Первые попытки оценить распределение наших ученых по принимающим странам основывались на официальной эмиграционной статистике, которую ведет Министерство внутренних дел. Она распространяется на тех выезжающих на постоянное место жительства (ПМЖ) лиц, которые на Родине работали в отрасли «наука и образование». В этой статистике оказалась очень велика доля этнических немцев, в связи с чем некоторое время официально считалось, что большинство наших ученых оседают в Германии. Уточнение этих данных показало, что новые занятия именно этой группы уехавших ни к науке, ни к образованию отношения не имеют.
Более того, выяснилось, что выезд на ПМЖ относительно слабо связан с научной миграцией: на постоянное место жительства уезжают одни ученые, а творческий потенциал российской диаспоры формируется в основном за счет других, выехавших по временным визам (хотя, возможно, и с тайной надеждой «пустить корни» за границей). По-видимому, (а) выехавшие на ПМЖ ученые в большинстве случаев вынуждены менять профессию и (б) интеллектуальная миграция все-таки не носит этнического характера.
К середине 90-х уже окончательно стало ясно, что основным центром притяжения наших интеллектуалов являются США. Различные оценки в этом отношении сходятся и дают для США долю в 70 процентов всех активно работающих за рубежом россиян-исследователей. Одна из таких оценок основывается на хорошо известной статистике распределения по странам-реципиентам выпускников Московского физико-технического университета. Это достаточно многочисленный и хорошо организованный отряд российского зарубежья, его «параметры» во многом характерны и для всей диаспоры.
Таким образом, масштаб научной эмиграции во многом определяется емкостью рынка научного труда США. Полезные данные предоставляет Национальный научный фонд (ННФ) США в виде статистики выдачи постоянных въездных виз в США для ученых и инженеров всего мира[1]. Специалистам в области инженерных наук выдается 10–15 тысяч виз в год, представителям других отраслей науки и техники — математикам, компьютерщикам, исследователям в области естественных наук и гуманитариям — менее чем по 5 тысяч виз в год. Учитывая известное соотношение — на одного научно-технического работника, имеющего постоянную визу, приходится четыре-пять находящихся в стране по временным визам — получаем, с учетом доли США в общемировом выезде россиян, что российская научная диаспора постоянно имеет в своем составе 20–30 тысяч человек (без учета членов семьи).
30 тысяч, много это или мало? Для наглядности эту цифру полезно сравнить с другими кадровыми показателями российской и зарубежной науки.
Например, 100 тысяч человек — это стабильная цифра, характеризующая количество исследователей, которые из года в год работают по проектам Российского фонда фундаментальных исследований. Таким образом, 30:100 —примерное соотношение средней численности диаспоры к числу активно работающих специалистов в области фундаментальных наук. Интересно, что примерно такое же отношение в своей оценке дает академик В. Гинзбург для ученых наивысшей квалификации: из 121 члена РАН (Отделение общей физики и астрономии) ориентировочно 20 имеют постоянную работу за границей[2].
Когда мне довелось обнародовать приблизительную оценку численности российской диаспоры, зарубежный отряд наших ученых пришел в волнение. Кто-то из них считает эту злосчастную цифру заниженной. Вот типичные отклики:
• Я уезжал одним из первых, в 90-м году. Друзья, провожая меня, были полны энтузиазма и уверяли, что выдержат и добьются своего на Родине. Прошло несколько лет, все они уехали. Мы подсчитали, что только в Калифорнии сейчас работают 8 из 12 бывших сотрудников нашего отдела. Еще 2 человека — тоже в Америке, на Восточном побережье, один из бывших «наших» — в Англии. У меня такое чувство, что та среда, в которой я когда-то жил в Москве, неким волшебным образом переместилась на Запад. Явстретил на улице даже бывшую соседку по лестничной клетке. Девушка, за которой я ухаживал в молодые годы, окликнула меня в супермаркете. Если я решу теперь вернуться в Москву, она будет для меня почти пустой — все мои друзья давно здесь.
• Знали бы вы, люди, что творится в современной биологии... или, скажем, в... музыке, разумеется академической, — хоть это и не совсем наука, но неплохой пример того, что из России выехали целые ПРОФЕССИИ. Я был поражен, когда в Вашингтоне на день рождения моего друга пришли все, кто приходил к нему некогда в Москве. Исчезла целая прослойка и, поверьте, большей частью — навсегда. Они уезжают, обзаводятся домами, машинами, ТАМ рождаются дети, и все это сжигает мосты.

• Я живу и работаю в городе Беркли, штат Калифорния. Двое земляков-нижегородцев, ученые, математики, работают консультантами в сфере финансов. В какую фирму вКалифорнии ни загляни, наткнешься как минимум на одного русского. Нас здесь любят. Работаем отлично за меньшую зарплату и не «возникаем». В нашей фирме было 13 русских, сейчас 10.
Действительно, выходцев из России можно встретить везде. Однако ученых-россиян при всем желании нельзя числить сотнями тысяч, поэтому требования увеличить оценку на порядок (или, в крайнем случае, на полпорядка) я оставил без внимания.
Не менее, а может быть, и более интересны мнения тех, кто считает цифру завышенной.
• Цифра 30 000, похоже, завышенная. В России такого числа ученых не было. 70 процентов «ученых» — это «соавторы» и карьеристы. Их никакая страна не примет. Они и составляют костяк наших НИИ и проедают те крохи, которые еще выделяет государство. А для настоящих ученых остается только эмиграция.
• Мне кажется, 30 тысяч ученых — это очень завышенная цифра. Может быть, всего и уехало 30 тысяч научных работников, но не все они смогли работать по специальности. Язнаю немало примеров, когда уважаемый в России научный работник, достигший достаточно высокого положения в своем институте, не поднялся за границей выше закупки оборудования и установки «софта» для маленькой фирмы, еле-еле сводящей концы с концами.
• Ученых в России очень мало. Под словом «ученый» в цивилизованном мире подразумевают только тех, кто в год имеет не менее 2–3 статей в рецензируемых журналах с высоким импакт-фактором. Таких персон в момент появления программ Сороса (1993 год) во всем бывшем СССР оказалось не более 40 000 человек.
Не будем впадать и в эту крайность. В России остались не только бесталанные. Анализ публикационной активности ученых при всех его недостатках дает кое-какие ориентиры. Согласно Science Citation Index, для последних лет имеем максимальную оценку числа статей в журналах с высоким импакт-фактором, подготовленных с участием диаспоры, — 2–3 тысячи в год. Материнская же наука, не заметив потери «бойцов», все эти годы по-прежнему публикует по20–25 тысяч статей в тех же журналах.
Почему уехали?
А вот другое число – 20 тысяч человек. 20 тысяч — это количество американских исследователей — обладателей докторской степени, которые постоянно пребывают за пределами США (также данные ННФ). Как мы видим, существует и американская научная диаспора, близкая к нашей по порядку численности. Однако если для американского исследователя выезд по продолжительному зарубежному контракту есть рутинный процесс смены работы, то (как мы уже знаем) для наших ученых отъезд — это нечто вроде глобального катаклизма. Из переписки с нашими учеными-эмигрантами я вынес стойкое убеждение, что вместе с каждым из них (почти) выехала целая вселенная.
• Это не я (мы) уехал (уехали) из страны, это страна уехала от нас. У меня до сих пор хранится паспорт гражданина СССР…
• Я могу объяснить, почему я уехал. Я осознал, что моя Родина предала меня. Это не прощается. Более 15 лет я участвовал в создании того, что требовалось моей Родине. В ущерб своим детям, жене, себе. Но я не думал об этом, потому что знал: мы делаем ВЕЛИКОЕ, нужное и полезное дело. И вдруг нам сказали, что мы не нужны. Наше ВЕЛИКОЕ просто сгнило от времени. Ощущение нужности и причастности сменилось ощущением предательства. Здесь, в Америке, я делаю ерунду (по моим прежним меркам), но она кому-то нужна, ею будут пользоваться — и пользуются — десятки и сотни тысяч людей. И поэтому я снова чувствую удовлетворение от своей работы, и мне не надо ничем жертвовать для этого.
Очевидно, что уехавшие зачастую осознают себя участниками небывалого доселе посткоммунистического Исхода. Они часто пишут о себе в стиле, не оставляющем сомнений в их оценке собственной исторической роли: «Мы, четвертая волна эмиграции…». Есть от чего потерять адекватный подход. Однако многие сохраняют здравый взгляд на происходящее и даже чувство юмора:
• Жить можно где угодно — земля круглая. В Англии, например, прилично и престижно жить за границей, хоть в России. Француз-программист в Америке и есть француз-шабашник. А вот иррациональное желание хлопнуть дверью и накакать на могилу дедушки есть, по-моему, удивительная производная советского страха.
Очень важны прагматические отклики. Ученые трезво рассуждают о причинах смены места работы, причинах, лежащих главным образом в профессиональной плоскости. Это радует, потому что служит подтверждением вывода ряда экспертов[3] о том, что устаревшая традиция «работаем там, где живем» наконец-то вытесняется более прогрессивной «живем там, где работаем».
• На сегодня я — русский студент в Университете Индианы (США). Учился в МГУ, потом переехал сюда. Если говорить о научной стороне дела (я биофизик), то даже в МГУ у меня создавалось впечатление, что наука там замерла. То, о чем говорили мои преподаватели, отличалось от того, что публиковалось в англоязычных научных журналах, как Антилопа-Гну от Тойоты-Авалон. Приехав сюда, я пообщался с целым рядом русских ученых моей специальности. И очень многие отмечали именно застойность мышления их коллег, оставшихся в России. Одна из основных причин отъезда молодых — оторванность наших учителей от реального положения дел в мировой науке. Где-то от незнания, где-то от нежелания что-либо менять.
Вообще говоря, ученые — эмигранты четвертой волны (по крайней мере те, кто вступает в переписку) стараются избегать материальных вопросов, упирая на идейную сторону отъезда в подражание благородным представителям волны первой. Однако объективный анализ так называемых «выталкивающих факторов» девяностых годов указывают на материальное неблагополучие ученых на Родине как на одну из важнейших причин отъезда. Ничего стыдного в этом нет. И исследователи, рассматривающие свой выезд не более чем как смену места работы под действием материальных стимулов, тоже имеются в составе наших за рубежом:
• «Четвертая волна» эмиграции отличается от предыдущих трех. Впервые из России уезжали на Запад не как беженцы из тоталитарной страны, а «на работу». И если не понравилось, не прижился, то в любое время можно вернуться. И в юридическом смысле, и в сознании подавляющего большинства граждан России ученые, уехавшие на Запад в 90-е годы на заработки, ничем не отличаются от, скажем, советских ученых, работавших на Западе в 60–70-е годы в совместных проектах с западными коллегами.
Добавлю, что ученые, оставшиеся в России, в целом более доброжелательно относятся к уехавшим, чем уехавшие к оставшимся.
Чем они занимаются?
Какие позиции занимают наши ученые на Западе? Например, велика ли доля россиян среди преподавателей американских вузов?
Увы, анализ статистики показывает, что доля лиц, занимающих ключевые преподавательские позиции, в российской диаспоре незначительна. Иммигранты составляют примерно 20 процентов всех преподавателей престижных учебных заведений США. Лидируют выходцы из Индии (примерно 5 500 человек), замыкают первую десятку профессора-греки (около 800 человек). По россиянам и выходцам из других стран СНГ даже нет вразумительных данных. По-видимому,100–300преподавателей на постоянных позициях в университетах США — это максимально лестная для наших соотечественников оценка.
Заметную долю в числе наших преподавателей составляют не ученые, а специально приглашенные политики, деятели культуры и искусства (такие как Е.Евтушенко, В. Коротич, М. Голдовская и другие). Характерный пример: Сергей Никитич Хрущев преподает в престижном Университете Брауна. Однако, будучи специалистом в области ракетно-космической техники, С. Н. Хрущев преподает политологию.
В списке стран, делегировавших своих ученых на преподавательские должности в США, заметное место занимают развивающиеся страны — Китай, Южная Корея, Тайвань и даже Иран. Знание языка и ранняя интеграция в научно-техническую сферу США — вот необходимые условия для успешной преподавательской работы (т. е. сначала надо там учиться). За последние 20 лет сложилась определенная корреляция между числом иностранцев, обучающихся в вузах США, и числом их соотечественников, занимающих преподавательские позиции.
Оценку российских перспектив в этой области можно выполнить, также пользуясь скупой статистикой ННФ. С 1988 по 1996 год элитную стадию обучения — подготовку докторских диссертаций — по всем научным и инженерным специальностям в США проходили 1 354 выходца из стран Восточной Европы (включая Россию), из которых 294 человека получили предложения по трудоустройству. Как видим, цифры невелики. Для сравнения, аналогичную подготовку за то же время прошли 43 171 выходец из стран Азии (предложения продолжить работу в США получили 7 189 человек). Сухая статистика подтверждается мнением одного из наших успешных преподавателей:
• В американской науке (за исключением наиболее престижных университетов и профессий) все меньше коренных американцев. Быть может, мой пример не самый показательный, но я четвертый год читаю лекции в Стэнфорде. Группа студентов небольшая, человек десять, специальность специфическая, где-то посередине между физикой, электроникой и материаловедением. За эти 4 года в моей группе не было ни одного белого. В основном учатся выходцы из Азии (Китай, Тайвань, Япония, Индия), латиноамериканцы. Нормальные, испорченные цивилизацией люди идут в школы бизнеса, становятся адвокатами или, на худой конец, врачами…
Итак, в борьбе за престижные преподавательские места наши столкнулись с сильной конкуренцией и пока проигрывают. Означает ли это творческий крах диаспоры, бросает ли это тень на воспитавшую ученых-эмигрантов материнскую научную сферу? Пока такие утверждения преждевременны. Есть и другие критерии успеха.
Например, специалисты в области интеллектуальной миграции обращают внимание на долю иностранцев, занявших ключевые научные посты в стране-реципиенте (например, научные лидеры, имеющие собственный научный бюджет). Наряду с иностранцами-преподавателями они играют стабилизирующую роль в диаспоре, помогают молодежи, способствуют продвижению проектов в различных фондах.
Возможно, кто-нибудь из наших и пробьется к успеху на исследовательских позициях в академическом (университетском) секторе или в научных организациях промышленности. Однако в своей массе участники четвертой волны, работающие в этих секторах зарубежной науки, пока не повторили, а скорее всего, никогда и не повторят выдающиеся достижения эмигрантов послереволюционных. Вспомним, что в начале ХХ века С. П. Тимошенко, О. Л. Струве, И. И. Сикорский, Я. Д. Тамаркин и многие другие наши соотечественники не только быстро добились научных успехов за рубежом, но и заняли ключевые административные позиции в научно-технологической сфере: возглавили исследовательские учреждения, корпорации, научные журналы и общества.
Сегодняшняя ситуация принципиально иная. Россияне попадают в зарубежные научные организации в основном после окончания вуза. Более того, российские ученые, являющиеся уважаемыми специалистами на Родине, часто занимают скромные временные позиции в университетском секторе. Часто этими позициями бывают так называемые «постдоковские» вакансии. Впрочем, россияне занимают их не только от недостатка более выгодных в материальном смысле предложений. У временных позиций имеется тот плюс, что они выводят ученого на передний край науки:
• Ни для кого не секрет, что в основном наука делается докторантами и пост-докторантами. Это — рабочие лошадки профессора-американца, получающие мизерные деньги и вкалывающие с утра до ночи. Зачастую это происходит отнюдь не из-за злого умысла: профессор, чертыхаясь, более половины своего времени тратит на подготовку бесконечных заявок на гранты (в среднем сейчас проходит примерно одна заявка из десяти, а то и меньше). Факультет оценивает профессоров прежде всего по тому, сколько грантов они выбили, как они выглядят в «public relations», как притягивают и выкачивают деньги из промышленности, и только потом уже — сколько публикаций и какие публикации они сделали.
Тяжелый изматывающий труд, а вовсе не праздная леность на виллах — вот удел наших ученых за рубежом, если они приняли решение все-таки оставаться в сфере науки. И, следовательно, удел нашей системы подготовки научных кадров— поставка за рубеж не лидеров, а крепких и надежных «рабочих лошадок».
В девяностые годы трудности испытывала не только российская наука. Окончилась холодная война, и сразу возникли сложности с адаптацией к новым условиям в учреждениях фундаментальной науки США и других стран Запада. Поэтому проблемы выживания не российской, а американской (британской, французской…) науки волнуют наших тамошних ученых в первую очередь:
• Дела с наукой сейчас во всем мире обстоят довольно-таки скверно. Даже в Америке университеты сейчас находятся на голодном пайке по сравнению с периодом 10–15-летней давности. То же и в промышленности: сокращаются исследовательские лаборатории. Почти полностью развалились знаменитые «Bell Laboratories», недавно «Kodak» закрыл свой исследовательский центр, сокращается лаборатория «Hewlett Packard», почти распался исследовательский центр «Xerox». Приезжающие к нам пост-докторанты из Европы — Германии, Франции, Великобритании — рассказывают мрачные истории о безработице и бедственном положении научных сотрудников в этих вполне процветающих, благополучных странах.
Очевидный минус временных исследовательских позиций в академическом секторе состоит в том, что они могут превратиться в пожизненные нищенские должности:
• А насчет перехода на работу в промышленность — очень хороший вариант, но нереальный. Большинство русских остаются постдоками до глубокой старости.
Свободный от эмоций анализ показывает, что эту беспросветную тоску нагоняет в основном «молодежь» среднего возраста с 2–3-летним стажем пребывания за рубежом. Они не рассчитывали, что путь к успеху окажется таким долгим. А вот научные эмигранты с 20-летним стажем, выехавшие еще по диссидентской или «еврейской» линии, куда как более жизнерадостны и оптимистичны:
• Надобно знать, что в Штатах существует специальная квота для «выдающихся» ученых. В эту группу попадают ученые-специалисты, имеющие десяток-другой публикаций, желательно в международных журналах, и несколько рекомендаций американских коллег с именем. И эта политика будет продолжаться, покуда существуют США, страна эмигрантов. В моей области (прикладная физика плазмы) собственно американцев в американских университетах и компаниях уже, пожалуй, меньшинство. Тонзадают китайцы (красный Китай, Тайвань и Гонконг), за ними индусы, европейцы, израильтяне и — в последние годы — русские. Русских ценят (по крайней мере в США) не меньше, чем китайцев: за широту образования, творческий подход и смекалку, трудолюбие и... инициативу (да, да — инициативу). И будут дальше брать в «вузы» и компании. На первых порах платят меньше, чем «коренным американцам», но через5–8 лет мы обычно догоняем тех по зарплате.
Ну что же, можно посоветовать вновь прибывшим потерпеть 5–8 лет. Может быть, все и встанет на свои места. Однако многие не хотят ждать. Уже сегодня в поисках решения тех или иных проблем часть ученых-эмигрантов обращается за помощью к «материнской» российской научно-технической сфере. Во всяком случае, если ученый продолжает поддерживать плодотворный контакт с серьезным российским научным учреждением, его авторитет в глазах коллег и работодателей повышается.
Что нам ждать от диаспоры?
Как выяснилось, наши интеллектуалы за рубежом очень и очень разные. В Монреале живет талантливый изобретатель, который за свои деньги разработал и запатентовал массу полезных вещей, от тормоза для роликовых коньков до гипермаховика, который, как он надеется, будет основой транспорта двадцать первого века. Он их запатентовал, но упорно никому не отдает в ожидании, когда российская промышленность встанет на ноги. Есть очень одаренный фармаколог в Балтиморе, который продвигает идею Российского международного фармакологического центра. В Бостоне есть специалист по плазменным технологиям, который осуществил блестящий сравнительный анализ развития этой технологии у нас и в США и дал полезные рекомендации. Специалист по современным материалам из Израиля спонсирует поездки наших ученых на международные конференции.
Этот список можно продолжать и продолжать. Наши зарубежные специалисты разные, с разными взглядами на жизнь, но многих из них объединяет то, что они открыты для диалога с российской наукой. Итак, первое, на что можно рассчитывать, — взаимовыгодный информационный обмен.
Второе. Как мы знаем, у нас в науке демографическая ситуация очень неблагополучна, близка к критической. Средний возраст исследователей приближается к пенсионному. Вполне возможно, что через пять-десять лет мы обратимся к диаспоре в поисках лидеров — кандидатов на занятие каких-то ключевых научных позиций.
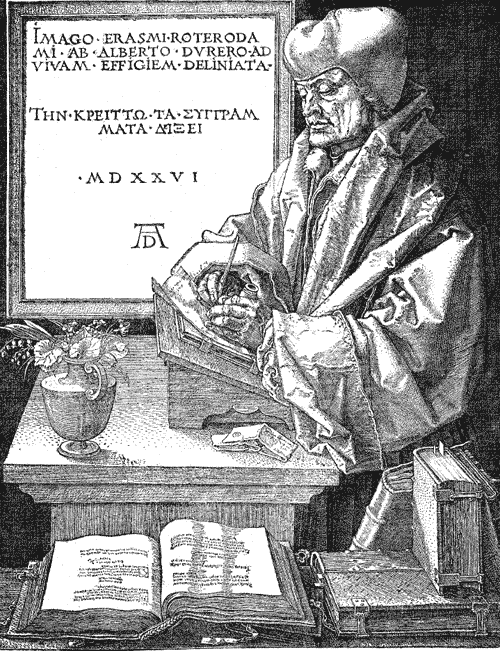
Далее, роль научной диаспоры наверняка не будет ограничиваться только вкладом в научно-техническую политику, ее опыт бесценен для будущего развития России и модернизации всей нашей жизни. Например, в течение 90-х годов диаспора накопила совершенно уникальный опыт телекоммуникационного обмена в сети Интернет. Информационный сервис различных видов, созданный диаспорой для себя же, удивительным образом совпадает с концепцией так называемых муниципальных гражданских сетей, которые во всем мире уже функционируют. Мы же еще только приступаем к их созданию. Специалисты, занимающиеся вопросами местного самоуправления, а точнее информационной поддержкой местного самоуправления, легко оценят пользу такого опыта.
Будет ли обратный поток?
Какими могут быть сценарии развития диаспоры? Изоляция от материнской сферы, деградация, ассимиляция…. Среди оптимистических сценариев — так называемый сценарий обратного потока. Обратный поток возникает, когда та или иная страна встает на ноги и в экономическом отношении начинает приоритетно инвестировать в отрасли науки и технологии. Впервые этот эффект наблюдался в отношении Тайваня. К 1989 году число возвращающихся составило 500 человек в год. Возвратившиеся заняли самые престижные позиции в компьютерной отрасли, в микроэлектронике, в проектах по физике твердого тела. К концу1992года это число достигло 2 тысяч человек в год. К этому времени за места на Тайване уже началась конкуренция. В 90-х годах обратный поток стал реальностью для Гонконга, Южной Кореи. Сейчас наиболее мощным центром притяжения, который не только возвращает свою диаспору, но и засасывает специалистов других стран, стал Сингапур, предлагающий весьма выгодные условия.
Стабилизировалась ситуация в Восточной Европе. Поток возвращающихся в Чехию превышает поток эмиграционный. Здесь объяснение скорее политическое — возвращаются бывшие студенты, бежавшие после событий 1968 года. Теперь это маститые профессора. Пока еще нет обратного потока в Китай, Индию, Бразилию (по какому-то совпадению именно эти страны пытаются жестко регулировать «утечку умов»), но положение может и измениться в ближайшем будущем.
Это позволяет определенным образом спрогнозировать ситуацию для нас. Очередность очевидна. Сначала — экономический рост, потом — быть может — обратный поток россиян-ученых. При нынешних средних по России темпах экономического роста тайваньское чудо маловероятно. Однако лет через десять неравенство российских регионов может оказаться очень зримым — кто-то вырвется вперед. Средние цифры по стране потеряют смысл, а ученые-эмигранты, рассматривающие возможность возвращения, обнаружат в тех или российских регионах вполне приемлемые для своей деятельности условия. Так что отказываться от сценария обратного потока пока не будем.
Сегодня же возвращать кого-то из ученых, особенно выдающихся, ради самого факта, чтобы потом показывать, как диковинного зверя, как единичный экземпляр, — конечно, непродуктивно и не кончится ничем хорошим. В массовое возвращение ученых (немедленно, сегодня) не верит в первую очередь сама диаспора:
• Возникнет ли в России ситуация, в которой уехавших ученых будут приглашать вернуться? Хотелось бы потешить себя такой надеждой, но, думаю, это нереально. Научные исследования требуют огромных затрат. А зачем они нужны в наше время? Ядерные боеголовки и ракеты уже сделаны. Бытовую технику и лекарства всегда можно купить на Западе или на Востоке, были бы деньги...
Сосуществование двух частей российской науки, «домашней» и зарубежной,— объективное явление на многие годы вперед. Для развития информационного обмена и сотрудничества сегодня полезен опыт восточноевропейских стран. Их мероприятия включают гранты для соотечественников, в рамках которых можно работать на Родине, участие в стажировках и обменах, конференции разнообразных типов, открытие национальных научных журналов для зарубежных авторов, специализированные программы с участием Европейского Союза— CREATIVE-2000, ТЕМPUS, PHARE и другие. Наши ученые за рубежом знают об этом.
• Совместные проекты, пожалуй, самый надежный способ превратить уехавших в «хуацяо». Наверное, это еще и хорошая поддержка для оставшихся.
Словечко «хуацяо» (синоним ностальгирующего эмигранта, лояльного по отношению к исторической родине) часто присутствует в переписке наших ученых. «Хуацяо ли мы?» — часто вопрошают они, и многие дают положительный ответ. Будем надеяться, что их готовность проявить заботу о матери-Родине — искренняя.
• Я уверен, очень многие ученые и специалисты, даже уехавшие навсегда, с удовольствием и за не очень большие деньги (а может быть, и бесплатно) будут по крайней мере приезжать в российские университеты для чтения лекций
• Кучка уехавших ученых — это 30 000 очень умных и, в среднем, весьма состоятельных людей. То, что 30 000 крайне положительных детей не способны позаботиться о своей маме, и представляется мне иррациональным нарушением сохранения порядочности в природе. Все российские библиотеки и школы не сохранить. Но заботиться о живом существовании каких-то доступных библиотек и школ можно. Есть примеры, но почему-то они нетипичны.
А вот готова ли Родина принять заботу от уехавших и, со своей стороны, оказать им поддержку в каких-то экстренных случаях? Представляется, что — нет, не готова! Имеются общедоступные сведения о мировом опыте интеллектуальной миграции за 50 лет. Есть доставшиеся немалой ценой рекомендации наших экспертов по свежим следам эмиграции девяностых. Однако общественное понимание проблемы так и не поднялось выше бесконечных дискуссий на тему о том, не пора ли «слупить» отступные за уехавших ученых с их новых работодателей по примеру наших футбольных и хоккейных клубов. А если с работодателей не удастся, то, может быть, родители уехавших раскошелятся? Обсуждения вопроса, чьей же собственностью являются «утекшие мозги», отпугивают эмигрантов нынешних и подстегивают эмигрантов потенциальных. Здесь наши ученые «экс-патриоты» непривычно единодушны. Одна из многих, молодая исследовательница, заброшенная нелегкой научной судьбой в Германию, заявляет без обиняков:
• Ничьей собственностью себя не считаю, хотя очень хочу вернуться и очень скучаю по Питеру.
[1] National Science Board, Science and Engineering Indicators — 2000. Arlington, VA: National Science Foundation, 2000 (NSB-00-1).
[2] Гинзбург В. Чужие? Нет, свои! // Поиск. 1999. № 52. C. 13.
[3] Леденева Л., Тюрюканова Е. «Между Родиной и работой» // Голос России. 1999. № 4.
