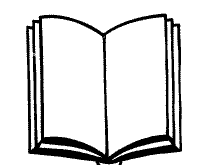Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Без сослагательного наклонения
Российская научная эмиграция: Двадцать портретов // Под ред. Г. М. Бонгарда-Левина и В. Е. Захарова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 368 с.

|
Эту книгу издали уважаемые люди, руководствуясь самыми благими намерениями: рассказать нам, ленивым и нелюбопытным, хотя бы о некоторых представителях русской науки, чьи имена как «белоэмигрантов» и «невозвращенцев» советская власть тщательно вымарывала из нашей коллективной памяти. Итак, двадцать биографий. Имена одних известны многим: Владимир Зворыкин изобрел телевидение, Игорь Сикорский — вертолет, Георгий Гамов был физиком «нобелевского» масштаба, Роман Якобсон — классиком языкознания, Василий Леонтьев — нобелевским лауреатом. Имена других ученых известны преимущественно специалистам — великий византинист Андрей Грабар, великий химик Владимир Ипатьев. Впрочем, публика всегда и везде больше интересуется людьми литературы и искусства, нежели учеными, инженерами и изобретателями. Соответственно и коллективная память тех, кто до начала Гражданской войны успел получить хотя бы среднее образование, сохранила и даже передала потомкам имена: Иван Бунин, Леонид Андреев, Михаил Чехов, Вацлав Нижинский. После 1953 года стали возвращаться и книги, и полотна, так что спустя полвека мы наконец можем мыслить русскую гуманитарную культуру как единое целое. Применительно к истории русской науки положение дел выглядит иначе. За некоторыми исключениями, мы мало знаем о русских ученых, покинувших страну в числе двух миллионов эмигрантов первой волны, об их судьбах и вкладе в мировую науку. Сверхзадача данной книги, как пишет в предисловии академик Владимир Евгеньевич Захаров, показать, что мы потеряли из-за отъезда представителей научной элиты. Прямая же задача определяется как более скромная — «рассказать о двадцати из множества российских ученых, покинувших свою страну из-за неприятия нового общественного порядка, из-за страха перед репрессиями или просто из желания иметь нормальные условия для работы» (с. 5). Замечу, что составители аккуратно обошли вопрос о том, кого вообще следовало бы считать представителями русской научной эмиграции: всех бывших подданных рухнувшей русской империи, кто уехал и прославился на научном поприще вне родины (как, например, покинувшие страну юношами Отто Струве и Джордж Кистяковский), или преимущественно тех, кто принадлежал к отечественной научной школе, как Феодосий Григорьевич Добжанский, который уехал в США в 1927 году сложившимся ученым. Академик Владимир Евгеньевич Захаров отмечает в предисловии, что имен могло бы быть и больше: «двадцать — это случайное число». Выбор, видимо, определялся и тем, что в распоряжении составителей А. В. Бялко и Н. В. Успенской уже имелись соответствующие публикации в журнале «Природа» — таких текстов я насчитала 11. Желание их собрать лишь естественно. Однако имен могло бы быть и меньше: быть может, тогда о каждом из героев можно было бы рассказать больше, а главное— лучше. Так, статья Вячеслава Всеволодовича Иванова о Романе Якобсоне мало что добавляет к его же вступительным статьям, предпосланным двум солидным томам трудов Якобсона, изданным «Прогрессом» (в1985 и 1987 годах); столетие Якобсона (1996) было отмечено в Москве большой конференцией и изданием тезисов его докладов. Знаменитая книга Андрея Грабара «Император» вышла у нас в 2000 году (тиражом 3000экз., т. е. в три раза большим, чем обсуждаемый сборник) в прекрасном переводе Юрия Грейдинга. Тексту предпослана отличная вступительная статья Энгелины Смирновой с необходимым научным аппаратом и ссылкой на полную библиографию Грабара. И не подумайте, что библиография эта помещена в каких-нибудь Cahiers или Compte-Rendues. Все куда проще: есть книга «Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь: К 100-летию А. Н. Грабара» (СПб., 1999). Врецензируемом издании о Грабаре пишет та же исследовательница, но почему-то Энгелина Смирнова даже не упомянула, что отныне «Император» доступен по-русски, да еще с иллюстрациями и большим справочным аппаратом. Степан Прокофьевич Тимошенко — ученый мирового масштаба, без трудов которого немыслима современная прикладная механика. Но никак нельзя сказать, что на родине его имя малоизвестно. Во-первых, его учебники неоднократно издавались начиная с 30-х годов; во-вторых, в Киеве еще в 1993 году были изданы и его обширные и увлекательные мемуары, вышедшие ранее по-русски в Париже в 1963-м. А в 2000 году в Петербурге была издана (хоть и малым тиражом) солидная книга чл.-корр. РАН Эдуарда Ивановича Григолюка «С. П. Тимошенко: жизнь и судьба» с наиболее полной библиографией его работ. Кстати сказать, в 1996 году у нас вышел перевод брошюры самого Степана Прокофьевича Тимошенко «Инженерное образование в России» (1959), где он убедительно обосновал свою высокую оценку подготовки инженеров у нас в стране. Но в статье Василия Борисова ничего об этом не сказано, а упомянут лишь английский перевод мемуаров Тимошенко (1968). Разделу о Тимошенко предпослана небольшая заметка Марины Сорокиной о специфике жизни и статуса русской научной эмиграции в США. К сожалению, это единственный материал сборника, имеющий концептуальный характер, судя по всему, краткость здесь продиктована сугубо издательскими соображениями. Автор не только имеет что сказать, но и умеет это сказать, а будучи архивным работником, знает цену справочному аппарату. Вот Марине Сорокиной и было бы весьма кстати предложить развить ее тезисы о причинах, по которым именно в США русские эмигранты — будь то чистые математики, как Яков Тумаркин, или создатели новых технологий, как Владимир Зворыкин и Игорь Сикорский, — могли реализовать свой потенциал в полной мере. Опять же только Сорокина дает справки о лицах, упомянутых в публикуемых ею материалах. Увы, большинство статей сборника не отягощены ни концепциями, ни даже минимальным справочным аппаратом. Поэтому лишь немногие тексты в рецензируемой книге могут быть реально полезны адресату, если последний мыслится как широкий читатель. А этот читатель, даже неленивый и любопытный, о Петре Милюкове в лучшем случае знает, что при покушении на него в Берлине погиб отец Набокова, заслонивший его своим телом. Но почему не отослать этого же читателя к «Очеркам русской культуры» самого Милюкова — разве не для него эту некогда знаменитую книгу у нас переиздали в 1994 году? Не буду множить примеры. Вообще, публикация под одной обложкой жизнеописаний естествоиспытателей, изобретателей, представителей общественной мысли и «чистых» гуманитариев не самый удачный способ заполнения лакун в представлениях о русской научной эмиграции. Научно-популярный журнал «Природа», откуда взята (пусть с переработкой) половина текстов, адресован тем, кто в общих чертах знает и проблемах современных естественных и точных наук, а главное — имеет определенное представление о русских естественно-научных школах и о том, какие трагедии были неизбежны, когда эти традиции насильственно обрывались, книги запрещались, имена вычеркивались. Однако историки, филологи, юристы, историки искусства, пережившие свои трагедии, погружены в совершенно иной контекст, и последний практически не пересекается стем, в котором существуют «естественники». Ведь люди науки реально причастны не к«науке вообще», а к «своей» науке и ее истории; прочими же специальными вопросами они интересуются наравне с остальным социумом, т. е. либо в связи с научными открытиями грандиозного масштаба (например, расшифровка генома человека), либо в связи с практическими приложениями научных результатов (атомная энергия, медицинская генетика). Общество же в целом не слишком озабочено не только историей науки, но и учеными, ныне работающими в доме за углом. Именно поэтому так трудно писать об ученых «для всех». Иное дело, когда ученый обладает даром рассказывать о себе сам — посмотрите, как высвечена изнутри атмосфера в науке и обществе первых послереволюционных лет в мемуарах Владимира Костицына, не предназначенных для печати (публикация Николая Сидорова). Или когда владеет литературным талантом, как Георгий Заварзин, написавший очерк о Сергее Николаевиче Виноградском — основателе общей микробиологии, или Михаил Голубовский, сумевший дать живой и яркий портрет эволюциониста и генетика Феодосия Григорьевича Добжанского на фоне его старших и младших современников и коллег из разных стран. Можно лишь посочувствовать Владимиру Кузнецову: его герой, крупнейший русский химик Владимир Николаевич Ипатьев, принявший революцию, в 1930-м, когда уже грянул процесс Промпартии и множились аресты, все-таки покинул СССР — и потому книга Кузнецова об Ипатьеве, законченная в1967году, четверть века ждала публикации. Из переданного в очерке Кузнецова рассказа Германа Пайнса, американского коллеги, ученика и душеприказчика Ипатьева, следует, что Владимир Николаевич Ипатьев в конце1940–1950-х годов пытался вернуться на родину и хотел привезти сюда же и Пайнса (!). Отказал ему сам Громыко. Кузнецов полагает, что возвращение Ипатьева помогло бы нашей науке и промышленности. Но ведь куда более вероятно иное развитие событий: скорее всего, Владимира Николаевича Ипатьева бы ждала «шарашка». Так что более естественно считать, что Ипатьеву повезло. Вообще же, в сборнике присутствует некий идейный крен, связанный, как мне кажется, с чем-то более глубоким, нежели нынешние материальные бедствия российской науки. Так, предисловие академика Владимира Евгеньевича Захарова заканчивается пассажем, который я вынуждена процитировать: «По иронии истории это богатство [наука] постоянно оказывается в руках самоуверенных недоучек, которые твердо знают одно: они могут с наукой делать все, что хотят. Такими были большевики, таковы и нынешние реформаторы. История покажет, кто из них был более безжалостен к науке». Глубокоуважаемый коллега! При большевиках Вам, директору Института теоретической физики, и в голову бы не пришло не то что писать подобные строки, но даже прошептать их на ухо близким людям. А если бы Вы посмели эти строки напечатать, то рецензируемый сборник, «по недосмотру» подписанный к печати летом 2001 года, был бы немедленно уничтожен «путем мелкой резки и сжигания». Именно при нынешних реформаторах учрежден субсидируемый государством Российский фонд фундаментальных исследований, оплативший издание, которое Вы редактировали. Самоуверенные недоучки были, есть и будут во всем мире, а вот делать, что хотят, они могут только при диктатуре. У нас (пока что) демократия. Мои (надеюсь, и Ваши) аспиранты только от нас узнают об учреждении, которое называлось «Отдел науки ЦК». Так что лучшее, что мы можем предпринять, это готовить следующие книги и с их помощью делать более доступными уже изданные. И помнить, что всякий ресентимент контрпродуктивен.
|