Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Уроки французского
Наконец Франция обрела президента. Которого заслужила. Один из основных бастионов демократии — институт президента — был спасен от правого экстремизма. Однако завершение президентских выборов — еще не конец интриги. Большинство наблюдателей считает, что предстоящие парламентские выборы дадут более четкую картину о политических предпочтениях французов, чем выборы президентские. Поэтому уже сегодня основные политические силы пытаются перегруппироваться и сформулировать мораль сей захватывающей и поучительной истории.
Фон нынешней избирательной кампании определялся войной с международным терроризмом, эскалацией ближневосточного конфликта и перенесением его на европейскую почву, переходом к общеевропейской валюте, синхронной мировой экономической рецессией, ростом безработицы и целой серией ошеломительных побед правого радикализма в ряде европейских стран, в Австрии и Италии, например. Разве на этом фоне нынешнее торжество правого экстремизма во Франции было большой неожиданностью? Разумеется, нет. Просто никто не ожидал, что это случится таким образом, что Ле Пен, кандидат в принципе антидемократический, будет состязаться с демократическим кандидатом Шираком. Конкретность данного события, сам факт, что оно состоялось, открыли новую перспективу: поборник «правой революции» Ле Пен в качестве президента республики. Немыслимый до сих пор сценарий стал более вероятным и приобрел черты наглядности.
До сих пор европейцы были склонны описывать победы крайне правых в ряде европейских стран[1] как специфические региональные недоразумения и сюрпризы. После того, как Ле Пен «опустил» Францию, усиление и консолидация правого экстремизма стали рассматриваться ими как явление общеевропейское и даже глобальное. Просветление снизошло благодаря появлению решающей детали, вдруг связавшей разрозненные фрагменты в единую картину: фронтального наступления экстремизма на институты европейской демократии.
Превращение правого экстремизма в общеевропейское движение дало основания некоторым наблюдателям говорить о возникновении «новых правых», синтезировавших идеи правого экстремизма и популизма. Термин «новые правые» претендует на определение специфики и исторического места этого движения. Прежде всего, предполагается, что у «новых правых» нет исторических корней в европейском фашизме и нацизме. Даже если такое предположение звучит вполне правдоподобно, оно вовсе не отменяет возможности, что при определенных политических обстоятельствах «новые правые» могли бы оказаться покруче нацистов. Кроме того, квалификация правых экстремистов как «новых правых» косвенно указывает на политическую территорию или нишу, которая оказалась «свободной» и которую они стремятся занять: разложение традиционных правых христианско-демократических ценностей привело к формированию новой правой идеологической платформы, построенной уже не вокруг Государства-Провидения, но вокруг таких тем и сюжетов, как иммиграция, национальное самоутверждение, рыночный либерализм, семья, религиозная вера и безопасность. Некоторые из них эксплуатируют свои местные, оригинальные сюжеты. Так, в Голландии «новые правые», «Лист Пима Фортрейна»[2] разработали свой особый стиль политического дендизма и успешно интегрировали в свою программу ценности и ожидания сексуальных меньшинств. Вместе с тем, «новые правые» достигли такой идеологической однородности и организационной зрелости, что в ближайшем будущем можно ожидать возникновения своего рода право-националистического Интернационала, как бы странно это не звучало.
Правые
Навязчивое присутствие Ле Пена, а затем его выход во второй тур чрезвычайно помогли правым и лично Жаку Шираку. Последний почувствовал себя настолько легко, что отказался от прямых дебатов с лидером Национального фронта. Это позволило Шираку, не вступая в полемику, занять позицию «неоспоримого нравственного превосходства» и взять высокую этическую ноту. Ему, поклоннику голлистского стиля, удалось репрезентировать высокую республиканскую мораль благодаря искусному употреблению трех риторических элементов.
Первый элемент связан с табу на публичное произнесение самого имени Ле Пена: табу, которого Ширак придерживается с середины 80-х годов прошлого века, когда столкнулся с необычной угрозой, исходящей с правого фланга. Символический жест, который должен был бы напоминать о правилах политической гигиены, о границе между респектабельными политиками и «неприкасаемыми». Ле Пен был низведен к экскрементам, о которых в приличной компании не только не спорят, но обычно даже не упоминают. Подобная брезгливость фактически привела к «засекречиванию» Ле Пена, к тому, что его выход во второй тур стал сюрпризом для подавляющего большинства французов и, прежде всего, для самого Ширака.
Второй элемент состоял в подчеркнутом выделении таких качеств, как трезвость, умеренность и респектабельность. С особой яркостью этот элемент проявился, например, в неучастии сторонников Ширака в первомайских демонстрациях. Республиканцы подчеркивали, что они принадлежат не «культуре улицы», но «электоральной культуре».
Третий существенный элемент — романтический волюнтаризм, который всегда позволял Шираку избегать вопросов о реформировании политической и конституционной системы Пятой республики, основания которой были заложены де Голлем. Ширак свел все проблемы к личным качествам конкретных политиков или, как он сформулировал в своей речи после первого тура, к «способностям самих людей, управляющих Францией, слушать, понимать и действовать». Таким образом, Ширак противопоставил реформе институтов «умную волю к действию».
В лагере Ширака убеждены, что именно левые способствовали появлению Ле Пена. В этой связи они вспоминают, как социалист Миттеран, добиваясь ослабления правых, использовал в своих политических интересах перекройку избирательных округов. На мой взгляд, чем больше правые будут настаивать на том, что истоки лепенистского проклятия находятся в субъективных и волевых политических решениях, тем быстрее, как шагреневая кожа, будет сжиматься их электорат.
Левые
Отсутствие социалистов во втором туре большинство наблюдателей объясняет внутрипартийным расколом. Анри Эммануэли, представитель левого фланга социалистов, сразу после поражения Лионеля Жоспена выступил с довольно утопической для сегодняшнего дня идеей — создать «понятную» платформу, способную объединить всех левых. Один из пунктов такой платформы — сплочение вокруг «символа мощи сопротивления перед лицом наступающего либерализма» — вокруг защиты социальных служб. Другая его невнятная инициатива — вместо подъема уровня заработной платы ввести в виде надбавки к зарплате «чек сострадания». Третья инициатива — создание сберегательных фондов для наемных работников. Представление своей платформы, которая не объединила даже социалистов, он завершил вполне здравым заключением: «Невозможно быть одновременно в Давосе и на Первомайской демонстрации в Париже».
Ответ от правого фланга социалистов озвучил Доминик Стросс-Кан, который заявил: «История доказала, что Кейнс сделал для рабочих гораздо больше, чем Роза Люксембург». Правда, и это заявление было не очень приветливо встречено почетным собранием. Эволюция левой идеологии привела к примечательному расколу: с одной стороны, мы видим поборников архаичной и консервативной критики капитализма, с другой, левых технократов, вроде Жоспена.
Доминирование технократов внутри социалистической партии способствовало формированию среди избирателей образа социалистической партии как «синдиката избранных», единственной стратегией которого стала забота о том, чтобы не занимать вообще никакой позиции. В этом смысле, фигура Жоспена представляется исключительно интересной. Многие критики указывают на его протестантское происхождение, сочетающееся с любовью к барочному стилю Ф.Миттерана, который редуцировал рациональное видение политики к отношению между институтами и учреждениями. В качестве карикатурной аналогии такой технократической установки можно привести недавние слова нынешнего министра МВД России Бориса Грызлова, кстати, тоже по вопросам иммиграции: «Сейчас миграционная политика должна повернуться на 180 градусов и осуществляться в интересах государства, а не пожеланий человека». Правда, даже для такого технократа, как Жоспен, Грызлов излишне «радикален» в своей «античеловечности».
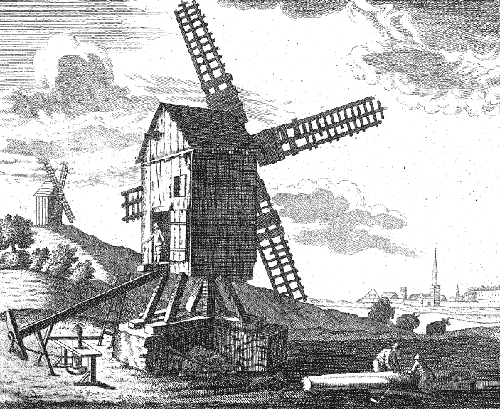
В ходе и особенно после «холодной войны» социалисты проделали знаменательную эволюцию: от ценностей социализма к риторике солидарности, а затем к«гуманитарным» ценностям сострадания и сочувствия. Их уравнительная идеологема приобрела черты морализаторской филантропии, а политическая программа стала аморфным выражением замешательства и отсутствия представления об исторической перспективе. Одна из причин нынешней дезориентации и паралича не только социалистов, но и вообще левых — их двойственное отношение к таким инструментам организации человеческого сообщества как рынок, бюрократическое и экономическое администрирование. Технократы так и не смогли приспособить к традиционным левым политическим и моральным ценностям бюрократические, рыночные, налоговые механизмы, поэтому предпочитают вообще не высказывать своей партийной позиции по этому поводу. Поборники же архаичных пролетарских ценностей отвергают рынок как порождение нравственно коррумпированного капитализма, а поэтому их политика ограничена абстрактной утопической критикой. Ле Пен выражает неудачу левых, поскольку представляет единственную альтернативу системе — этику революционности, антисистемности и радикализма.
Сильный центр еще не стабильность
Многолетний режим «сосуществования» консервативного президента и левого премьера способствовали формированию сильного центра. Естественно, что в интересах эффективного функционирования правительства обе стороны должны были найти общий язык, а не изъясняться на своих «партийных диалектах». Общим языком стал технократический язык менеджмента — хорошо известный и президенту, и премьеру, но непонятный широкой публике. Обоим казалось, что этот язык является воплощением «здравого смысла», что он позволит обрести более широкую социальную базу, поскольку он нейтрализует идеологические предпочтения. На самом деле, технократическая и прагматическая идеологема привела не столько к здравому смыслу, сколько к изоляции политического дискурса от дискурса морального. Социалисты столь же охотно, как и голлисты, изображали фигуру «нравственного превосходства» и с одинаковой страстью любили говорить с населением на языке нравственной притчи (например, что расизм — плохо, что культурная пестрота страны — хорошо). Вместе с тем, обе стороны очень успешно обходили вопрос об иммиграции — вопрос, имеющий самое непосредственное влияние на дискуссии о национальной идентичности, об отличии «своих» и чужих». Ле Пен был бы совершенным идиотом, если бы не подобрал то, что ему оставили респектабельные бояре.
Опасный вакуум между экономическими целями и моральными представлениями следовало бы заполнить, но не посредством банализации экономики до уровня притчи с моралью, а ясной и прозрачной программой, в которой за каждой экономической мерой избиратель мог разглядеть предпочтение в пользу определенного морального и политического проекта. Если же политика не подчинена определенным моральным предпочтениям, лаконично выраженным в политических лозунгах и идеологемах, если она живет автономной от морали жизнью, то это с неизбежностью приводит такую политику к капитуляции, к тому, что мораль и социальные идеалы становятся легкой жертвой примитивного и популистского экстремизма. Правый и левый центр общими усилиями фактически сдали территорию символического и чувственного во власть экстремизму. «Хорошую» политику — четко связанную с определенным моральным и историческим проектом, имел и осуществлял только Национальный фронт Ле Пена, с большой охотой снимавший пенки с социального недовольства, оставшегося после работы, проведенной неолибералами и социалистами. Только его избиратель четко видит свою нравственную надежду, только он оказался не дезориентирован.
Существует своего рода политологическая догма, в соответствии с которой наличие сильного центра автоматически означает большую стабильность, предсказуемость и широкую социальную базу. Французский опыт показал, что так бывает, но далеко не всегда. Нынешний центризм — результат технического компромисса между «менеджерами», а не политика политического центра, объединенного вокруг определенных ценностей и целей. Центризм последнего десятка лет — это развитие корпоративного духа и аппаратного кумовства, бюрократическая нирвана. Отсюда растущее ощущение у избирателей, что политика не имеет никакого отношения к реальности, что она лишена действенных этических ориентиров. Как левая составляющая коалиции, так и правая — в одинаковой мере приветствовали гуманитарно-филантропические рассуждения противоположной стороны. Поэтому-то центристская коалиция столь сильно дала в сторону, как от своего правого, так и левого электората, то есть фактически явилась генератором красного и коричневого экстремизма.
Нынешнее тяготение французов к противоположным полюсам застало политическую элиту страны врасплох: она принялась объяснять эту «склонность» как иррациональную, неожиданную, инстинктивную, протестную и невербальную. Однако столь же справедливо обвинение в иррациональности по отношению к правящим кругам Франции. Центристы, в равной мере правые и левые, настолько игнорировали надежды избирателя, настолько действовали по наитию, что в первом туре от них шарахнулись даже традиционные сторонники. В общей сложности они потеряли около трети голосов, на которые привыкли рассчитывать. За правых экстремистов проголосовало 20 процентов, а за левых — 10процентов, пришедших на выборы в ходе первого тура.
Партийно-политическая система
Сразу после первого тура в газетах замелькали предположения, что Пятая республика уже пережила свой расцвет и неуклонно движется к своему концу. В подтверждение данного тезиса обычно приводили социологические опросы, свидетельствовавшие о том, что массы фрагментированы настолько, что мнения простого большинства не существует. В политической неоднородности разглядели свидетельство неадекватности партийно-политической структуры структуре и ожиданиям населения.
Забавно, что на самом начальном и вялотекущем этапе президентской гонки, до потрясающих результатов первого тура, французская и особенно американская пресса писали об американизации французской избирательной практики, об эволюции избирательной системы в сторону двухпартийной. Многие отмечали стабилизирующую роль американской системы, когда две партии имеют достаточно широкую базу, дабы внутри себя гасить правый и левый экстремизм. Первый тур показал, однако, что события разворачиваются вовсе не по «американскому сценарию». Более того, именно в силу традиционной для европейских стран многопартийной системы удалось локализовать и «замерить» энергию экстремизма и его деструктивный потенциал. С точки зрения опыта прошедших французских президентских выборов, двухпартийная система скорее привела бы к «нормализации» экстремизма: ведь чтобы две партии были способны аккумулировать политическую энергию общества, они вынуждены с терпимостью относиться к присутствию экстремистов в своих рядах. Двухпартийная избирательная система скрывает, таким образом, подлинные масштабы экстремизма в обществе. О нем можно только иногда догадываться по тому, насколько нормален милитаристский имперский бред в ошеломленной собственной свободой и масштабами Америке.
В конце концов, французские обозреватели сходятся на том, что собственная избирательная система более приемлема, чем американская. Вместе с тем, им совершенно очевидно, что Конституция Пятой республики более не справляется с организацией общего политического контекста и с функцией обеспечения всеобщего институционального кода. Большой процент неучастия в выборах и столь же большое количество воздержавшихся говорят о том, что нынешняя избирательная система противостоит и сопротивляется реальным социальным и политическим тенденциям, то есть находится перед угрозой утраты собственной легитимности. Большое число так называемых «протестных» голосов показывает, что все чаще население отдает свои голоса кому-то совсем другому, тому, кому они вовсе не предназначаются. Эти голоса отдаются «другому» лишь потому, что на политическом рынке определенные надежды и ценности не находят своего выражения.
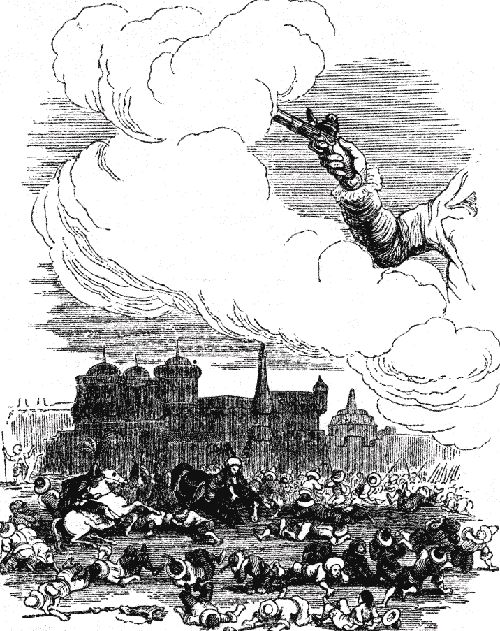
Конституция де Голля была создана в эпоху, когда классовые противоречия угрожали социальному миру, а потому «снимались» в готическом соборе национальной государственности. Конституция была призвана стать своего рода национальным пактом между классом рабочих и капиталистов. Но с уходом в прошлое «холодной войны» и со смещением центра социального противостояния старая традиция классового противостояния сменилась аморфным и неадекватным представлением о противоречиях между правыми и левыми.
Однако времена изменились. Характер кризисов имеет теперь не столько национальное, то есть внутреннее, происхождение, сколько внешнее, связанное с процессами глобализации и таким ее частным проявлением, как создание единой Европы. Именно эти внешние источники новой конфигурации социальных противоречий должны найти свое выражение в политической повестке дня, как левых, так и правых. Подобная задача вряд ли исполнима в том пространстве, которое организуется ныне действующей национальной конституцией. Кроме того, вряд ли механизмы национальной государственности способны управлять новой разновидностью социальных конфликтов, возникших исключительно благодаря глобализации. Россияне после дефолта 1998 года поняли, что их благосостояние лишь в незначительной мере зависит от их индивидуального трудового вклада. Такое же трагическое отрезвление наступило сегодня у ограбленных аргентинцев. Населению «догоняющих» стран стало совершенно очевидно, что государственные институты капитулируют перед лицом рынка и на него более нельзя рассчитывать в качестве гаранта по крайней мере экономической безопасности.
В богатых, экономически стабильных странах, вроде Франции, капитуляция государства переживается чуть иначе, но также связывается с пресловутой глобализацией, несмотря на то, что формат публичной дискуссии предполагает только две темы: безопасности и иммиграции. В массовом сознании эти две проблемы тесно взаимосвязаны, поскольку источники внешней угрозы связываются с террористическим потенциалом бедных стран третьего мира, а угрозы внутренней — с присутствием третьего мира на «нашей» суверенной территории.
Нелепый характер предвыборной перепалки между правыми и левыми о безопасности обнаружил, однако, интересную картину, иллюстрирующую, насколько быстро сокращает масштабы своего присутствия в социальном пространстве современное национальное государство. В целом по Франции насчитывается около ста двадцати городских районов и пригородов, где улица эмансипировала себя от государственной власти и добилась «суверенитета» — районы, на территории которых власть то ли не способна, то ли не хочет установить и распространить «диктатуру закона». Полиция знает, с какими рисками связано их появление на этих неподконтрольных государству городских агломерациях Внутренней Франции: они предпочитают двигаться по улицам цепочкой в 10–15 человек, в шлемах и бронежилетах, избегая слишком узких переулков и закрытых пространств. Именно аборигены этих районов, фактически лишенных привилегии жить в правовом пространстве, являются подлинными жертвами уличных авторитетов. Именно в пределах их бантустанов люди сталкиваются с опасностью повседневного уличного насилия. Характерно, что накал полемики вокруг иммиграции проходит не в условиях кризиса, а в условиях стабильного роста благосостояния среднего европейца. Столь же характерно, что иммигранты — жертвы криминальной вольницы и отсутствия государства на некоторых городских территориях, рассматриваются как главные носители угрозы общественному порядку. Результаты выборов показали, что уход государства с городских улиц, чреват утратой политического контроля над страной.
Франция и многие другие национальные государства смогут избежать конституционного и политического кризиса лишь тогда, когда сообща создадут новое наднациональное правовое пространство, наднациональную политическую инфраструктуру. Однако, самое главное — им не следует столь свято верить в мистическую способность рынка к эффективному и справедливому распределению ресурсов. Скорее, следовало бы подумать о возможностях создания механизмов международных перераспределения ресурсов и социальной защиты, аналогичных тем, которые были налажены в демократических национальных государствах с рыночной экономикой. Существующий режим глобального обмена[3] выгоден очень немногим национальным государствам.
Спокойная и легкая победа Ширака на президентских выборах — это только пауза перед выборами в законодательное собрание. Вряд ли в течение месяца левым удастся перегруппироваться. Скорее всего, следует ожидать продолжения вялого режима сосуществования правых и левых центристов. Успех крайне правых во втором туре президентских выборов без сомнения приведет к более жестким переговорам относительно Европейского сообщества, особенно относительно его расширения за счет стран Центральной и Восточной Европы — это, в общем-то, плохая новость. Хорошей новостью могла бы стать способность европейцев и американцев избежать в нынешних условиях мировой рецессии эскалации протекционизма. Если это удастся — это будет свидетельствовать не только об изменении культуры политических элит, но и о том, что существующие механизмы международного экономического регулирования уже достаточно прочны. Однако, во всяком случае в среднесрочной перспективе, отрицательные политические тенденции, связанные с правым экстремизмом, будут оказывать сильное отрицательное воздействие на конкурентоспособность европейского хозяйства.
* Сокращенный вариант статьи см. на сайте Полит.Ру 07. 05.2002 г. (www.polit.ru)
[1] Сначала, 4 февраля 2000 года, в состав австрийского правительства вошли представители либеральной партии Георга Хайдера. Затем был триумф Сильвио Берлускони в Италии во главе пестрой коалиции, объединившей все ингредиенты так называемых «новых правых». В ноябре резко вправо взяла Дания, в марте — Португалия. Во всех этих странах у власти стоят умеренные правые, которые косвенно или напрямую сотрудничают с крайне правыми. В сентябре пройдут выборы в Германии, которые обещают противостояние с крепнущим популизмом кандидата от ХДС-ХСС Эдмунда Штойбера, наследника Франца-Йозефа Штрауса. Правый экстремизм процветает также за пределами объединенной Европы. Корнелиу Вадим Тудор — друг Ле Пена, вдохновенный антисемит и ксенофоб — также был вторым на президентских выборах в Румынии — собрал 27 процентов голосов. Его движение «Романия Маре» — вторая по силе партия в парламенте. Прежний премьер-министр Словакии и ультра-националист Владимир Мечар стал уже вполне респектабельной фигурой и согласно последним опросам снова приобретает прежнюю популярность.
В Польше бывший боксер, а ныне защитник польского крестьянства Анджей Леппер и его движение «Самооборона» завоевали в Сейме 53 кресла из 460, а популистская «Лига польских семей» —38. Турция ныне управляется коалицией левых и правых, одним из трех компонентов которой является ультранационалистическая партия. См.: La Liberation. 2002. 22avril [http://www.liberation.fr/quotidien/semaine/020424-000017093PRES.html].
[2] Убитый в конце апреля Пим Фортрейн был замечательной для Европы фигурой не только
из-за уже не экстравагантной сексуальной ориентации и стильного облика, но и потому, что обогатил ультраправый популистский дискурс квазинаучной демагогией. Его враждебное отношение к иммиграции не эксплуатирует риторику этнической ненависти, не апеллирует к антропологии, но упирает на «социологические» и «политологические» аргументы, поскольку европейская аудитория мыслит сегодня по преимуществу социально-политически. Прежде всего, Фортрейн подчеркивал, что такие ценности голландской демократии, как культура компромисса, «народный» и непосредственный характер политической элиты страны, - находятся под угрозой разрушительного вторжения демократически необразованных масс из стран третьего мира.
[3] См. мою статью «Россия и режим глобального апартеида» [http://www.strana-oz.ru/numbers/2002_03/2002_03_08.html].
