Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Служители
Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс. Переписка 1920–1963. М.: Ad Marginem, 2001. 416 с.
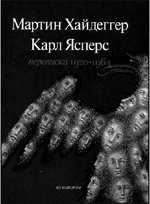
Не помню, кто — кажется, Аверинцев — заметил: «Нехорошо все-таки печатать Флоренского так, как будто он досократик и от него осталась только пара фрагментов». Это било в десятку: не так уж давно книжки с названиями типа «Критика буржуазной философии XX века» пользовались нехилым спросом — ради нескольких длинных цитат из «буржуазных философов». Впрочем, советская цензура иной раз делала послабления: образованцам иногда давали понюхать статью или эссе какого-нибудь «сартра» — разумеется, из тех, что побезобиднее, ну и не без купюр. В хороших изданиях они деликатно обозначались как «[…]» — о-о-о, какие алмазы яхонтовые мы воображали себе на месте этого клешнявого кукен-кракена! Особенно же показательной была тяга к изданию каких-нибудь безопасных и малоинтересных маргиналий. Например, в семьдесят третьем году от Р. Х. издательство «Мысль» порадовало томиком француза Леже-Мари Дешана (на родине вполне неизвестного), ставя себе при этом в особенную заслугу то обстоятельство, что переписка оного Дешана с Вольтером, Дидро и Робине издана в Стране Советов куда полнее, чем в «самой Франции». Несчастный советский гуманитарий выкушивал «что подали» и цыкал зубом: хотелось-то «настоящего буржуазного», а не дидерота вольтерыча.
Если «Переписка» легла бы на полки магазинов этак году в семьдесят третьем (так и вижу это издание — серенькая обложка, желтенькая бумажка, Л., Изд-во «Наука»... и, скорее всего, 1500 экз. — по тем временам микроскопический тиражик), то я живо представляю себе очередное разочарование читающей публики: опять обманули, опять выкинули из книжки все интересное, оставили одно нытье, склоки, брюзжание, университетские дрязги да еще денежные расчеты типа «в Пруссии я зарабатывал бы больше, 23300 с доплатами, причем я мог высказать свои пожелания — эта сумма не была их последним словом; здесь, в Бадене – 20 700, нольготы делают мое дальнейшее пребывание вГейдельберге равноценным, особенно это касается жилья...» (Ясперс — Хайдеггеру,1.12.1928). Крепенький синий томик, однако, издан в 2001 году, в рамках программы Центрально-Европейского университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности и Института «Открытое общество». То есть никакая цензура и рядом не валялась. Приходится признать очевидное — личная переписка двух величайших немецких философов XX века представляла собой именно то, что мы видим: нытье, склоки, брюзжание и ламентации на тему университетских интриг и подсиживаний. Последнее обсуждается с каким-то даже неприличным смаком. Ну и маленькие радости частной жизни: вот в книжном магазине появилась свежепереведенная шведская книжка «Мой друг зуек» (на радость Хайдеггеру), а вот смелый путешественник Ясперс пребывает среди альпийских ледников, ибо «железная дорога делает возможным все». Время от времени, конечно, прорывается и «духовное» — то Хайдеггер презентует Ясперсу свой перевод софокловского фрагмента из «Антигоны», то Ясперс разражается речью о «решающем». Но на фоне всего прочего это производит опять-таки скорее комическое впечатление — ну прямо-таки речь капельмейстера Иоганнеса Крейслера о «чистой гамме» и «унисонирующих Es и Des» на фоне брутальных ламентаций кота Мурра. Какая-то, извините, гофманиада.
Однако вся эта гофманиада — всего лишь форма представления совсем даже несмешных событий. Событийная канва вкратце такова. Декорация: Веймарская республика, бессмысленно безопасная, как стреляная гильза. Действующие лица: два молодых немца, недавно задумавшихся о смене профессии (Хайдеггер — несостоявшийся теолог, Ясперс— психиатр, доктор медицины, разочаровавшийся в последней по причине недостаточной основательности известной ему психологии), познакомившиеся на дне рождения Гуссерля в 1920 году. Они быстро сближаются, дружба перерастает в «со-мышление». Подобное общение в принципе невозможно без кукушачье-петушачьих интонаций (оба убеждены в том, что призваны «возродить немецкую философию», ругают стариков и хотят видеть Ницше у себя в студентах), но за грань приличия они не переходят.
Отчасти дело в том, что они все-таки не равны: Ясперс в этой паре — старший, как по возрасту, так и по послужному списку. Однако через некоторое время Хайдеггеру улыбается высунуться поперек батьки: в стране сменились порядки, открылись новые социальные лифты. Хайдеггер видит для себя перспективы: он вступает в партию и делает ряд красноречивых жестов. Это оценено по достоинству: 21 апреля 1933 года Хайдеггер избран ректором Фрайбургского университета. При вступлении в должность он произносит печально знаменитую ректорскую речь, которая в дальнейшем ему еще аукнется[1].
Для Ясперса эта карьерная линия закрыта: он женат на еврейке, либерал, «да и вообще». Что разрушает (хотя и не сразу) организационный тандем друзей. Разумеется, тут же открываются и бездны идейных разногласий, глубины необычайной. Последний раз Хайдеггер и Ясперс видятся в мае 1933 года. Переписка прерывается в тридцать шестом (как раз на обсуждении Ницше как «идеального немецкого студента») – на двенадцать лет. И каждый пошел своей дорогой — а поезд Большой Истории пошел своей.
Поезд пошел, как мы теперь знаем, под откос. Германия в очередной раз проиграла очередную войну, и Хайдеггер оказался «в нацистах». Правда, ректорствовал он недолго (девять месяцев, если быть точным) и на своем посту ни в каких особенных злодеяниях замечен не был — но порядок есть порядок. Пятнадцатого декабря 1945 года Комиссия по чистке направляет Ясперсу запрос на тему возможности оставления Хайдеггера на должности преподавателя — фактически, просьбу походатайствовать перед властями за человека, который, по выражению составителя письма, «был совершенно аполитичен» и «нацистом в обычном смысле слова не является». К тому времени Ясперс сделал бурную карьеру при оккупационных властях: он — видный антифашист, специалист по «немецкой вине», от него многое зависит. Ясперс пишет объективку на бывшего друга, где рекомендует отстранить его от преподавания, так как Хайдеггер изрядно провинился по еврейскому вопросу: во-первых, в тридцатом году недостаточно четко отвечал на вопросы Ясперса, и к тому же не дал г-ну Баумгартену положительную характеристику на вступление в НСДАП. Кроме того, стиль мышления Хайдеггера, по мнению Ясперса, является «диктаторским и некоммуникативным» (Ясперс тогда усиленно продавливал свою теорию «коммуникации») — и «пока в преподавателе не произойдет подлинного возрождения, его нельзя допускать к молодежи»[2].
Тем не менее Хайдеггеру удается вывернуться: после всех неприятностей, учиненных по политической линии, он все же остается известным философом, много пишет и даже потихоньку начинает набирать вес. При этом ему удается избежать процедуры публичного покаяния за нацистское прошлое, отделавшись общими словами. Ясперс чувствует, что его былой друг-соперник оказался крепче, чем ожидалось, и пытается возобновить «коммуникацию». Шестого февраля 1949 года Ясперс отправляет Хайдеггеру письмо на тему «встретиться и объясниться». Хайдеггер отвечает, достаточно вежливо, но встречаться и объясняться не собирается.
Отныне их переписка посвящена одному вопросу: Ясперс настаивает на встрече и объяснениях, Хайдеггер, сожалея о старой дружбе (Ясперс ему небезразличен), всячески избегает «коммуникации». Последний обмен любезностями состоялся после смерти Ясперса: траурная телеграмма Хайдеггера вдове («В память о давних годах, с уважением и участием») и характерный ответ («Также памятуя о давних годах, благодарю»). Это все.
Малопопулярный ныне Маркс где-то писал, что анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Имелось в виду, что сложное и развитое явление в чем-то понятнее, чем простое и малоразвитое: тут уж каждая деталька оказывается «понятно зачем нужна». Если считать немецкого профессора «высшим выражением немца как такового» (а для этого есть известные основания), то предлагаемая нам переписка представляет известный этнопсихологический интерес. Скорее всего, читая эти письма, мы мало что поймем в философии, но зато можем что-то понять в немцах — что, в свою очередь, есть необходимое условие для понимания философии вообще, раз уж она, по выражению Гегеля, «обрела свое место в Германии» — или, по крайней мере, долго там квартировала и набралась «известных привычек». Кроме того, у русских на философию свои виды.
Итак, полевые наблюдения. Философия для немца — это никакая не «свободная профессия» (как мнится, к примеру, галлам), а исполнение определенных должностных обязанностей. Впрочем, как и всякая другая работа: судя по всему, немцы представляют себе любой труд (начиная от забивания гвоздей и кончая поэзией) по образу и подобию чиновных занятий, как службу (пусть даже и «службу у Великого», см. письмо 110). То есть Хайдеггер и Ясперс — это прежде всего чиновники, в высшей степени наделенные молчалинскими добродетелями, умеренностью и аккуратностью (ср. письмо Хайдеггера от20декабря 1931 года, где он сравнивает себя со смотрителем галереи, который «следит за тем, чтобы шторы на окнах были надлежащим образом раздвинуты или задернуты»). Партикулярное философствование — отшельничество или частный активизм, говорение «от себя лично» — им не то чтобы чуждо, а непонятно[3].
Отсюда и карьеризм: то простое соображение, что философствовать можно и не на кафедре, просто не приходит им в голову.
Здесь сказывается специфика «чиновного сознания». Любую работу, кроме этой, можно выполнять «на дому» или «частным образом». Но работу чиновника можно делать только в«присутственном месте» — это, если угодно, дефиниция «бюрократических занятий» вообще. С этой точки зрения Хайдеггер и Ясперс сделали друг другу самое худшее — лишили места.
При этом на то у каждого были очень основательные причины.
Тут мы подходим к теме, которая, похоже, является основной темой классической немецкой философии, т. е. к вопросу об иерархическом верхе и своем поведении по отношению к нему. Кант в своей известной статье о Просвещении, где он подписался под знаменитым «думайте что хотите, но повинуйтесь», различил поведение на службе и безопасное домашнее резонирование, после чего обосновал эту дихотомию тремя «Критиками» (где ноумены находятся «при исполнении» и подчинены категорическому императиву, в то время как феномены партикулярны и подчинены «личным обстоятельствам», т. е. причинности[4]). В дальнейшем Гегель обосновал единство обоих состояний, а также слил образы земного начальства (Наполеона и Бисмарка) с Абсолютным Духом... С тех пор всякий серьезный (т. е. находящийся при исполнении[5]) немецкий мыслитель видит за любым начальством эту вторую сторону — «дух», «выражаемое». Хайдеггер и Ясперс тоже находятся «при исполнении» — и никогда об этом не забывают.
Но начальники-то у них разные! Хайдеггер назвал инстанцию, именем которой он подписывал свои документы, «Бытием», а Ясперс — «Разумом» и «Ответственностью». Впрочем, кто такие «Разум» и «Ответственность», понятно: это то самое, что привело в Германию войска союзников. Хайдеггер называл ту же самую вещь «поставом» и относился к ней сложно: понимая, что победить эту штуку в лоб нельзя, он рассчитывал, однако, на реванш в отдаленном будущем («Ereignis», «Событие») — справедливо полагая, что фишка еще может лечь по-разному, история штука хитрая... От гипотез насчет «Бытия» воздержимся: в конце концов, это всего лишь рецензия. Не стоит только сразу подозревать, вслед за Мигелем Фариасом, что хайдеггеровское «Бытие» — это какая-то «зашифрованная нацистская штука». Судя по всему, Хайдеггер был искренен, когда утверждал, что никогда не был настоящим национал-социалистом. Но он, безусловно, не чувствовал себя сколько-нибудь обязанным ясперсовской «Коммуникации» и «Ответственности» — и не мог по-настоящему примириться с человеком, который посвятил себя служению им. Ясперс же настаивал на том, что их встреча и примирение возможно только на условиях поклонения указанным идолищам.
Что ж. Как мы сейчас видим, Хайдеггер оказался более прозорлив: успешливый Ясперс перестал быть актуален, как только перестали быть актуальны его темы. Кто сейчас— добровольно и с интересом — будет читать про «немецкую вину» или про «осевое время»? Разве что бедолага-переводчик на русский: на нашем рынке такое еще пользуется спросом, недочитали в детстве, спасибо товарищу Брежневу за счастливое детство... Но и тут, после первого же чтения, большинство читателей сделали Ясперсу ручкой.
А вот колдовство Хайдеггера до сих пор живее всех живых. Уже которое поколение внимает «Лесным тропам» и прикладывает к уху, как раковины, изречения досократиков, пытаясь расслышать тихое шуршание Бытия.
[1] Единственным серьезным недостатком книги следует признать отсутствие пресловутой речи в общем корпусе текстов. Судя по этому документу, Хайдеггер, если даже и считал себя приверженцем «национал-социализма», то представлял себе его весьма своеобразно. Чего стоит, например, такой пассаж: «Сущностная воля корпорации профессоров должна пробудиться и укрепиться, достигнув простоты и широты видения о сущности науки. Сущностная воля корпорации студентов должна вознестись до величайшей ясности и дисциплины знания, должна, требуя и определяя, встроить свое совидение народа и его государства в сущность науки. Та и другая воля обязаны вызывать друг друга на борьбу». Похоже, молодой ректор действительно не вполне отдавал себе отчет, с кем связался — или талантливо юродствовал, что возможно, но маловероятно, ибо, говоря что бы то ни было, Хайдеггер никогда не забывал о своем грядущем бытии-в-культуре, о немецком бессмертии, воплощаемом в череде профессоров, которые будут комментировать каждое слово «изучаемого объекта», потом комментировать комментарии, etc.
[2] Этот замечательный человеческий документ приведен в книге на с. 362–368.
[3] Хайдеггер, правда, немного играл в «гэндальфа», и время от времени живет
в шварцвальдских горах в маленьком домике, но все его настоящие интересы сосредоточены на университетской жизни. Ясперс, в свою очередь, несколько пережимает с внеуниверситетской социальной активностью — но, опять же, не всерьез. Кто же знал, что послевоенная ситуация заставит каждого из них стать тем, во что они игрались: одного — «мудрецом из пещеры», никогда не посещающим людные сборища (в том числе философские конгрессы), другого — газетным философом, политическим активистом, автором сочинений типа «Куда движется ФРГ»? Однако, оба чувствуют нелепость и неудобство своего положения— и каждый по-своему переживает исторический крах Немецкого Университета,
в рамках которого только и может реализоваться «подлинное философствование». Разумеется, оба преподают, но каждый понимает, что это все-таки «не то». В поздних письмах это не обсуждается (слишком болезненно), но иногда проскальзывает — возможно, это была единственная тема, которая равно затрагивала обоих.
[4] В этом смысле Кафка — всего лишь один из комментаторов Канта.
[5] Скандал с Ницше был вызван, в первую очередь, тем обстоятельством, что он добровольно оставил службу: сие не лезло ни в какие ворота.
