Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Социальный антилифт
*[1]
Порочная спираль краткосрочного трудоустройства
Я двенадцать лет проработал в одной конторе, потом у нее начались трудности. Меня уволили. Два месяца сидел без работы. Наконец Национальное агентство занятости (НАЗ) направило меня на стажировку. Там пробыл два месяца, но мне ничего не предложили, пришлось выкручиваться самому. Нашел работенку, но тоже лишь на два месяца, трудовой договор не продлили. Временно устроился на стройку, потом опять — полное затишье. НАЗ предлагало мне всевозможные стажировки, но постоянную работу — ни разу. Все дольше оставался на пособии, подрабатывал нелегально, брался за все подряд. Но регулярного заработка не было. Я не могу жить только на пособие. У меня дети еще в школу ходят. Жена тоже безработная. Уже больше года мыкаюсь. Похоже, мне никогда не выбраться из этой ямы.
В 2003 году все рухнуло: я остался без работы. Мне 41 год. Продаю дом, переезжаю на съемную квартиру, сажусь в свой рено, начинаю подрабатывать нелегально, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. С тех пор кручусь как белка в колесе: работа только временная, срочные трудовые договоры (СТД), три дня здесь, четыре недели там. Не жизнь, а пытка.
Все начинается с того, что теряешь работу. Это тяжелый удар. Съезжаешь с квартиры, живешь в центре временного проживания, начинаешь искать работу по СТД, находишь. Три-четыре месяца вроде держишься на плаву, но как раз тут тебе говорят, что надо выселяться из центра — и опять начинается кошмар, потому что никто не сдает жилье человеку, у которого нет постоянного места работы. То есть в тот самый момент, когда надеешься кое-как вывернуться, тебя сталкивают вниз, и все — ты сломлен, становишься безработным, а потом переходишь на минимальное пособие (МП).
Иногда жизнь рушится в одночасье. Еще вчера у вас была работа, вы были защищены трудовым договором, причем не временным, а постоянным (ПТД), зарабатывали — столько, сколько причиталось по договору, — но в любом случае не бедствовали. Могли взять кредит в банке, а значит — строить планы на будущее: например, думали сменить квартиру. Или, чем черт не шутит, купить дом... И вдруг все резко меняется. Вас увольняют, ваша жизнь летит под откос. Почему в данном случае можно говорить о полном жизненном крахе? Потому что, потеряв постоянное место работы, вы оказываетесь в ситуации, подчиняющейся трем закономерностям:
- после увольнения редко удается найти новую постоянную работу, в лучшем случае — с неполной рабочей неделей;
- вы обречены переходить от одного незащищенного положения к другому — отсутствие работы, СТД, временная работа, стажировки[2];
- со временем эта последовательность видоизменяется: промежутки между периодами занятости становятся все длиннее, сами эти периоды — все короче, а труд — все менее квалифицированным.
Пережив подобную катастрофу, вы втягиваетесь в порочный круг: чем хуже ваше положение, тем выше вероятность его дальнейшего ухудшения. Претендовать на рабочее место спустя два месяца после того как стал безработным — одно дело, а после года пребывания в этом статусе, когда жизненные тяготы, неуверенность в завтрашнем дне, чувство разочарования исподволь подточат ваши силы, — всем другое. Что же говорить о двух, о трех годах? Какой работодатель сможет в вас поверить после столь длительного простоя? Но чем меньше в вас верят, тем меньше и вы способны внушать доверие. Больше того: вы первым теряете веру в себя. В самом деле, долго ли можно ее сохранять в таких условиях? Причина становится следствием, следствие — причиной, но всякий когда происходит последнее, вы спускаетесь на ступеньку ниже, неуклонно двигаясь к финишу: переходу на минимальное социальное пособие. Таким образом, можно говорить даже не о круге, а о порочной спирали.
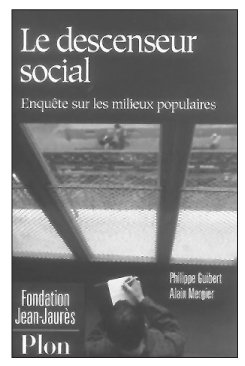
Нам могут возразить: если описанный механизм и существует, то он далеко не исчерпывает реального положения вещей. Многие безработные снова находят работу, многие уволенные опять устраиваются на постоянное место. Возражение в принципе справедливое, но феномен, который мы описываем, имеет иную природу. Вообразим, что сила земного тяготения незаметным образом увеличилась вдесятеро. Это не означает, что все тут же попадают на землю, но каждому из нас, чтобы не упасть, придется тратить гораздо больше энергии. Сейчас большинство людей во Франции вынуждены заботиться не о том, чтобы улучшать свое положение, а о том, чтобы удержаться на достигнутом уровне.
Предприятия урезают расходы как могут. В 1990 году еще не скупились на всякие мелочи, но постепенно ситуация изменилась: стали экономить на скотче, на авторучках... Разговаривая с коллегами по работе, с друзьями, я все чаще слышал: интересно, куда все это катится?На самом деле мы жили в постоянном страхе перед возможным увольнением — для меня этим все и кончилось. Теперь вокруг все живут по принципу "спасайся кто может", каждый за себя. Но шансы вывернуться крайне малы. Мне 41 год, и я уже полтора года сижу без работы.
Для страны, в которой стержнем республиканского общественного договора всегда была социальная мобильность, столь радикальная смена направления в работе социального лифта носит поистине исторический характер.
Деградация учреждений социального обеспечения
Заголовок этого раздела может вызвать удивление. Почему в обществе, расходующем на механизмы социальной защиты невиданные прежде средства, так велик страх быть сброшенным вниз? Может быть, современные французы попросту капризничают, как избалованные дети?
Мы сталкиваемся с настоящим парадоксом: чем объяснить столь острое ощущение незащищенности у жителей страны, в которой система социального обеспечения достигла небывало высокого уровня развития?
Посмотрим, как рассуждают те, кто живет под постоянной угрозой оказаться за бортом. Вот что они говорят о Национальном агентстве занятости:
По-моему, там озабочены не тем, чтобы помочь мне найти работу, а тем, чтобы я не портил показатели безработицы.
Они от нас избавляются в два счета! Главное — впихнуть тебя в какую-то графу, все равно куда, — и все, твое личное дело закрыто навсегда, пиши пропало». «Меня уволили, когда мне было 50 лет. Я был готов в лепешку расшибиться, только бы получить работу. Не рассказывайте мне про НАЗ, теперь я знаю, что это за учреждение. Им на вас попросту наплевать. Для них самое важное — статистические показатели, остальное их вообще не волнует. Подыскивают вам что-то в Интернете, но ведь это мы и без них можем делать! Никакого проку от них нет. Я нашел место через знакомого, НАЗ мне ничем не помогло. Ни один человек из тех, кто потерял работу, не смог найти что-то путное через НАЗ.
Учреждения, созданные для того, чтобы помогать уволенным восстановить их статус, фактически делают прямо противоположное. Они лишают человека всякой способности вновь обрести свойства социального субъекта и самому управлять собственной жизнью: «Вы даже представить не можете, в каком состоянии человек вываливается из НАЗ — измочаленный, выжатый как лимон. Ему уже ничего не надо... На уволенного там смотрят, как на жертву дорожно-транспортного происшествия: сочувствуем, но помочь ничем не можем».
В том и беда, что ситуация, когда страх потерять работу стал вытеснять в сознании людей идею социальной защищенности, извращая нормальную логику общественного развития, возникла в нашей стране не вопреки механизмам государственного страхового обеспечения (НАЗ, МП и т. д.), а, напротив, бьла ими порождена.
Дело в том, что нужно различать принцип социальной защиты как таковой и работу механизмов, реализующих этот принцип. Анализируя наши опросы, мы вправе утверждать, что деятельность учреждений социального обеспечения прямо противоречит принципу, который они призваны воплощать в жизнь.
Когда начинаешь ходить в НАЗ, получать пособие по безработице, все больше свыкаешься с положением человека, пользующегося социальным обеспечением. Там не помогают искать работу, а приучают тебя к статусу безработного.
Таким образом, малоэффективная деятельность этих учреждений выражается не в низких показателях отчетности, но, что гораздо хуже, в подмене — с точностью до наоборот — стоящей перед ними задачи.
Вместо того чтобы помочь нам выбраться из воды, нас топят.
Опрошенные негативно оценивают не столько служащих НАЗ, сколько цели, которые те вынуждены преследовать в своей повседневной работе, и ограничения, которым они при этом подчиняются. Это ведомство воспринимается респондентами как конвейер, с которого сходит массовая продукция. Там применяют стандартные процедуры обработки исходного сырья — не слушая безработных, не вникая в их планы, не анализируя их личные ситуации... Никто не думает о том, чтобы указать им максимально перспективных работодателей, не информирует заранее, сразу же после обращения в НАЗ, о спектре существующих возможностей, о правах трудоустраиваемого, о последствиях выбора, о наиболее подходящих для конкретного лица предприятиях. НАЗ, которое должно было бы направлять человека на верный путь, на деле загоняет его в тупик.
На основе опыта взаимодействия с НАЗ у людей складывается чрезвычайно критическое отношение к самой основе существующей системы социального обеспечения. Очень часто звучит требование: не надо сажать нас на шею государства, мы хотим, чтобы к нам относились как к активным участникам социального процесса.
Характер восприятия социальной реальности простыми французами изменился: под влиянием силы, неумолимо тянущей вниз, трансформируется вся совокупность массовых представлений о социуме. Мы выделим два важнейших элемента этих представлений: трудовой договор и школьное образование.

Право на труд: от обязательств к угрозе
В сознании работников нормой социальной защищенности по-прежнему является постоянный трудовой договор, ПТД.
Работа по любому трудовому договору должна приводить к заключению ПТД. Когда у тебя есть постоянная работа, не ждешь со страхом момента окончания договора, не испытываешь такого острого стресса». «ПТД дает возможность жить припеваючи. Чувствуешь себя спокойно. Твердо стоишь на земле, ничего не боишься. Да и работаешь лучше, потому что с уверенностью смотришь в будущее.
Если ты на ПТД, перед тобой открываются все двери: можешь покупать нужные вещи, можешь брать кредиты. И строить планы на будущее, ведь зарплата падает на счет каждый месяц.
Как обстоит дело сегодня?
ПТД всегда был целью, к которой стремился любой работник. Когда после стажировки с ним заключали СТД, он надеялся, что в дальнейшем удастся перейти на ПТД.
Работа по любому трудовому договору должна в конечном счете приводить к заключению ПТД.
Итак, в массовых представлениях о трудовом праве просматривается четкая структурированность: упорядочивающим полюсом здесь является именно ПТД, он выстраивает, определяет и венчает собой иерархию, существующую в сфере трудовых отношений. Иначе говоря, прочерчивает траекторию возможного восхождения, создает перспективу. И, разумеется, среди различных видов ПТД пределом мечтаний представляется статус государственного служащего.
Но эта динамика на глазах теряет актуальность. Над сознанием работников все сильнее тяготеет угроза лишиться места и быть втянутым в порочную спираль деградации. Те из них, кто сегодня работает по СТД или временному договору, мечтают не столько о заключении ПТД, сколько о сохранении своего СТД или возобновлении временного договора.
Я всегда работал по ПТД, но теперь имею только СТД, и это дико усложняет жизнь. Прежде всего при аренде жилья. Нужен поручитель. Одиноким людям особенно трудно, они чувствуют себя совершенно заброшенными. Ну и командировки на целую неделю — тоже не сахар...
Впрочем, и те, кто работает по ПТД, не вполне спокойны и не чувствуют себя абсолютно защищенными, потому что боятся потерять место.
Вроде бы ПТД дает чувство безопасности, но на самом деле это не совсем так... Все время ждешь беды. Лично я прожил целых пять лет в ожидании, что мое предприятие вот-вот закроют. Даже если ты работаешь по ПТД, все равно — страх не отпускает, особенно когда тебе сорок или пятьдесят.
Сила, тянущая на социальное дно, порочная спираль деградации — все это, конечно, обостряет чувство опасности и заставляет работников высоко ценить ПТД. Но в то же время наши респонденты ясно сознают, что природа рисков, возникших в последнее время, заметно изменилась, так что ПТД все меньше обеспечивает прежнюю безопасность. Фактически ПТД утрачивает свое доминирующее положение как в количественном (его все реже предлагают при найме, особенно молодым соискателям), так и в качественном отношении (он стал менее эффективным, поскольку не защищает при перемещении или закрытии производства).
Как видим, если раньше в праве на труд люди видели некое обязательство государства, которое подтверждалось всем общественным устройством, то теперь это право связывается в их сознании с угрозой, исходящей от порочной спирали.
Деградация школы
Не все, конечно, спускаются вниз, но каждый чувствует необходимость противостоять этому тяготению. Люди напрягают силы и волю не для того, чтобы продвигаться вверх, а чтобы не свалиться вниз.
Этот принцип действует не только в сфере трудовых отношений, но и в других областях жизни, особенно болезненно сказываясь на детях.
Да, нам несладко приходится, мы неудачники, но самое тяжелое для меня — думать, что мои дети будут жить еще хуже.
Доверие к школьному образованию все больше падает.
Я бы с радостью сказал своим детям: учитесь хорошо в школе, получайте дипломы, и вам повезет больше, чем нам. Но я в это не верю». «Дипломы? Лучше, конечно, когда они есть, но вообще-то не надо тешить себя мечтами: эти бумажки не дают никаких гарантий.
Никто не верит в силу дипломов, не верит в то, что образование может открыть дорогу к хорошему рабочему месту...
Сегодня даже людей, дающих справки по телефону, нанимают в Марокко. Работодателей интересует не диплом, а возможность платить поменьше.
Впрочем, со школой, в частности с коллежем (средней школой), связана более фундаментальная проблема. На первый план здесь выходит вопрос о деградации межличностных отношений: между учениками и преподавателями, с одной стороны, и между самими учениками — с другой. Широкие слои населения считают школу местом, где дети часто подвергаются и психологическим, и физическим опасностям.
Может быть, я сгущаю краски, но мне кажется, что мои дети в школе узнают куда больше опасных вещей, чем вещей полезных, которые помогут им в жизни.
Школа неспособна что-либо противопоставить резкому падению уважения к образованию и банализации насилия, она перестает выполнять присущую ей функцию ключевого республиканского института. Напротив, простые люди чувствуют, что и там, в школе, их сталкивают вниз. Все больше деградируя, школа продуцирует эффект, прямо противоположный ее предназначению: она становится мощным инструментом воспроизведения и закрепления социального неравенства.
Уровень школьного образования снизился. Недопустимо в шестом классе[3] учить чтению и письму, но именно это происходит в некоторых школах. Сам я учился довольно скверно, однако таких, как я, в нашем классе было меньшинство, а теперь плохие ученики составляют большинство — очень плохой знак для школы, да и для всего общества.
Итак, по мнению простых людей, школа фокусирует в себе негативные общественные тенденции: она закрепляет и усиливает схему социального антилифта; кроме того, в ней находят выражение две другие основополагающие черты современного общества: насилие и трудности интеграции.
Отталкивание от социального низа: качественное перерождение чувства несправедливости
Раньше, в республиканской Франции, где динамичное развитие обеспечивалось правильной работой социального лифта, взгляд рядового француза был устремлен вверх. Этот направленный вверх взгляд носил парадоксальный характер: с одной стороны, он был двигателем социального прогресса, с другой — источником обиды и раздражения. Человек мечтал вырваться из тисков своего социального статуса и в то же время страдал от того, что живет в худших условиях по сравнению с другими, стоящими выше на общественной лестнице. Таким образом, социальный динамизм сочетался с переживанием несправедливости. При этом носитель такого взгляда был вполне способен сочувствовать недовольству тех, кто находился в более трудном положении, чем он сам. Людей объединяла солидарность перед лицом различных форм социальной несправедливости.
Сегодня простым человеком управляет скорее чувство самозащиты, чем желание улучшить свое положение. Он испытывает не столько стремление пробиться в высшие слои общества, сколько отталкивание от слоев низших.
Я боюсь худшего — что придется переезжать на другую квартиру, жить в одной из многоэтажек, среди всех этих неведомо откуда приехавших людей, добрая половина которых сидит без работы. Среди подростков, которые целыми днями шатаются по улицам, а то и дома не ночуют. Вот это было бы настоящим падением. С таким ударом трудно будет справиться.
Мой шурин три года нигде не работает. С утра до вечера сидит без дела. Уже и перестал искать место. Когда я вижу его, меня берет страх. Нельзя так опускаться, твержу я себе все время, нельзя позволять себе скользить по наклонной.
Общество рассматривается респондентами как совокупность страт: чем ниже страта, тем хуже условия жизни. При таком взгляде чувство несправедливости ассоциируется не столько с высшими[4], сколько с низшими стратами. Человек рассуждает так: тем, кто находится ниже меня, всегда больше помогают, с ними более деликатно обходятся, их трудности принимают ближе к сердцу.
Скверно устроена вся эта система: иногда выгоднее вообще ничего не делать, чем ишачить на работе. Вот я прикинул: когда я нашел место на полставки, после всех вычетов получилось, что заработок у меня меньше пособия по безработице. Сам-то я все равно предпочитаю работать, но есть и такие, кто не прочь этой системой пользоваться. Это несправедливо по отношению к тем, кто вкалывает». «Есть совсем бесстыжие: хотят из всего выжать по максимуму, пользуются тем, что действительно нуждаются, и под этим предлогом получают субсидии, пособия и все такое прочее — все, что только могут сцапать. Эти люди никогда не работали, да и не хотят искать работу, они бы от этого только проиграли. Не нравится мне это: мы из кожи вон лезем, а получаем меньше, чем бездельники. И чем дольше они бездельничают, тем охотнее им помогают.
Это осознание несправедливости способствует росту ксенофобских настроений.
Я не расист, но посмотрим правде в лицо: пользу из нашей системы извлекают одни и те же люди. Меня от этого просто тошнит. Надоело, в конце концов.
Я не голосовал за Ле Пена, я голосовал за Жоспена, но не знаю, что со всем этим делать. А что-то делать нужно, так дальше продолжаться не может. Если потребуется, то я, пожалуй, и за Ле Пена проголосую.
Чувство несправедливости, которое питает ксенофобию и служит росту числа голосов, отдаваемых на выборах крайне правым, многогранно. В его основе могут лежать три соображения: «мигрантам» (подразумеваются как граждане Франции иноземного происхождения, так и собственно иммигранты) помогают больше, чем нам; они злоупотребляют нашей системой, хотят пользоваться правами, но не хотят иметь обязанностей; они не интегрируются в наше общество, потому что сами этого не желают.
Итак, хотя истоком ксенофобских настроений служат не расистские предрассудки как таковые, осознание несправедливости, постепенно овладевающее простыми людьми, создает благоприятную почву для деятельности заведомых и откровенных расистов.
Утрата перспективы и ощущения социальной субъектности
Вы спрашиваете, как я вижу современный мир и то, что в нем происходит? Ну, прежде всего меня интересует моя собственная жизнь.
Хорошо, но в чем состоит эта «моя жизнь»? Под нею подразумевают все, что относится к повседневному существованию, определяемому совокупностью тех ограничений, с которыми сталкивается индивид. Однако жизнь в целом, пусть она и тесно связана с повседневным существованием, никоим образом ею не исчерпывается. Наоборот: «моя жизнь» — это как раз переживание повседневности, а не только она сама. В некотором смысле «моя жизнь» есть то, что совмещает в себе повседневность и опыт дистанцирования от нее, позволяющий мне сопротивляться самоотчуждению, которое навязывают ограничения, налагаемые обычными буднями.

Рассуждая образно, можно сравнить повседневное существование с двухмерной плоскостью: все дни похожи друг на друга, время носит циклический, повторяющийся характер и размечено привычными обязанностями, пространство хорошо знакомо: дом или работа. Опыт дистанцирования, о котором мы говорим, это то, что трансформирует эту плоскость, вносит третье измерение в жизнь, состоящую из ограничений. «Моя жизнь» — это напряжение между плоскостью чистых ограничений, с одной стороны, и возможностями, открывающимися перед человеком, — с другой.
Честно скажу:это настоящая каторга. Все время уходит на то, чтобы добыть хоть какие-то жалкие гроши. Кажется, я только и делаю, что подсчитываю расходы и пытаюсь выкрутиться, но ничего не получается. Нет, это не жизнь.
В данной цитате нас интересуют два выражения: «это каторга» и «это не жизнь». «Каторгой» обычно называют ситуации, когда индивид утрачивает свою свободу, занимаясь решением насущных проблем, поглощающих все его силы и время. Когда же его старания не приводят к какому-нибудь долгосрочному решению, когда каторга длится и длится, когда эта утрата свободы становится образом жизни, ситуация кажется нестерпимой. «Это уже не жизнь».
Работать и, несмотря на это, не иметь возможности снять жилье — это кошмар. Сегодня можно иметь работу и все-таки быть лицом без определенного места жительства — разве это не чудовищно?
Я застрял на месте: мне хотелось жить с моей подругой, но я не могу даже найти жилье. Мы не можем строить планы, все дороги перекрыты. Сколько еще будет длиться эта каторга?
Жизнь этого молодого человека стала чистым абсурдом, она теряет всякий смысл: всякая попытка встроить повседневное существование в какую-то другую перспективу (в данном случае — это семья, дети) оказывается бесплодной.
Обнищание и корзина субъекта
В репликах респондентов постоянно звучит тема обнищания: недостаток денег стал для этих людей привычной, каждодневной, неотвязной проблемой. Изо дня в день любому из них приходится вести подсчеты, заключать соглашения с самим собой, мучительно искать решения для того, чтобы оплачивать самые обычные расходы.
С деньгами все хуже и хуже. Стоишь перед витриной магазина, но только и можешь, что глазеть. Потреблять — значит получать удовольствие, это делает жизнь веселей, но в наши дни заработка хватает лишь на то, чтобы платить за самое необходимое.
Раньше, отправляясь в отпуск, мы могли снять домик, а теперь это нам не по карману, приходится останавливаться в самых дешевых кемпингах.
Раньше я работал 41 час в неделю и хорошо получал за сверхурочные, нормально жил, мог себе позволить кое-что сверх минимума. Теперь, когда в рабочей неделе 35 часов, мне живется куда хуже, излишков больше нет. Приходится считать каждый грош, зарплаты хватает только на самое необходимое.
Если дам детям деньги на кино, придется скромней обедать.
Все время нужно экономить, это просто ужасно. Выгадываешь на каждой мелочи. Бензин стал ужасно дорог, поэтому мы отключили отопление в спальне, а в гостиной держим дверь закрытой, чтобы ее не выстудить.
Отключать отопление, чтобы иметь возможность ездить на машине: в этом уравнении содержится точное определение обнищания. Человек, вынужденный выбирать между двумя видами элементарных расходов, переходит в разряд бедняков.
Но какие расходы следует считать элементарными? Те, что обеспечивают возможность правильно питаться? Иметь достойное жилье? Дать образование детям?
Эти элементарные потребности, которые может удовлетворить не всякий, сегодня уже не исчерпывают понятие элементарного. Почему? Потому что мы, рады мы этому или нет, живем в обществе потребления.
Потреблением сегодня обеспечивается способность сохранять свое место в обществе. Иначе говоря, необходимый минимум для жизни в сегодняшнем обществе представляет собой именно эта способность. Тот, кто не может сохранить своего места в обществе, лишается в нем всякого места. Он перестает существовать социально. Сын женщины, которая из-за недостатка средств не смогла купить ему фирменные кроссовки «Найк», чувствует, что его место в компании школьных друзей находится под угрозой.
Совокупность элементарных потребностей, служащая точкой отсчета для определения понятия обнищания, ныне представляет собой не жизненно необходимый минимум, но минимум социальный: речь идет о том наборе потребительских благ, который обеспечивает способность быть признанным в качестве полноправного члена общества. Подобная «экипировка» еще не делает индивида социальным субъектом, но предоставляет каждому возможность притязать на эту роль. Другими словами, «экипировка» не создает субъекта: не всяк монах, на ком клобук. Но она помечает индивида как потенциального носителя субъектности (точно так же, как носящий клобук может быть монахом). Мы будем называть эту «экипировку» корзиной социального субъекта. Корзина эта более обширна, чем обычная хозяйственная корзина, однако, на наш взгляд, лучше отвечает индивидуальным потребностям члена общества потребления. Мы считаем, что корзина субъекта является более удобным инструментом для ответа на вопрос о стоимости жизни в современном обществе. Объем этой корзины определяется не набором предметов, а набором форм доступа.
Прежде всего речь идет о доступе к новым технологиям: скажем, мобильный телефон стал в наше время основным техническим средством личной автономизации, необходимым условием существования социального субъекта. То же можно сказать о компьютерах и Интернете. Чем шире распространяются в нашем обиходе электронные услуги и обеспечивающее их оборудование, тем больше отстает от этих практик, преобразующих наше общество, тот, кто не имеет доступа к Интернету.
Технологии эволюционируют? Да, и корзина субъекта вместе с ними. Именно она позволяет совпадать с миром «по фазе». Люди, утратившие согласование по фазе, теряют почву под ногами, теряют свое социальное место, теряют способность существовать в качестве социального субъекта, отчуждаясь от общества, которое наделяло их этим качеством.
Доступ к досугу в современном смысле этого слова означает доступ к непроизводительным формам деятельности, которые, однако, играют основную роль в конструировании идентичности индивида. Чем менее квалифицированным и творческим является труд, тем меньшее место он занимает в процессах самоидентификации — и тем больше выходят на первый план различные виды досуговой активности.
Здесь нужно упомянуть и доступ к моде. Не следует считать ее чем-то малозначительным: именно через моду, одеваясь определенным образом, индивид утверждает свое положение на социальной сцене, получает возможность выразить свою личность перед лицом других индивидов. Показателен приведенный выше пример с подростком: функция фирменной вещи (кроссовок «Найк») состоит в том, чтобы подключать ее обладателя к движению мира. С этой точки зрения мода есть «чистое движение». Тот факт, что она меняется ради изменения как такового, нисколько не принижает ее значения. Наоборот: благодаря нескончаемому обновлению мода обретает свой социальный смысл, который рождается из тонкой игры фазовых совпадений и отклонений.
Таким образом, в обществе потребления недостаток денег означает не просто более стесненную жизнь: без денег человеку не удается сохранять свое место по отношению и к себе самому, и к другим, и к социуму. Нехватка денег влечет за собой нехватку социального места.
Без денег ты никто. Деньги нужны не только для физического существования, но и для того, чтобы нормально жить, потреблять, покупать, они нужны для того, чтобы не быть одиноким, чтобы обладать ценностью в глазах других.
Но деньги обладают не только меновой функцией: они позволяют вести счет, оценивать, сравнивать, выбирать, выстраивать иерархии, принимать решения. Деньги — измерительный инструмент, они позволяют человеку контролировать свое отношение к миру. Это инструмент управления, которым располагает индивид.
Интересно, что спустя четыре года после введения евро эта денежная единица еще не стала полноценным инструментом измерения. Демонетаризация евро усугубляет чувство обнищания, добавляя к нему еще и растерянность.
Как-то мы бьли в торговом центре и решили там же перекусить. Взяли четыре сэндвича, две колы и два пива. Заплатили 28 евро. Сначала я даже не сообразил, что это за сумма. Потом перевел во франки — получилось около двухсот... Дороговато. Четыре евро за сэндвич — совсем не мало. Но этого вроде как не замечаешь: видишь четыре евро, а машинально думаешь о четырех франках, цифра не кажется высокой. Мы больше не ориентируемся в ценах. И так везде: перестаешь понимать, сколько стоят вещи. С евро стало трудно контролировать расходы, деньги улетучиваются намного быстрее.
Цены теперь ничего не значат. Если кто и продавал что-то недорого, он теперь подтягивается к остальным. Такое впечатление, что цены берутся с потолка... За ними нет никакой реальности.
Повседневная жизнь и глобализация
Переживание незащищенности, о котором мы говорили в связи с потерей работы и утратой индивидом качества социального субъекта, прямо обусловлено глубинной трансформацией нашего общества. Трудовой договор, и в особенности ПТД, придает известную безопасность отношениям между нанимателем и работником.
Хозяин уже не может делать, что ему вздумается: договор нужен, чтобы нас защитить; без договора мы в его глазах вообще ничего не будем значить.
Работник в некотором роде становится «причастным» к тому, чем в его представлении наслаждается владелец фабрики, разделяет с ним чувство «стабильности». Но сегодня стабильность, которой пользуются предприниматели, можно считать весьма относительной. Предприятия закрываются все чаще (Vilvoorde, Moulinex и т. д.), и даже простые работники видят, что ситуация коренным образом меняется.
Когда какие-то события повторяются регулярно, откладываясь в массовом сознании, они входят в историю. Закрытие предприятий и массовые увольнения последних лет, аккумулируясь в памяти людей, постепенно превратились в неотъемлемую составную часть нового социального опыта. Все это воспринимается уже не как досадные случайности экономической жизни, а как закономерные явления.
С аккумуляцией таких регулярно повторяющихся фактов сочетается другой, достаточно близкий феномен, который может быть поставлен с ними в связь, но, вообще говоря, имеет иную природу. Речь идет о перемещении производства за границу. Благодаря широкой публичной дискуссии, сопровождавшей кампанию за референдум о европейском конституционном соглашении, такие термины, как «перемещение производства» и, в меньшей степени, «социальный демпинг», стали значимыми инструментами интерпретации современного мира. Интерпретационный потенциал этих терминов объясняется отношением, которое они устанавливают между социальной незащищенностью работников, с одной стороны, и глобализацией — с другой.
Мы наблюдаем здесь одну из форм влияния коллективной истории — в данном случае истории социальной — на опыт повседневной жизни и, наоборот, то, как через этот опыт обретает смысл история. На взаимопересечении коллективной истории и индивидуального настоящего рождается диагноз современного состояния нашего мира, уточняется причина процесса, который в нем происходит, проясняется его направление. Диагноз звучит так: мы вступили в эпоху новых форм господства и принуждения. Причина выглядит отдаленной и не совсем ясной: глобализация.
Расплывчатость этого термина объясняется тем, что глобализация сопровождается процессом ослабления государства, которое становится все более беспомощным. Когда социальный опыт начинает восприниматься как нечто угрожающее, простые люди все чаще говорят о необходимости повысить защищенность работников.
У нас за все надо платить в десять раз дороже. Потому-то предприятия — скажем, текстильные фабрики, — и выводят производство в Азию. Думаю, сейчас политики уже ничем не могут управлять, слишком многое упущено безвозвратно. Депутаты меняются, да много ли в том толку? Чиновники-то остаются на своих местах, а конкретные решения зависят от них. Левые, правые — все они одним миром мазаны. Хотят отнять у нас все, что еще осталось, любыми средствами. Считают нас какими-то придурками. Мы должны все время затягивать ремень, отчислять деньги на стариков — а они сами-то что делают, все эти политики? Разве это нормально — иметь пожизненную пенсию, телохранителя, служебную квартиру только потому, что когда-то был министром? Они одно знают: тянуть из нас денежки. Положим, кто-то вкалывает и хорошо зарабатывает — я к такому человеку претензий не имею, а вот к парню, который сел на хорошее место и гребет деньги лопатой, да еще и позволяет закрывать фабрики, добрых чувств не питаю. Меня такие люди просто бесят.
Какой защищенности хотят люди?
Требование социальных гарантий распространяется и на повседневную жизнь, и на глобальное окружение. Чтобы не искажать картину, попытаемся уточнить, о чем именно идет речь для каждой из этих сфер.
— В сфере повседневной жизни защищенность, к которой стремятся простые люди, представляет собой, вообще говоря, нечто противоположное иждивенчеству. Никто не хочет, чтобы индивидуальная ответственность подменялась ответственностью коллективной, которую берет на себя государство. Люди требуют другого: реабилитации индивида как активного творца собственной жизни:
Я бы хотел одного: снова самому строить свою жизнь.
Все устроено так, чтобы ты попросту заткнулся и сидел тихо. Создан целый механизм, чтобы убаюкать население: минимальные пособия, общая медицинская страховка, бесплатные столовые и приюты, лекарства, спиртное, наркотики. Людей приучают к иждивенчеству, это порочный круг, адская ловушка, потому что все боятся лишиться даже тех крох, которые им перепадают. Лично я такой жизни не хочу. Я получаю минимальное пособие, да, но я бы хотел устроиться на работу. Работа возвращает человеку чувство собственного достоинства. Каждое утро просыпаешься с чувством гордости, потому что знаешь: ты в семье кормилец. Окончательно перейти на пособие для меня немыслимо. Я его получаю, поскольку сейчас нет другого выбора, но готов делать любую работу, только бы не сидеть на пособии. Любую.
Не нужно брать людей на иждивение. Пусть нам помогают встать на ноги, а не застывать в лежачем положении.
Говоря о возвращении индивиду чувства ответственности, наши респонденты неизменно высказывали пожелание, чтобы государство не устранялось, но оказывало поддержку в реорганизации трудовой деятельности и возвращении статуса полноценной личности.
— В сфере отношений Франции с остальным миром требования опрошенных структурируются отнюдь не национализмом. В центре их рассуждений и оценок находится воздействие социального антилифта на частную жизнь. Все, что происходит в мире, прямо сказывается на повседневной жизни людей. И они хотят, чтобы государство в каком-то смысле встало «поперек» дороги, которой движется глобализация, хотя бы отчасти препятствовало непосредственному влиянию внешнего мира на мир индивида. Таким образом, от государства требуют защитить жизнь отдельных людей, а не интересы нации в целом.
Очень все усложнилось из-за этой глобализации. Многое теперь стало не по карману. Но когда устанавливаешь МРОТ в две тысячи евро, не нужно ждать, что Индия и Китай поступят так же. Государство должно бороться за то, чтобы держать наши цены в узде. Нужно бороться за качество продукции, за наши бренды, чтобы люди не теряли работу.
Различие весьма существенное. Если говорить об отношениях «индивид — нация», то признание индивида со стороны государства предполагает, что и он признает себя составной частью нации. Если говорить об отношениях «государство — индивид», как они оцениваются сегодня нашими респондентами, то государство должно признавать индивида в качестве личности.
Простые люди не обнаруживают склонности к националистическому дискурсу. Они рассуждают в других категориях: раньше Франция была настоящим государством, обеспечивавшим социальную защищенность граждан и нормальную работу социального лифта, а теперь перестала им быть. Сегодняшний кризис французского общества воспринимается ими как измена республиканским обязательствам.
Мне пятьдесят лет. Мои родители всю жизнь вкалывали как проклятые. Помню, в детстве я ходил за хлебом и возвращался домой с пустыми руками: не хватало денег. Отец растил шестерых детей на 600 франков в месяц. Я вырос в обстановке борьбы за права трудящихся: родители света божьего не видели, только забастовки могли хоть что-то изменить к лучшему. После окончания училища я стал зарабатывать примерно в полтора раза больше, чем отец. Мой уровень жизни выше. Но мои дети, хотя я им этого не говорю, вряд ли будут жить лучше, чем я.
Социальный антилифт: закон общества, изменившего республиканским обязательствам
Порочная спираль, влекущая вниз, оценивается простыми людьми не как нечто временное, объясняющееся неблагоприятной экономической конъюнктурой, а как закон, с недавних пор управляющий нашим обществом.
Любое общество обретает плоть и смысл через законы, по которым живет. Законы упорядочивают социальную реальность. Признать порочную спираль законом общественной жизни — значит констатировать, что в самой сердцевине общества формируется механизм, который сталкивает человека вниз, лишает достоинства, выключает из игры.
Понятия, лежащие в основе дискурса наших респондентов, не сводятся к привычному набору: жизненные трудности, жестокость мира, неравенство, несправедливость. Опрошенные не ограничиваются жалобами на то, как тяжело пробиться наверх в современном французском обществе, как отсутствие равных возможностей оборачивается для представителей широких слоев населения различными препонами и подвохами. Конечно, все эти классические темы, обусловленные социальной несправедливостью, присутствуют в их высказываниях, но принципиально переосмысляются, поскольку ассоциируются с тянущей на дно силой, о которой мы говорим.
Процесс, наблюдаемый в последнее время, исключительно важен: в сущности мы являемся свидетелями радикального изменения антропологической специфики французского общества. Почему? Потому что республиканский общественный договор, который наделял индивида качеством социального субъекта, в наши дни переворачивается с ног на голову. Французское общество — и тем самым социальный субъект в нашей стране — изначально опирается на возможность для каждого, каким бы ни было его происхождение, строить свою жизнь с помощью существующих институтов. Государство выступает гарантом социальной субъектности граждан.
Высказывания опрошенных нами простых людей недвусмысленно свидетельствуют, что направление движения социального лифта сменилось на прямо противоположное. Подчеркнем: речь идет не о поломке этого лифта, а именно о смене направления его движения.
Говорить о поломке можно только для того, чтобы обозначить всю серьезность проблемы, но эта метафора неточна, поскольку не раскрывает истинную природу процессов, затрагивающих широкие массы. Сломанный лифт — это лифт, который не работает, не позволяет подниматься вверх. Лифт, о котором говорят наши респонденты, вовсе не сломан — напротив, он функционирует очень хорошо. Даже слишком хорошо. Но работает исключительно на спуск. Не может быть и речи о его неисправности или плохом функционировании: вся беда в том, что он движется в противоположном направлении, и, как мы показали, этот обратный ход задан и институционализован деградацией механизмов социального обеспечения и школьного образования.
Мы используем для характеристики фактического инвертирования хода общественной машины, определяющей сцепление индивидуальных судеб во французском обществе, термин «социальный антилифт». Слово «поломка» ставит под сомнение надежность и эффективность социального лифта, а не его существование и, как следствие, направление, в котором он движется. О поломке можно сожалеть, но при этом все еще оставаться в рамках республиканского общественного договора и государства, выступающего гарантом социальной субъектности. Говоря об антилифте, мы акцентируем внимание на качественном отличии сложившейся ситуации. Тут впору сожалеть не о плохом функционировании, а о хорошем, потому что направление, в котором движется антилифт, прямо противоречит республиканскому общественному договору. Речь идет о надвигающемся двойном кризисе: кризисе отношения граждан к государству и кризисе французского социального субъекта.
Это противоречие во многом объясняет рост числа голосов, отдаваемых за правых и левых экстремистов, а также нежелание многих французов участвовать в выборах. Но мы хотели бы подчеркнуть, что протестное голосование (к этому термину мы относимся с известной сдержанностью) связано — во всяком случае отчасти — не с постановкой под вопрос республиканских ценностей, а, напротив, с последствиями измены этим ценностям, которая тяжело переживается простыми людьми.
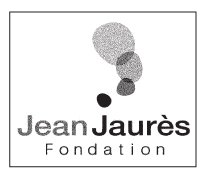
[1] Отрывок из одноименной книги Филиппа Гибера и Алена Мержье: Philippe Guibert, Alain Mergier. Le descenseur social. Enquete sur les milieux populates. PLON, 2006. P. 65—87. Для публикации в ОЗ переведен с небольшими сокращениями один из ключевых разделов, в котором обобщаются результаты социологического исследования, проведенного зимой 2005-06 гг. в нескольких регионах Франции. Беседы проводились с представителями широких слоев населения и продолжались полтора-два часа. Редакция благодарит Fondation Jean Jaures за право публикации фрагментов книги. Оригинал размещен на сайте «Социальная политика», URL: http://www.politiquessociales.net/IMG/pdf/ledescenseursocial.pdf
[2] В отличие от работы по срочному трудовому договору (contrat de durde determine'e) временная работа (travail d'interim) может при определенных условиях предоставлять доступ к дополнительным социальным благам — таким как право на образование и более выгодное положение при аренде жилья. «Стажировка» (stage) — худшая из форм временной занятости, так как предполагает работу бесплатно или за символическую плату. — Прим. переводчика.
[3] Начальный класс коллежа (средней школы), в котором учатся одиннадцатилетние дети; счет классам идет в обратном порядке — от шестого к третьему. — Прим. переводчика.
[4] Уточним: есть, конечно, и другое ощущение несправедливости. Его внушают те, кто занимает особо выгодное положение в общественной системе: скажем, руководители крупных промышленных групп, которые получают «умопомрачительные» зарплаты. Руководители мелких и средних предприятий таких чувств не вызывают. — Прим. авторов.
