Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Цена успеха в советском кино
Никто о такой категории, как успех, в советском искусстве никогда всерьез не задумывался. Между тем успех — это, по сути, смысл жизни. Ведь если «вертикальный» смысл жизни — движение к Богу, подготовка души к существованию на том свете, то смысл жизни горизонтальный — оставить о себе как можно больше доброй памяти, сделать как можно больше добрых дел. А успех тому верный гарант. Ибо в случае успеха о тебе будет помнить не скромный круг родственников и друзей, а уже целые сообщества, а то и вся страна. Идеально состоявшаяся жизнь — жизнь максимально успешная, жизнь, оборачивающаяся в итоге памятником в центре столицы. Пожалуй, к этому и надо стремиться — в случае удачи ты обеспечишь себе память не только в пространстве, но и во времени, и чем больше будет этот запас прочности, тем лучше. И именно так будет выглядеть максимальный успех.
Смена наполнения категории успеха в советском кино позволяет постигнуть смысл существования советского человека и этапы его продвижения по жизни. Ибо кино — едва ли не наилучший показатель сознания общества — во всяком случае самый наглядный и четкий, ибо именно в кинематографе это сознание воплощалось максимально ярко, буквально проецируясь на экран — причем не только в сюжетных, но и в подсознательных, метафизических, онтологических формах (что самое ценное).
А нужен ли вообще был советскому человеку успех, если главная задача того по жизни — слиться с прекрасным коллективом во имя чего-то высшего и прекрасного, а в идеале — совершить какой-нибудь подвиг, и тоже во имя, то есть, грубо говоря, сдохнуть? Ведь именно в подобном случае его жизнь будет признана идеально состоявшейся и он обретет искомый памятник. Правда, стоит заметить, что после совершенного подвига сей памятник обретали очень немногие, чаще всего просто подвернувшиеся под руку (какому-нибудь борзому журналисту, например) и выскочившие случайно, как шарик в лототроне — наподобие Космодемьянской или Матросова. Большинство-то героев погибли безвестно, а иные были растерты в лагерную пыль. Но советские камикадзе шли на подвиг не ради славы — ради жизни на земле. Так им казалось, так они были воспитаны. После смерти эти «проклятые и убитые» берсерки могли надеяться на свою Валхаллу. И их немного жаль, но не очень — как говорится, «за что боролись...».
Но это, так сказать, успех в идеале, а идеалом для советского миропорядка, конечно, являлась война, борьба. Жить надо было только для того, чтобы бороться. Так и жили, пока «не увязли в борьбе», как в болоте. То есть пока категория этой священной борьбы окончательно не обессмыслилась. Но ведь была не только Борьба. Была и мирная, обычная, повседневная жизнь. Как же там проявлялось отношение советского человека к успеху? И можно ли было там состояться без подвига, без принесения себя в жертву на алтарь Молоха?
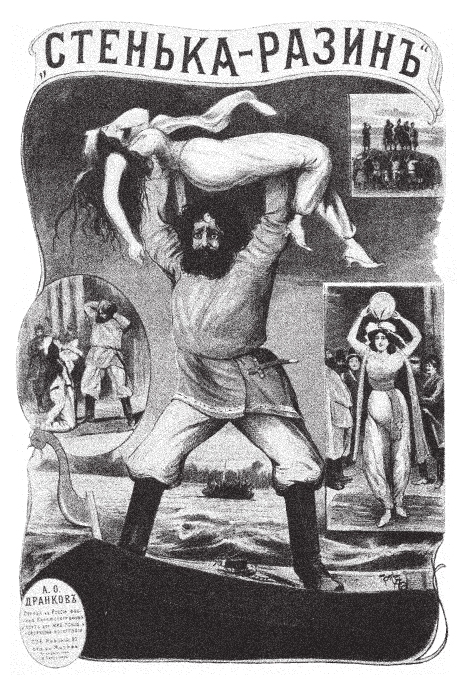
Начнем с 1920-х годов, когда советский кинематограф только нащупывал свои пути, а вместе с ним их нащупывала и насущная реальность. Впрочем, что это? Реальность в кинематографе 1920-х как будто отменена. Мы почти не увидим в фильмах этого десятилетия, как жили обычные люди. На экране в основном что-то стремительное, страшноватое, экспрессионистическое и весьма дьявольское — правильно Эдвард Радзинский назвал 1920-е «временем пустого неба». Уникальное было время в истории человечества — наверно, единственное в своем роде, ибо именно в сию эпоху советское общество сознательно отказалось от Бога. А потому миром завладел дьявол.
К какому же успеху вел он своих несчастных, соблазненных им человеческих жертв? К обезличиванию. К растворению в общей массе, сплотившейся во имя великой идеи и великой борьбы. Давайте вспомним «Броненосец «Потемкин», «Арсенал», «Конец Санкт-Петербурга»... Там индивидуальностей вообще нет — или вожди масс, или представители оных, характера не имеющие и долженствующие в итоге обрести себя, влившись в общую толпу, направленную на генеральную линию бесконечной борьбы и смерти. Или, не дожив до слияния с массами, погибнуть, принести себя в жертву на алтарь Молоха, как герои фильмов «Мать» или «Земля». И, соответственно, только подобным образом добиться подлинного жизненного успеха. Успех в жизни достигается здесь только смертью, гибелью. Без нее эти персонажи обессмысливаются, становятся для нас малоинтересными — тем более что характерами они почти не обременены, ибо важны для нас только в качестве представителей определенных идей и определенных классов, исключительно правильных, пролетарских.
Но есть и исключения. Скажем, «Потомок Чингис-хана». Здесь герой — молодой монгол-охотник — имеет свой характер. Он веселый, смекалистый, в чем-то хитрован. Однако авторы нам как бы говорят: он еще пока абсолютно не определившееся ничто, и таким останется, пока не совершит поступок. Поступок здесь может быть связан только с пробуждением в нем классового сознания. Так и происходит — враги-англичане решают сделать из него потомка Чингис-хана, живую икону для того, чтобы захватить власть в Монголии. Во время этого процесса герой зашкаливающе тупеет и превращается в живую куклу, чему сильно способствует его ранение, из-за которого он, видимо, плохо соображает. Но ранение неслучайно — авторам оно необходимо для того, чтобы остранить его безмыслие, его человеческую пустоту, идущую от непонимания классовых задач. И вот эта кукла решается на бунт и убивает своих хозяев. Сегодня это смотрится довольно страшновато — бунт живого робота (ибо о смекалистости и живости героя мы к этому времени надежно забываем), Голема, почти зомби. После чего мы видим нашего героя уже во главе красного отряда, несущегося на битву с завоевателями. Вот он, стопроцентный жизненный успех согласно общественной религии 1920-х годов. Безмозглому человеку достаточно пробудить в себе классовое сознание, чтобы мгновенно за это быть вознагражденным высоким социальным статусом. Совершенно непонятно, как подобный человек может командовать массами (да и никто бы в реальности ему этого не позволил), но миф важнее жизненной правды. Герой вырвался из своего индивидуализма (он же был охотником, продавал англичанам шкурки), преодолел свою социальную пустоту — значит, теперь получай командирство. Был никем — стал всем.
Чтобы стать всем, надо или погибнуть (как, например, герои фильма «Мать»), или совершить убийство, как потомок Чингис-хана, или обезличиться, став членом торжествующе-агрессивной толпы, как крестьянский парень в «Конце Санкт-Петербурга». Иными словами, присягнуть дьяволу. И тогда он обеспечит тебе успех.
А вот еще интересный вариант — «Старое и новое» Сергея Эйзенштейна. Забитая царским режимом крестьянка Марфа Лапкина становится при советской власти передовой работницей и путем нечеловеческих усилий налаживает в организующемся колхозе молочное производство. Здесь уже заложена матрица многих будущих соцреалистических фильмов. Матрица под названием «бедил, бедил и победил».
Всем бы она была хороша, эта матрица, если бы была вписана в жанровый коммерческий фильм о том, как герой, преодолевая различные приключенческие препятствия, в итоге всех побеждает и выходит сухим из воды. Но в советском пространстве сия матрица была внедрена исключительно в кино социальное и призвана была доказать, что у советского человека все всегда получится, ибо он советский. Но вот беда — препятствия, которые оный человек испытывал на экране, оказывались куда значительнее, выразительнее, острее и драматичнее результата, долженствующего возникнуть в итоге — непременно положительного и пафосно-оптимистического. Получалась странная вещь: результат по своей силе воздействия оказывался куда менее интересным, чем процесс. Поэтому парадоксальным образом он становился ненужным, а порой даже раздражал. Хотелось воскликнуть: и что, это все? И больше ничего не будет? Да нет, конечно, — утверждали авторы, отныне, видимо, будет только вечная прекрасность жизни.
Но борения, тяготы и страдания героя свидетельствовали совсем об обратном, они как раз открывали нам какую-то часть подлинной картины жизни, и чем больше страдал герой, тем эта картина была правдивее. В итоге произведение настраивало на какую-то глубину постижения бытия, а успокаивающий итоговый результат сводил все это постижение на нет. Получается, мы зря напрягались, зря страдали вместе с героем и зря задумывались о неоднозначности происходящего в социуме. Финалы, по идее долженствующие еще более обострить эту неоднозначность, на самом деле сводили ее на нет. Выходило, что нас обманывали, и чувство это было не то чтобы уж совсем неприятным, но каким-то фальшивым. И не случайно даже в лучшем фильме, воплощающем данную матрицу, — «Председатель» — радостно-пафосный финал разочаровал всех, причем именно тогда же, в год выхода фильма на экран — 1964-й. Но другого авторы предложить не могли, ибо были нормальными детьми своего времени и искренне верили, что теперь-то все и у их героя, и у всех нас воистину получится: через самые темные годы советской власти, годы «культа личности», мы прошли, осмыслили их как большую ошибку, а значит, что теперь может нам помешать двигаться к прекрасной цели — социализму с человеческим лицом под псевдонимом «коммунизм»? что?
Однако что-то непременно мешало — порой (и даже чаще всего) независимо от сознания людей, к этой цели идущих. А шли к ней тогда, в 1960-е, все — и народ, и партия, и интеллигенция — не очень дружными рядами, слегка переругиваясь по дороге, но шли, шли к своему успеху... К успеху, уже к тому времени превратившемуся в категорию онтологическую... Впрочем, мы несколько забежали вперед.
Вернемся к эйзенштейновской Марфе Лапкиной — первой героине рассматриваемой матрицы под названием «бедил, бедил и победил». В данном случае «победила». Обрела успех.
Но какая-то странная у Эйзенштейна получилась победа. Напоминающая то ли сладкую грезу, то ли наркотический сон. В подобный сон постепенно будет съезжать и весь фильм — то какие-то «волы, исполненные очей» там будут спариваться с дородными буренками под небесами, то маленький фарфоровый свин на экране станет хихикать и вертеться, глядя на то, как туши его собратьев отправляются на бойне по конвейеру (воистину странный образ с этим свином), то молочные реки и кисельные берега сольются на экране во вздрюченном экстазе — в общем, твориться будет нечто настолько безумное, что мы и о Марфе-то почти забудем. Да и не мудрено — характера в ней никакого нет, она сама как тот свин — чистый носитель идеи, — только в отличие от него более внятной, классовой. Ее счастливое лицо в финальном кадре — будет ли оно восприниматься нами как победа конкретной героини? Бог его знает, ибо, пусть из экспрессионизма, но абсолютно реалистического, фильм уйдет в такой сновидческий гротеск, что уж кто тут герой: Марфа, быки или свин, сказать окажется весьма затруднительно.
И это неспроста. Ибо Эйзенштейн, с его глубинным внутренним художественным чутьем (и со все более зреющим в нем постепенным разочарованием в Советской власти, в скором времени приведшим к затянувшейся полуэмиграции в Голливуд), показывает нам осуществившуюся мечту героини, ее победу, ее успех как чистую условность, как выморочную утопию, как грезу, которой в реальной жизни места нет. Так, впервые возникнув на экране, матрица советского успеха была же и остранена как нечто призрачное, почти невозможное. Не мудрено, что у вождя, все более укреплявшегося во власти и постепенно прибиравшего к своим рукам все искусства, а кинематограф в первую очередь, все это вызвало немалое раздражение. В формализме Сталин ощущал опасность, подвох, размывание нужных ему социальных смыслов, необходимых для воспитания масс. И в общем, согласно своей логике, правильно делал. Однако саму матрицу («бе-дил, бедил и победил»), придуманную, как выясняется, Эйзенштейном, активно взял на вооружение. Впрочем, она сама себя «взяла» — уж очень точно вписывалась в соцреалистический дискурс, который вскоре полностью возымел власть над миром, стал главнейшим и определяющим.
Но в 1920-е годы не только соцреалистические матрицы придумывали и воплощали. Был еще и кинематограф нэпа, кинематограф полубуржуазный. В нем добивались успеха только западные лощеные авантюристы — чаще всего в исполнении Анатолия Кторова, актера чисто гротескового, несмотря на свою внешность героя-любовника. Да еще иногда (а точнее, заодно) их незадачливые помощники (которых, как правило, играл Игорь Ильинский). Остальные же герои фильмов нэпа или жили при проклятом царизме, а значит, выиграть не могли априори (сюжет таких фильмов был по обыкновению жгуче-мелодраматическим, непременно с печальным финалом — как же иначе, царизм же!), или, будучи честными советскими тружениками, попадали в лапы гнусных нэпманов и опять-таки весьма сильно проигрывали — в финале их уводили вон из фильма бравые милиционеры, абсолютно уверенные вместе со зрителями и авторами этих фильмов, что в советской тюрьме герои исправятся и снова вступят на путь той честной жизни, которой и жили прежде. В общем, ни о каком успехе тут речи идти не могло.
Но была и другая категория фильмов. Фильмов безмерно обаятельных, ибо они рассказывали нам о частной жизни самых что ни на есть простых людей, живущих своими мелкими простыми проблемами вопреки всем социальным треволнениям и коллизиям. Да еще и выигрывающих, добивающихся успеха!
Только выигрывают они благодаря билету Государственного займа, и фильмы эти — «Закройщик из Торжка», «Девушка с коробкой» — сняты по заказу оного. Получается, что человек 1920-х годов может начать жить своей простой «мещанской» жизнью, только если получит карт-бланш на нее от государства. В виде некоего волшебного билета, который — ну разумеется! — выиграет и принесет счастье. Однако билетов, как «пряников сладких», явно не хватит на всех, а потому и зажить своим скромным человеческим счастьем в стороне от идеологии смогут лишь избранные — те, кому выпала счастливая фортуна, инспирированная государством диктатуры пролетариата. Оная диктатура позволила ввести в коммунистический мир нэп, но явно не всерьез и ненадолго, ибо нэп подобен такому же билету госзайма, который получили герои. Это всего лишь заем. Вы займите у нас немного частной жизни, а там поглядим — может, мы и простим вам ваш долг. А если нет, тогда, будь добр, вливайся в толпу строителей нового общества и уж там делай то, что тебе скажут. Иначе пригвоздим тебя к позорному столбу как поганого нэпмана и мещанина, как частнособственнический пережиток. И это еще в лучшем для тебя случае.
1920-е годы были временем становления соцреалистических матриц. Эпоха 30-х приступила к их укреплению и утверждению. Но должно было пройти еще весьма странное время — переход от вольницы (впрочем, только кажущейся — скорее не вольницы, а шизофрении) к глубокой тоталитарной стагнации. Переход сей ознаменовался появлением звукового кино. Звуковое кино должно было стать максимально «коммерческим», а точнее, народным. Любому формализму на экране воздвигался заслон.
Однако сам переход из одной стадии в другую был, как ни странно, максимально формалистическим. А точнее, просто диким. Столь ненормального кино, какое было в СССР в начале 1930-х, свет не видел ни до ни после. Логика построения в нем еще была «немой», то есть клипово-экспрессивной, выстроенной по ассоциативному принципу, а сюжетная логика — «звуковой». Звук буквально тащил авторов за уши из формалистических выкрутасов на грешную землю. Несочетание звука и изображения создавало безумный эффект — люди на экране не разговаривали, а выдавали какие-то отдельные реплики (которые куда лучше смотрелись бы в качестве титров) — причем выпаливали их в кадр, подобно гудку паровоза. По временам звук вовсе исчезал, чтобы вдруг прорваться за кадром каким-то резким неестественным шумом или вбить, подобно гвоздю, необходимый аудиофон — более того, часто возникающий по принципу контрапункта (режиссерам очень хотелось экспериментировать, им по-прежнему казалось, что они остались в 1920-х — видать, не поняли они, в какую новую эпоху влипли), что создавало еще больший идиотический эффект.
Вот в подобном, с позволения сказать, «жанре» и был снят фильм, призванный утвердить тему успеха советского человека в Новом Времени. «Продюсером» и креатором проекта выступил уже конкретно Сталин Иосиф Виссарионович. Фильм назывался «Веселые ребята».
В веселой и яркой форме он рассказывал о том, что все мечты в Советском Союзе сбываются. Его герои выпрыгивали в эту «сбычу мечт» совершенно экстатическим образом — раз! — и они уже там. Сегодня пастух — завтра уже руководитель оркестра. Сегодня домработница — завтра певица.
Еще более экстатически осуществлялся прыжок к успеху в «артхаусном» для тех лет фильме Александра Довженко «Иван». Сегодня ты простой крестьянский парень, пришедший на стройку, завтра ты погиб (!!!) при завале, а послезавтра — уже передовик, и все прекрасно.
Эти фильмы напоминали сны, ибо отсутствие логики в них было программным. Перед нами схемы — одна веселая и музыкальная, другая — пафосная и сочетающая в себе экспрессию с заторможенностью, движущаяся странными, малопонятными скачками. Но подход к миру в обоих фильмах по сути един — как и практически во всех фильмах начала 30-х — их авторы вгоняют себя в некий транс, в полушаманское состояние, чтобы в этом состоянии прозреть счастливое будущее. На дворе — голод, бедность, Бога нет, «вольница» нэпа тоже закончилась, как дальше жить, совершенно непонятно. Но дан приказ — жить надо счастливо! — иначе непонятно, в чем вообще смысл существования. Режиссеры фильмов, будучи людьми вменяемыми, в глубине души не очень верят в успех своих героев, ибо ему просто неоткуда взяться. Но чем больше внутреннего неверия — тем больше внешнего транса, экстаза.
Казалось бы, ну почему нельзя создать нормальные произведения — хотя бы по принципу «бедил и победил». Нет, нельзя — во-первых, реализм может выявить какую-то жизненную правду, а во-вторых, сама реальность воспринимается как нечто несуществующее (не случайно в 1920-е ее почти отменили, пытаясь заменить определенными шаблонами), переходное, как бесконечная Стройка, как бесконечно готовящееся тесто, долженствующее в итоге обернуться сладким пирогом. Где же еще испечь его, как не на экране — тем более что в реальности-то он как раз взойти и не может. В итоге зрителю преподносится пирог-фантом, пирог, лишенный ингредиентов. Но как бы готовый, как бы осуществившийся.
Не случайно в этих фильмах так много смерти — причем какой-то очень витальной. Герои проходят испытание смертью, чтобы возродиться для новой счастливой жизни, а веселые ребята в финале фильма радостно отплясывают, следуя не за чем-нибудь, а за похоронной процессией. В экстатической пляске общества, которой повелевает дьявол, смерть тоже отменяется, ей говорится решительное нет. Будучи рядом с человеком, она заставляет задуматься о вечном, о высшем, погрузиться в себя. Но ни в коем случае! Тебя нет — ты есть победивший смерть и Бога полуфантом, нацеленный исключительно в счастливое будущее, в царство великого успеха. Житейских, земных, привычных человеческих начал ты лишен, у тебя есть лишь условная точка А, где вроде бы неплохо, но может быть и лучше. И вот ты в это «лучше» и движешься, и непременно достигаешь своей цели, приходя в условную точку Б свершившегося земного Абсолюта. Что дальше, совершенно непонятно, тем более что человеческие качества по дороге ты уже довольно сильно растерял, превратившись из относительно живого персонажа с набором личностных качеств в некую вздрюченную человеко-единицу, охваченную порывом к Великой Цели.
Что ж делать? У каждого времени свои песни, и не будь их, не построили бы советские люди ни Магниток, ни Днепрогэсов. И не осуществили бы сталинский план индустриализации, без которого страна просто задохнулась бы в очередном витке нищеты, наверняка придя туда, откуда и вышла — к 1920—1921 годам. Но этого уже никто не хотел. Вот и старались. И привыкали жить по законам транса, внутри которого зарождались принципы и постулаты новой советской религии, а когда они осуществились, то все уже стали жить по законам мифа. И реальность вынуждена была под этот миф подстраиваться.

Одна из основ мифа — все тот же великий успех. И теперь главной задачей каждого было стремление к оному, но, разумеется, с желанием обеспечить его в первую очередь не для себя, а для всей страны. Потому двигаться лучше было не поодиночке, а коллективом.
Тем не менее в кинематограф начала 1930-х затесался удивительный герой, веселый, обаятельный, талантливый одиночка, а фильм, в котором он действует, называется ни больше ни меньше, как «Частная жизнь Петра Виноградова». Что уже само по себе вызывает подозрение — что там еще за частная жизнь? явно героем будет какой-то не наш фрукт.
Ан нет, именно что наш. Одаренный инженер-изобретатель, который приехал завоевывать Москву и которого просто распирает от идей. Идеи у него вполне дельные, и он отнюдь не графоман от науки. Беда только, что в других областях он «графоман», а разносит его буквально во все стороны — и стихи он сочиняет, и песни поет, и спортом занимается. Все у него получается через косяк, но он абсолютно не унывает, ибо просто переполнен жизненной силой и чрезвычайно доволен собой. В какой-то степени это и есть идеальный советский человек, каким и надо стать каждому в финале всех остальных лент. И если пастух Костя из «Веселых ребят» и рабочий Иван из одноименного фильма лишь становятся такими окончательно счастливыми в результате пройденных путей, то Петру Виноградову никуда и стремиться не нужно — он от природы такой. Да и чего ему не радоваться? — ведь он живет в прекрасном советском мире, где все у всех всегда должно получаться.
Нет, не выйдет, говорят авторы. Без экстаза — не выйдет. Экстаз не обязательно может быть столь резким, как в «Иване» или «Веселых ребятах», где раз — и ты уже в дамках, ты уже всего добился. Нет, куда лучше экстаз, связанный с борьбой или со страданиями — но в любом случае он должен быть. Радость и успех не могут сопровождать тебя постоянно, этак ты и богом, и демиургом себя почувствуешь (а тут уже недалеко до индивидуалиста, до врага) — нет, ты их должен достигнуть в муках, пройти свой тернистый путь. Ну или на худой конец впрыгнуть в эту точку Б, в этот великий успех, по воле авторов.
И потому авторы заставляют своего Петра Виноградова максимально зазнаваться и задаваться, а главное — путаться во взаимоотношениях с женщинами и, понятное дело, проявлять по отношению к ним непорядочность. Ну, естественно, в итоге он начинает осознавать свою ошибку и понимать, что слегка зарвался. Вот в коллективе, возможно, Виноградов окончательно исправится. В этом фильме данный шаблон еще только заявлен, и развивается он весьма нелинейно, но ясно одно: стопроцентно индивидуально, самостийно, вне спасительного коллектива советский человек существовать не может.
Так и поведется. Еще одна новая матрица заложена. Отныне, если герой чувствует себя по жизни хорошо и радостно, он успешен и счастлив — значит, он неправ, и его надо переделать, улучшить, ибо в противном случае он непременно зазнается. И даже самый что ни на есть положительный герой «Летчиков», и даже сам Василий Чкалов из одноименного фильма укладываются в прокрустово ложе исправлений и возвращения в коллектив. В итоге произойдет следующее: не очень правильный персонаж просто осознает свою ошибку, а более правильный — непременно совершит подвиг. То есть преодолеет свою излишнюю счастливость, чреватую индивидуализмом, а самое главное — неподконтрольностью, и оправдает ее подлинным успехом, сиречь подвигом.
Но вот, скажем, вполне радостные и успешные герои фильмов «Волга-Волга» или «Шуми, городок» — с ними-то как? Они счастливы, у них все получается, более того, они занимаются творчеством, и все у них в жизни хорошо. Их никто не исправляет, а даже наоборот, продвигает на осуществление еще более грандиозных планов — для самодеятельного композитора Стрелки из «Волги-Волги» это выход на московскую орбиту, а для рационализатора Васи («Шуми, городок») — реализация его грандиозного проекта по передвижке домов в родном городе. Но не напрягайтесь, тут все правильно — перед нами не индивидуалисты, озабоченные исключительно своим собственным успехом, а особо одаренные представители сложившихся коллективов, в которых все равно талантливы. Эти герои действуют не в отрыве от породившего их социума, а в спевке, в унисон с ним. И именно социум как бы выдвигает их из своих рядов для выхода на больший уровень. Но и о себе не забывает, ибо представлять они будут именно свой родной город, свой родной коллектив, прославлять его своим именем, тем самым еще раз доказывая, что жить стало лучше и веселее и что каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране.
Помимо вышеупомянутых матриц в 1930-е годы закладывается и еще одна, чрезвычайно существенная для советского соцреалистического пространства. Это матрица карьериста. Карьерист изначально нацелен только на успех и ни на что более, это его главная цель, его идея фикс. И если к карьеристу присмотреться, непременно выяснится, что это враг — или шпион-диверсант (как, например, в «Партийном билете»), или партийный оппозиционер (герои Ивана Берсенева и Олега Жакова в «Великом гражданине»).
Но есть и третий вариант карьериста — человек, который не для себя карьеру делает, а борется за счастье народа (а враги ему мешают) — например, тот же великий гражданин Шахов или знаменитый Максим из трилогии в исполнении Бориса Чиркова. Такой человек в итоге становится вождем. В этом качестве он или, преодолевая некоторые не слишком значительные трудности, движется по пути перманентного успеха, или погибает, принеся себя в жертву на алтарь Родины, ибо жизнь вождя есть непрекращающийся подвиг, а это, как уже было сказано, высший успех, который только можно себе представить. Потому сия жертва в итоге священна.
Во всех остальных случаях, если кто и стремится к успеху, к нему надо зорко присмотреться, ибо скорее всего это замаскировавшийся враг. Его непременное отличие от просто счастливого человека, оторвавшегося от коллектива, в том, что тот весел, а этот серьезен и напряжен.
В общем, путь личности в кино 1930-х годов — это или нивелировка до обычного винтика системы, или скатывание в бездну ада и греха, или восхождение к сияющим высотам титанизма. А что же все остальные? А они никуда не стремятся, поскольку им и так хорошо, а уж если стремятся, то только в рамках коллектива, озабоченного теми же прекрасными творческими целями и мечтами.
Сей замечательный рай, где всем строго предписана некая социальная функция, и сложился в итоге в стопроцентный миф счастливой советской жизни. И искусство максимально точно его отражало. Оно и стало окончательной заменой реальности. Все, что не вписывалось в эти рамки, рисковало быть подвергнутым тотальному уничтожению. Чаще всего просто за ненадобностью. Причем уничтожению уже в самой жизни.
Рай этот, миф этот нарушила война. Впрочем, не очень сильно. Ибо по большому счету схемы сознания оставались теми же. Другое дело, что в них образовались бреши, куда стала проникать душевность, обозначился лиризм. Но не оптимистически-слащавый (такого хватало и раньше), а бытийный, экзистенциальный. Ибо человек оказался поставленным в ситуацию, когда над смертью уже не посмеешься, как раньше, и не всегда эта смерть теперь была равнозначной подвигу.
Не всегда, но чаще всего. Ибо советские люди в какой-то степени заново вошли в свое идеальное состояние — их коллектив оказался направленным на великую цель, на великую борьбу. И потому в каждом человеке — особенно в наиболее активном — все чаще стал видеться скрытый враг.
Во время войны скрытого врага узнать было намного легче. Он уже ни к какому успеху не стремился, цель его была куда проще — максимально влиться в коллектив. Делал он это с заметным напрягом, а потому всегда был излишне мрачен и чаще всего выдавал себя трусостью посреди всеобщей храбрости.
Храбрость же, как ни странно, возникала от счастья. Ибо именно в войну оказался полностью реабилитированным тот самый счастливый человек, которого ранее, как вы помните, необходимо было сделать чуть менее счастливым. Многочисленные «петры виноградовы» начали совершать свое триумфальное шествие по экранам — стопроцентная радость вперемешку с непрекращающейся удалью и бравой смекалкой переполняла и Антошу Рыбкина в одноименном фильме, и Парня из нашего города, и Ивана Никулина — русского матроса, и многочисленных героев Михаила Жарова, Бориса Андреева, Петра Алейникова и еще многих им подобных. Теперь они могли спокойно проявлять свою творческую удаль, ибо направлены были на главную цель советского социума — борьбу. Наконец она обрела предельно конкретные очертания — в виде великой битвы, наступил великий праздник смерти. Великий праздник советского успеха, где каждую минуту ты мог запросто совершить желанный подвиг и вовсе не обязательно погибнуть, ибо наконец-то такие, как ты, советскому коллективу пригодились. И чем больше в тебе было огонька, тем легче тебе было двигаться по пути огня.
Нет, карьерист (то есть человек, стремящийся к успеху только для себя) в такой ситуации, конечно, оказывался врагом, но в смягченном варианте. Именно эта коллизия лежит в основе фильма «Фронт», где в главном персонаже — зазнавшемся советском генерале, из-за спеси которого мы и проиграли первые месяцы войны, — угадывался знакомый нам по прежним «мирным» лентам индивидуалист. Никто из ему подобных ранее до высот власти дорваться не мог, а этот проскочил. И вот результат — мы из-за него чуть было Родину свою не потеряли. Вот как опасны индивидуалисты. Генеральный продюсер Сталин очень ловко угадал, что списать трагические военные неудачи легче всего именно на подобную, уже слегка навязшую в зубах фигуру. Впрочем, у мифа ничего никогда «в зубах» не «навязает», ибо относится он к уже сложившейся религии (советской), а она всегда должна быть постоянной и неизменной, поскольку усомнившийся непременно попадет во власть диавола, а значит, место ему будет в аду (например, в ГУЛАГе).
Но что мы видим в послевоенном кино? Вот герой Переверзева в «Первой перчатке» — вроде бы чистый индивидуалист. И счастливый не в меру, и озабочен своим успехом (в данном случае на ринге — пытается прорваться к высотам), и самолюбив, и в чем-то строптив. Но тем не менее почему-то никто его не пригвождает к позорному столбу, никто не учит жизни — нет, наоборот, герой полностью добивается своей победы.
А вот вам герой «Сказания о земле Сибирской», молодой композитор. И он точно такой же — сильный, яркий, талантливый. И у него все получается! И его никто в коллектив не впихивает — нет, дают строить свою биографию максимально самостийно, сиречь индивидуалистически.
То же и с героинями фильмов «Путь славы», «Страницы жизни», «Сельский врач» и с абсолютно победительным героем Сергея Бондарчука из фильма «Кавалер Золотой звезды»... Как же так?
А так, что наступила эра тотально бесконфликтного кино (впоследствии шестидесятники заклеймят это направление как максимально порочное в искусстве). Никого исправлять уже не надо — советский рай окончательно построен, и идеально хорошими стали все. Драматургия строится исключительно как конфликт хорошего с лучшим. Причем на самом деле никаких столкновений и психологических коллизий на экране нет — если победит хорошее, мы будем вполне рады, если же лучшее, то вообще отлично.
Но раз конфликта нет, то ничего и не побеждает. Просто на экране жизнь, состоящая из сплошного успеха, из сплошного счастья. Остается только дать под зад каким-нибудь мелким и абсолютно не страшным негодяйчикам наподобие Еропкина (Михаил Жаров) в «Близнецах» или Бубенцова (Ростислав Плятт) в «Весне» — в общем никому и не мешающим, а просто помогающим фильмам обрести большую живость. Да и то сказать: все негодяйство у одного из них — в том, что будучи не на своем месте, он проявляет излишнее служебное рвение, а у другого — в том, чтобы «где бы ни работать, только бы не работать».
Так получилось, что «Весна» Григория Александрова, в силу таланта режиссера, всегда немного выбивавшегося из канонов соцреализма, стала не просто самым художественным фильмом в послевоенном кино, но еще и его метафизической проекцией. Она, с ее склонностью к легкому сюрреализму и призрачности, напоминает некий сон идеального героя экрана конца 1940-х. Но не будем забывать, что подобные герои во многом отражали и сознание нации.
В «Весне» у всех все прекрасно и замечательно, а потому взаимозаменяемо. Стоит только героиням с одинаковыми лицами поменяться местами, как это приведет их к еще большему успеху и еще большему счастью, а мелкие недоразумения — не в счет, важнее же всего результат. Другое дело, что сия абсолютно неправдоподобная ситуация здесь погружена в такой же слегка фантасмагорический мир, а потому впервые остранена. И через это остранение прямолинейно-тупая слащавость бесконфликтного пространства исчезает, а само пространство выявляет свою невсамделишность, удивительность. И даже загадочность.

Ибо ситуация конца сталинского правления и вправду была в чем-то удивительна и загадочна. Достаточно почитать журналы тех лет, и мы попадем в некое подобие Северной Кореи — в стране все суперпрекрасно, сверхпрекрасно, мега-прекрасно. Если где в этом мире и гнездится зло, то только в страшном, черном, ужасном Западе, и особенно в Америке. Там — ад, здесь — рай.
Но самое интересное, что этот рай не был чистой иллюзией и чистым мифом. Конечно же, и журналы, и газеты, и все искусство тех лет так или иначе были проекцией сознания нации. В 1940-е годы еще были проблемы с продовольствием, и рынок в «Кубанских казаках», снятый в бедной, практически нищей Кубани, состоял из одних муляжей (за неимением реальных фруктов и овощей), и бандитизма во дворах хватало, все так. Но к началу 50-х вдруг и ситуация с продовольствием резко улучшилась, и вообще жизнь стала как-то экономически устаканиваться. В конце 40-х люди уже дышали послевоенным счастьем, весь мир напоминал бесконечную пьянку, а к началу 50-х они «осчастливились» до полного, максимального удовлетворения. Ничто не могло помешать их радости — ну где-то какую-то антипартийную группу опять расстреляли (если почитать газеты-журналы тех лет, об этом сообщается тихо, вскользь — не то что в 30-х! — не надо омрачать людям праздник тотального успеха), где-то каких-то космополитов выявили (опять сообщения в СМИ крайне неброские — ну выявили, и ладно), но вообще жизнь воистину прекрасна. Все равны и все сыты — а чего еще народу надо? Всю неделю работаешь для счастья чудесной Родины, а в воскресенье — футбол. Жизнь настолько хороша, что и умирать не надо.
Потому что это уже, в общем, смерть. Точка Б, к которой все пришли. Мир свершившегося бесконечного счастья навсегда. Мир, где все успешны. Да и интеллигенция в порядке. У успешных, состоявшихся ее представителей гонорары и зарплаты огромны: актеры центральных театров получают нереальные деньги, ко всем народным прикреплена персональная машина, гонорары писателей тоже максимально высокие (ни до ни после таких гонораров они не получали), ошельмованные Зощенко и Ахматова тоже, в общем, ничего — живут и творят (вопреки распространенному мифу, что они чуть ли не с голоду помирали) — Зощенко регулярно в своем фирменном стиле пишет в «Огоньке» и «Крокодиле» фельетоны про загнивающий Запад, Ахматова столь же регулярно публикует чудовищные стихи во славу Сталина и партии. Даже они, эти чуть ли не самые известные всему обществу «враги», и те прощены. Рука партии щедра! Плохо только каким-то евреям-космополитам да врачам-убийцам, но ведь они же не наши, не русские, чужие, а потому и черт с ними. Со счастливым народом, между прочим, занимаются — образовывают, окультуривают его — по радио с утра до ночи вместе с речами вождей читки Толстого да музыка Чайковского (к слову, именно на культуре XIX века воспитывались будущие шестидесятники — всю остальную, Счастливую, реальность они просто не воспринимали, она их мало интересовала, проходила мимо них), а колхозников группами регулярно возят в Москву — во МХАТы да консерватории (в журналах тех лет мы увидим много фотографий организованных народных толп, приехавших в Москву с плакатами «Идем слушать Бетховена!»).
Все как надо. Как бы мечтал возвратиться сегодня туда весь наш народ! Зачем им эта ужасная реальность Желтого дьявола, где человек человеку волк? Как бы им всем там, в начале 50-х, было бы здорово, как спокойно, как вольготно!
И все-таки весь этот рай почему-то разрушился. Не может человечество долго существовать в Раю — даже уже полностью «сделанное», полностью обработанное советское человечество. И разрушила его, конечно, в первую очередь интеллигенция. Но не без молчаливой поддержки народа. Люди устали от бесконфликтной пустоты своего существования. Тотальное равенство успеха для всех и каждого изнутри стало прорастать серостью, обнаруживать свою бессмысленность.
И стоило Сталину умереть, полезли на свет божий «скелеты в шкафу», начали произрастать полноценные конфликты — и в партии, и в жизни, и в искусстве. А вместе с конфликтами полезли в искусство и привычные схемы, знакомые матрицы соцреализма — матрица перевоспитания индивидуалиста коллективом, матрица борьбы положительного новатора с гадкими консерваторами (теперь на экране они облачены исключительно в сталинские френчи), матрица конфликта честного человека с «врагом»-карьеристом... Других-то конфликтов советское искусство не знало.
Но матрицы те же, а содержание внутри них было принципиально иным. Вот перевоспитывают счастливого, радостного, предельно успешного и упоенного собой индивидуалиста-десятиклассника в «Аттестате зрелости» или индивидуалиста-академика в «Верных друзьях», а ты думаешь: а, может, где-то они и правы? Ведь не очень хорошо себя ставить против всего коллектива, нехорошо подводить своих товарищей, нехорошо зазнаваться. Какие, однако, мысли соцреалистические! Но не случайно они лезут в голову — ведь на экране перед тобой уже другие люди, куда более живые. Мы видим, что индивидуалисты эти на самом деле — приятные и обаятельные люди, а если их чуть подправить, чуть подперевоспитать, винтиками системы они не станут. Ибо и сама «система» тоже вполне обаятельна — в «Аттестате зрелости» перед нами предельно дружный класс, но состоящий не из пафосно-оптимистических строителей коммунизма, а из абсолютно нормальных людей. А уж «верные друзья» академика и вовсе замечательные ребята: остроумные, ироничные (ирония, заметим, — свойство ума) и самое главное — свободные.
Вот это интересно. В морально-этических фильмах 1950-х, при всей их наивности, мы уже видим свободных людей, выламывающихся из своей социально-коллективной функции. Догматик же на экране не случайно в сталинский френч обряжен — он остается человеком прошлого времени (едва ли не проклятого прошлого), он не слышит людей вокруг себя (перманентно проявляющих свою сво-бодность), он говорит затверженными догмами — а от них уже необходимо избавляться. Та же беда и с карьеристом. У него тоже один, главный недостаток — он никого не желает слушать, а потому всегда неправ. Не надо такому человеку строить карьеру, ее должны осуществлять по-настоящему талантливые, творческие герои, они людей слышат и от них своим творчеством подпитываются, ибо главный творец истории — народ. И он всегда прав. Так считают «пятидесятники».
А он, как ни странно, тогда и был более прав, чем интеллигенция. Внутренний конфликт народа и интеллигенции лег в основу одного из первых по-настоящему оттепельных фильмов «Весна на Заречной улице». Он ведь тоже о стремлении к успеху. Более успешным в жизни хочет быть и без того успешный сталевар Саша Савченко, потому и идет в 30 лет в вечернюю школу, и к еще большему успеху зовет его молоденькая учительница, стремящаяся, чтобы он максимально окультурился, полноценно овладел различными знаниями.
А получается какая-то нелепость. Он ее слышит, всей душой к ней стремится, а она его — нет. Он живой — а она напичкана догмами. Но не догмами сталинского времени, как консерваторы-руководители во френчах, а догмами морально-этическими — вот этими самыми матрицами, на которых по-прежнему еще и строится все искусство. Только жизнь сама по себе вносит в них поправки. А народ к жизни ближе, он по большому счету ничего кроме нее и не знает — ведь высокой культуры-то, той самой, к которой тянет Сашу Савченко учительница, в нем нет.
Беда в том, что подлинно высокая культура еще не проросла — до 1960-х, максимально внедренных в бытие, идущих к нему с открытым забралом, чтобы постичь все его смыслы, еще жить и жить. Пока интеллигенция внутренне скована, она «корчится, безъязыкая» в муках рождения новых смыслов. А народ нутром чует что-то большее, что-то истинно живое, никак не связанное вообще ни с какими догмами, а значит, интуитивно находит в жизни больший здравый смысл и действует согласно ему.
И потому в «Весне на Заречной улице» романа между героями — сиречь романа между народом и интеллигенцией — так и не случается (может, будет, может, нет... неизвестно), и финальный титр гласит: «Конец фильма?». Именно так, с вопросительным знаком.
О нет, далеко не конец. Это только начало, начало конца. Начало расставания с соцреалистическими матрицами (оно затянется ох как надолго, ибо после вольных-свободных 60-х придут 70-е, и матрицы эти снова вернутся на экран) и начало подлинного, едва ли не трагического конца. Трагедия — и в первую очередь экзистенциальная трагедия — будет в том, что, вырвавшись из советского спасительного коллектива, советский человек, будучи атеистом, окажется в состоянии трагической пустоты. Он почувствует свою богооставленность, ибо расстанется с советской религией, а о другой, подлинной вере, вере в Бога, он ничего не будет знать.
И процесс этот начнется уже в самом начале 1960-х. Из цветного наивного рая 50-х советский кинематограф нырнет в черно-белое пространство 60-х (отныне цветными будут только комедии). Чтобы не смотреть сияющими очами на реальность, которую мы видим в цвете (и чаще всего, кроме мифа и мифов, сознание многих людей ничего иного и разглядеть не способно), а обратить свой взор внутрь себя, внутрь собственной души.
Но как в таком случае обрести успех? Ведь все-таки в нем смысл жизни, ибо представляет собою она пока чистую горизонталь — вертикали еще нет, Бог где-то далеко, в смыслы жизни советского человека Он никак не входит. И потому соц-реалистические матрицы остаются, да, по-прежнему теми же, но только фон вокруг них, фон — оказывается куда значительнее и куда интереснее. Он-то постепенно и начинает составлять смысл. И именно в фоне, в движении к нему, и будет заложена новая матрица, матрица экзистенциальная — матрица духовного пути шестидесятников к реальной жизни, к Богу.
Возьмем самые известные, самые обсуждаемые, самые социально значимые фильмы 1960-х — «Девять дней одного года» и «Председатель» (наверно, к ним можно было бы присоединить по социальной значимости еще «Заставу Ильича» и «А если это любовь?», но только они никак не относятся к предмету нашего исследования). Перед нами фильмы о людях, достигших успеха. Герой «Девяти дней...», физик Гусев, достигает полноценного успеха, принеся себя в жертву на алтарь Родины. Председатель Трубников достигает успеха ценой тяжелейшей ломки — причем ломки и собственной психологии, и психологии своих односельчан — во имя построения нормальной жизни в отстающем колхозе, которым руководит. Цена успеха отныне — испытание. И испытание это в какой-то степени религиозно, ибо герои проходят Крестный путь, постепенно отказываясь от многого в своей жизни.
Мне можно возразить: так и героиня «Члена правительства» его совершала, и героиня «Старого и нового», как и еще немалое количество их собратьев и сосестер из фильмов сталинского времени. Эти-то, новые герои, чем от них отличаются?
Практически ничем, и в этом их определенный «соцреалистический» минус — разве только Гусев приносит себя в жертву не во имя идеологического мифа, а во имя науки, прогресса, интеллекта. Но ведь жертвует собой, своей жизнью! А Трубников если не членом правительства в итоге стал, то уж рай в своем колхозе точно выстроил (в чем и был глубинный, метафизический проигрыш этого героя, и об этом было сказано в начале статьи — только авторы, к сожалению, об этом проигрыше не знали).
Но тем не менее, если не герои, то произведения, в которых они действуют, отличаются от сталинских практически всем. Ибо и Гусев и Трубников идут к успеху не через борьбу с Врагами, а через борьбу или с самими собой, или с абсолютно нормальными, живыми людьми, которые до конца не понимают их правды, но которых надо заставить ее понять. Посему интеллигентный циник и бонвиван Куликов (герой Смоктуновского), друг Гусева, любящий жить красиво, не слишком напрягаться, но при этом остающийся человеком абсолютно порядочным и искренне влюбленным в науку (обратим внимание, что именно этим образом был впервые на экране реабилитирован тот самый знакомый нам карьерист, который доселе непременно был и циником, и бонвиваном, и это было для всех ужасно, это были приметы врага), не слишком-то отличается по своей художественной задаче от простых колхозников из «Председателя». Ибо и они, и Куликов до конца не понимают правды героев. А они — это и есть мы, зрители. Мы тоже видим, что правда героев нравственно не безупречна. Потому и Куликов над ней размышляет, и колхозники затылки чешут, кумекают, а вместе с ними и мы проходим путь Постижения — главной духовной константы шестидесятничества.
Трубников полностью побеждает и, как было сказано, мгновенно становится неинтересен нам и фальшив, ибо нам больше не о чем размышлять, и мы чувствуем себя немного обманутыми. С Гусевым сложнее, ибо умирание его впервые показано в советском кино долго, подробно и мучительно — интонация картины становится из напряженно-тревожной просто какой-то мрачно-загробной. И это уже движение к экзистенциализму — Бога еще нет, за смертью наступит смерть, но — в финале останется предсмертная записка героя: «А не махнуть ли нам всем в ресторан?». Жизнь через иронию как будто торжествует над смертью, но весь внутренний строй фильма говорит об обратном. Однако мы впервые проживаем на экране смерть не как великое счастье подвига за Родину, а как трагедию духовного подвига. И уже не восклицательный знак в финале, а тревожный вопрос: а подлинный ли успех перед нами?
Через несколько лет 1960-е вообще расстанутся с матрицей успеха. Он будет ассоциироваться с социумом, а социум — с соцреализмом. Рассказывая о частной жизни, они абсолютно всегда будут говорить о социуме — от частного идти к общему. Сверхзадача станет важнее сюжета, парадокс и знак вопроса — важнее некой истины, которая может быть выражена на тот момент только лозунгом, догмой.
Подлинная истина — в парадоксе. Потому и пророки говорили парадоксами. Шестидесятые подспудно движутся им вслед. Шестидесятые парадоксальны.
И вот появится едва ли не единственный открыто социальный фильм конца 60-х, этой золотой эпохи не только советского кино, но и всего мирового кинематографа в целом. Фильм этот будет называться «Твой современник» и вызовет огромное количество самых различных откликов — как правило, исключительно положительных. И со стороны левой, и со стороны правой критики. В итоге он будет объявлен едва ли не самой значительной победой советского кино в данной пятилетке. А потом его забудут. И напрасно. Фильм воистину замечательный. Ибо он о том, что добиться успеха в советском мире можно только путем социального самоубийства.
Герой фильма, директор крупного сибирского завода Губанов, приезжает в Москву, чтобы поставить в высших эшелонах власти вопрос о прекращении стройки нового химического предприятия, хотя автор проекта — он сам, работа — в разгаре, затрачены миллионы государственных средств, и тысячи людей уже связали с этим строительством свою судьбу. На него смотрят как на идиота — он с ума сошел? мало того что стройка давно в плане, закрыть ее никак невозможно, но он что, хочет навсегда расстаться со своей карьерой? из партии полететь?
А ему все равно, что с ним будет. Ему главное — закрыть стройку, ибо она не просто убыточна, она нанесет огромный ущерб окружающей среде и вообще принесет куда больше вреда, чем пользы. В основе — только правда, но правда (о шестидесятники!) парадоксальная, правда парадокса. Самоубийство? Пусть. Разрушение дела, которому посвятил годы жизни? Да. Губанов абсолютно спокоен, решение для себя он давно уже принял.
Разумеется, несмотря на всю свою предельную реалистичность, перед нами притча, ибо такой ситуации в жизни быть не может. Но шестидесятники уже поняли, что для того чтобы обрести подлинный успех, надо совершить акт умаления, кенозис. Принести себя в жертву. Но не на алтарь государства, и даже не на алтарь науки (как Гусев), а на алтарь истины. Причем истины социальной. Истина в том, что заложенное в план построение нового пространства (в данном случае завода) — это по большому счету проигрыш. Ибо система не ра-бо-та-ет. Тот, кто первым скажет это, осознает истину. Тот, кто первым принесет себя в жертву этой истине, совершит кенозис. И станет богом. Богом для самого себя. Станет выше прежнего себя, себя социального (обратим внимание на тот факт, что Губанов далеко не молод, ему за 50), себя как винтика советского коллектива и себя как носителя советской религии. И в этом подлинный успех.
Беда только в том, что подвиг этот, кенозис, уж такой экзистенциальный, что мама не горюй. Христос знал, что принесет в мир новую веру. Губанов же прекрасно знает, что он проиграет, что имя его будет неизвестно (даже проклято), а подвиг отнюдь не бессмертен.
Но правота его в том, что он спокоен и мудр, что, совершив акт социального самоубийства, для себя он откроет нечто большее. Однако, увы, возникает и координата духовного проигрыша. Проигрыш Губанова в том, что и веры никакой он не откроет (пусть даже чисто социальной), и к Богу уж тем более не приблизится, и за ним никто не пойдет. Даже приятель его, академик Ниточкин, циник в маске шута (удивительный, признаться, для советского кино персонаж), его покинет.
То есть все-таки это тупик. Но за ним следует только одно — для человека, для шестидесятника это единственный подлинный выход. Подлинный выход внутри его социальной веры. Другой пока нет. И как бы ни был этот тупик нравственно прекрасен и социально глубок, это тупик.
Шестидесятые заканчиваются духовным проигрышем поколения. Но проигрыш этот воистину прекрасен. Ибо в нем — обретение подлинных смыслов происходящего.
Свернут вольницу 1960-х, за ними придут 70-е — поначалу серые, потом хитрые, лукавые, прячущиеся, аллюзийные, таящие фигу в кармане. Но с хлынувшей на экран в начале 70-х мертвечиной и серостью (весь «второй ряд» не только советского кинематографа, но всего советского искусства будет полностью разрушен — лишь отдельные избранные художники будут как-то выживать и чего-то достигать) полезут и старые, навязшие в зубах соцреалистические матрицы, вылезут из 1930-х, как тролли из пещеры, и, обрядившись в новые костюмы, начнут разгуливать по экранам, подмосткам и страницам книг. Опять честные новаторы будут бороться с неприятными консерваторами, опять коллективы будут перевоспитывать одиночек, вылезут на свет божий и отвратительные карьеристы... Но, конечно, все-таки под иным знаком.
Дело в том, что опять-таки изменится статус врага. Консерватор станет четко ассоциироваться с неправедной системой, а карьерист — с конформистом, мечтающим ей, неправедной, услужить, вопреки своим убеждениям. Система все-таки уже будет восприниматься в качестве подлинного, глубинного, затаенного врага. И так прорастут побеги, посеянные в том числе и «Твоим современником».
Спасительный коллектив, увы, вернется на круги своя, но вытаскивать зарвавшихся одиночек он будет не из лап индивидуализма, а из тенет мещанства. Но какого! — не просто там какого-то духовного мещанства 50-х или даже 60-х, а из лап криминала, которому это мещанство присягнуло и теперь обретает там свой успех. И успех этот у врага только денежный — больше никакой. Деньги — зло, коллектив светел, бескорыстен и строит БАМ. Многие «неправильные» герои 1970-х будут к этому коллективу обретать дорогу — в том числе и герои экзистенциальные, не могущие найти лада в собственной душе и потому входящие в конфликт со всем миром (как, например, молодой хиппи из фильма «На край света.» по сценарию Виктора Розова). Коллектив — отрада. Там — подлинный успех жизни, езжай на БАМ да обрящешь.
Но подобные фильмы телепаются на обочине. Куда интереснее вглядеться в ленты, пребывающие на авансцене процесса. Таким был фильм «Самый жаркий месяц» — о нем горячо спорили, яростно поносили и столь же жарко его воспевали, он номинировался на Госпремию (кстати, небезынтересно, что все-таки оную не получил), а потом был абсолютно забыт. И опять зря, ох как зря! Ибо это один из первых в начале 1970-х (обратим еще раз внимание, что перед нами уже другая эпоха, не идущая ни в какое сравнение с 60-ми, эпоха, предельно зажатая и даже «опущенная») подлинно антисоветских фильмов.
На знаменитом круглом столе в «Искусстве кино» известные деятели культуры вовсю распинали «Зеркало» и «Осень» как социально чуждые произведения и с трудом, из-под палки, из последних сил расхваливали «Самый жаркий месяц», который никому из них не нравился — ну как могут нравиться какие-то толкающие речи рабочие, герои фильма? они к тому времени уже всем обрыдли...
Ах, как ошибались, как проглядели ленту интеллигенты начала 1970-х! Ибо «Зеркало» и «Осень» абсолютно ничего антисоветского в себе не содержали, а «Самый жаркий месяц» — сейчас диву даешься, как он вообще мог быть запущен в производство. Внешне все нормально — отдельная критика отдельных недостатков на отдельно взятых предприятиях... Но в искусстве — тем более подлинном — все выходит в ранг обобщения. А «Самый жаркий месяц» был подлинным искусством — причем искусством искуснейшим и хитрым.
Его герой, сталевар Лагутин, приходит на крупный завод, чтобы своим трудом добиться подлинного успеха в жизни. Он даже бросил начавшуюся было инженерную карьеру, ибо является сталеваром по призванию (опять-таки тут некая условность, но пусть — ведь перед нами тоже своего рода притча). Что же он видит? Что на заводе все работают откровенно плохо, а хорошо работать просто невозможно — система не позволяет. Потому вместо работы — перманентный отдых, простои, приписки, негодные материалы. Лагутин начинает борьбу. И настраивает против себя весь коллектив, ибо из-за его демаршей плохо будет всем — и денег лишних ни у кого не будет, да и вообще все производство может встать. Сталевары объявляют Лагутину бойкот. Дойдя до предела, герой напивается, влезает на самосвал и в бессильном гневе, просто чтобы куда-то деть накопившуюся энергию раздражения, сносит любимую рабочими пивнушку, в которой они проводят время не только после работы, но и, как правило, во время оной. Лагутину грозит суд, рабочие счастливы — наконец-то мы от него избавимся! Но мудрый директор, которого все уважают, твердо заявляет: на суде Лагутина поддержать, добиться, чтобы коллектив его взял на поруки, а срок был условным. Рабочие нехотя соглашаются. Удивленный герой возвращается на завод, но не в цех, а в кабинет директора, где тот предлагает ему место своего заместителя: ты — талантливый неглупый человек, станешь заместителем, и все твои бунты прекратятся — ты поймешь, что дело вовсе не в недостатках, с которыми ты так усиленно борешься. И Лагутин соглашается. Конец фильма.
А в чем же дело-то, если не в недостатках? — может спросить зритель. Но все понятно: дело в системе. Поэтому ты работай, как получается, как сама жизнь тебе предписывает, и в общем старайся работать хорошо, но не бунтуй — все равно ты ничего не исправишь. Примерно в те же годы прозвучала знаменитая фраза Жванецкого: «Нас учат бороться с плесенью, вместо того чтобы бороться с сыростью».
Я не случайно так долго пересказывал забытый фильм «Самый жаркий месяц»: в нем заложен код понимания всего социального кинематографа времен застоя — кинематографа, в котором люди если чем и озабочены, то именно успехом — кто только своим (причем это уже далеко не всегда карьеристы), а кто успехом дела. Но успех дела уже всегда связан и со своим, чисто личностным успехом — дело делом, а о себе забывать не стоит, чай не в 1930-х живем.
Код «Самого жаркого месяца» — код 1970-х — код социально-иронический и притчеобразный. Если в обществе ничего не изменить (а это очевидно), остается постигать смыслы бытия с ироническим прищуром, и в этом спасение, ибо только так ты сможешь спастись от духовного саморазрушения, куда тебя максимально пытается затащить идеология. Своими лозунгами, в которые никто не верит, она из последних сил старается поддержать то, что уже никакой реформации не поддается.
Так что подлинного социального успеха может добиться только карьерист, и это ужасно, ибо, значит, «их полку прибыло». Твой личностный успех — уже не постижение (как у шестидесятников), а понимание. Но открыто ты его высказать не можешь, значит, надо надеть маску.
Человек же без подобной социальной маски превращается в человека без кожи, человека незащищенного и потому смешного — в совка. Этому посвящен фильм Глеба Панфилова «Прошу слова» (тоже номинированный на Госпремию и тоже, что забавно, ее не получивший. И опять-таки, видать, неспроста. Уже работает система тайных кодов и тайного, подспудного понимания процесса — что со стороны художников, что со стороны властей). Героиня ленты — честнейшая коммунистка, мэр крупного провинциального города — изо всех сил старается сделать жизнь в оном лучше. И... не то чтобы ничего не получается. Смысл в том, что и не надо, чтобы получалось. Все и так идет, как идет, а мост, который она пытается проложить в этом городе через местную реку, абсолютно никому не нужен. Но своей истовостью, своей прямолинейностью она... опять-таки не то чтобы разрушает жизнь вокруг себя, но — и ничего хорошего никому не приносит. Интонация фильма при всей его кажущейся реалистической серьезности тотально ироническая. Но ирония максимально скрыта, все заложено глубоко вовнутрь — а так перед нами самое что ни на есть правоверное произведение о настоящем человеке, преданном своему делу и достигшем в нем успеха. Только никому не понятно, какого. Финал фильма торжественный, бравурный, но — за ним ничего нет. Мы понимаем, что этот пафос нарочито ложный, и режиссер это знает, а потому максимально его остраняет. Выходя из зала, мы понимаем, что пафос только в финальной нарочитости оптимистической интонации, но он совершенно сознательно никак не подкреплен драматургией — при том что фильм создается исключительно по принципам драматургии, а отнюдь не по законам кинематографического состояния или ведущей тебя авторской сверхзадачи. Фильм играет с нами, он вроде как ведет нас в сторону соцреализма, но внутренний ход (и внутренний код) его иной — и после просмотра этот «скелет» фильма проступает сквозь его «кожу», максимально обозначается, как на кальке. Успех героини кажущийся, ложный, на самом деле у нее ничего не получилось, и вообще весь ее путь — абсолютно ложное движение в мертвом болоте застывшей жизни.
Успех героя 1970-х — это почти всегда проигрыш, но или поданный иронически со стороны режиссера, или иронически осмысленный самим героем. Главные персонажи огромного множества фильмов 70-х — художники. Внутри серой реальности они стараются выстроить свой прекрасный, отдельный, глубоко индивидуальный мир. И они практически всегда терпят поражение. Проигрывает Фарятьев в «Фантазиях Фарятьева», проигрывает юный герой-барабанщик в «Не болит голова у дятла», даже персонаж притчи — барон Мюнхгаузен из фильма Марка Захарова, и тот вынужден покинуть мир сей, отправившись от всех на Луну, а по сути — погибнуть.
Вообще неудачник — это главный герой 1970—80-х. Во всех лучших фильмах этой эпохи ни у кого ничего не получается, даже любовь на экране, и та всегда неудачная, несложившаяся. Люди стремятся к успеху—в карьере, осуществлении своих планов, в надежде на построение своего мира, — но ничего не достигают. А успешным быть плохо, некрасиво — и чем дальше, тем больше. С годами образ карьериста становится уже совершенно устрашающим, он превращается в реального врага общества — то есть почти уголовника, — ну все равно как шпионы и оппозиционеры из лент 1930-х, без криминальных преступлений они прожить не могли.
И вот карьерист Андрея Мягкова из «Страха высоты», чтобы добиться положения в обществе, решается на плагиат и подлог, карьеристы Леонида Маркова и Вячеслава Шалевича из «И это все о нем» и «Лекарства против страха» косвенно оказываются причастными к преступлению, косвенно замешанными в нем, а карьерист Аристарха Ливанова из «Операции на сердце» уже идет на открытое преступление, хитрыми интригами пытаясь извести своего противника — честного талантливого хирурга, — что ему удается.
Постепенно карьеризм в советском кино прочно срастается с криминальным бизнесом и вообще с мафией. Практически все карьеристы 1980-х уже не столько за карьеру бьются, сколько просто хотят получить в жизни как можно больше баб-ла и посредством оного двигаться вверх по социальной лестнице, ибо теперь уже всем становится окончательно понятно, что, как пелось в песне тех лет на слова Юлия Кима: «Не подмажешь — не поедешь, не обманешь — не продашь. Вот оно, общественное мнение!».
Загнивающее общество все более криминализуется, а самый успешный человек в нем, карьерист, превращается из социального врага просто в уголовника, которого нужно изничтожить, посадить, отправить, куда Макар телят не гонял. Тем не менее людей таких в социуме становится все больше и больше, а значит, и фильмов о них. Тем самым интеллигенция вопиет о своем моральном, нравственном и общественном проигрыше. Однако большинство ее представителей тоже уже давно живут по этим законам, но осторожно, в большой криминал стараясь не слишком уж влезать — опасно. А карьеристы меж тем делают свое дело. И во многом именно они и приводят общество к перестройке.
Перестройка оказывается удачной, успешной революцией, ибо начинается не снизу, а сверху. Любые революции снизу настроены на Утопию, а потому всегда заканчиваются кровью и бараками, меж тем как революции, происходящие сверху, оказываются эволюционными.
Перестройку совершили именно карьеристы — то есть успешные и здравомыслящие люди из высших эшелонов власти, — и в первую очередь левое крыло КГБ, поддерживаемое Андроповым и, как ни странно, тогдашним Крючковым. Наконец, кем, как не нормальным советским карьеристом был Михаил Сергеевич Горбачев? — именно им он и был.
Более того. 1980-е — это вообще уже время, когда страной начинает управлять не совершенно угасающая партия, состоящая из дремучих старперов, а карьеристы — нестарые, хорошо соображающие, хитрые, толерантные. Они и в искусстве создают свое пространство — систему двойных стандартов, — и всячески помогают прорваться на свет творениям, на подобных двойных стандартах построенным. То есть произведениям парадоксальным, в которых говорится одно, а подразумевается совсем другое.
И вот еще парадокс — чем четче это подразумеваемое выговаривается на экране, чем внятнее оно, тем легче выдать фильм (да и любое произведение искусства) за социально острый, подлинно партийный, называющий вещи своими именами и всегда готовый сражаться с «отдельными недостатками на отдельных местах». Началось все с «Самого жаркого месяца» и «Прошу слова» (они, как вы помните, никаких премий еще не получали), а закончилось фильмами «Остановился поезд» (название-то каково! Однако ж — Государственная премия РСФСР), «Твой сын, земля» (это уже практически приговор системе, вопль об ее тотальном распаде. Ленинская премия СССР) и сериалом «Грядущему веку», снятому по награжденному Госпремией роману Георгия Маркова (тут уже идет подробное исследование причинно-следственных связей краха системы, подробный показ закономерностей, благодаря которым мы понимаем: эта система нереформируема — что и ставит героя фильма, молодого честного секретаря обкома, в финале фильма на грань самоубийства).
Кто продвигал эти фильмы на экран? Кто обеспечивал им «облако» из нужных для проходимости фраз и концепций? Кто толкал их на Госпремии? Карьеристы, те самые успешные люди. Других персонажей в высших эшелонах власти на тот момент уже просто не было, а верховные старперы практически ничего не соображали, у них была одна цель: удержаться в кресле до смерти. Но у старперов появились толковые консильери.
Перестройка в искусстве стала новым скачком в полноценный реализм. Язык притчи начал исчезать, а вместо него возник жесткий язык если не острой журнальной статьи, то злободневного социального эссе. Стиль сей в кино получит название «чернухи». И от него как-то быстро устанут. Не мудрено, если куда ни глянь, куда ни плюнь, везде сплошной негатив — взвоешь!
Но на самом деле, если эпоха 1960-х интуитивно открывала Бога, то эпоха перестройки, эпоха конца 1990-х, открывала дьявола. И в первую очередь русского дьявола, нашего, родного. Исчезли шоры, напрочь испарились всяческие иллюзии, и на экран вылезло мурло. В первую очередь мурло русского человека — в самых разных его проявлениях — мурло ментальное, так сказать.
Если бы мыслящая интеллигенция не начала кривиться от чернушных фильмов, а более внимательно их рассмотрела, она бы оказалась более подготовленной к 1990-м, когда это мурло уже правило свой бал. Но интеллигенция склонна обольщаться. Вот и казалось ей тогда, что стоит убрать власть партаппарата — весь народ тут же ринется в кино смотреть Тарковского и Цветаеву с Ахматовой с базара понесет. И поначалу, когда ему сей запретный плод разрешили скушать, — понес, понес. А потом вот как-то перестал. Тут уже начался диктат рынка — в том числе и диктат того самого мурла.
Не столько чернушными произведениями (они-то, как правило, оказывались глубже тех весьма прямолинейных смыслов, которые закладывались в них их создателями), сколько отношением к ним — ноющим, недовольным, вечно неудовлетворенным, — интеллигенция так и не смогла сформировать в искусстве коды подлинного успеха и не озаботилась ценою, которую приходится за него платить. Да и вообще просто не стала заморачиваться на эту тему, ибо матрица успеха уже четко сидела в сознании как матрица зла, матрица врага, и — более — матрица греха. На самом же деле все оказалось куда сложнее — ведь не случайно, как уже было сказано, именно карьеристам интеллигенция обязана, именно они сформировали перестройку.
Ну и проиграла опять интеллигенция. В 1990-х она оказалась не у дел. И продолжала стонать и ныть — на экране в первую очередь, — выдавая на-гора фильмы мутные, тревожные, раздраенные, невнятные.
А потом, уже в нулевых, место духовного вождя общества занимает его величество гламур. В нем действуют исключительно успешные герои, преодолевающие все трудности и входящие в финале в абсолютно расчудесный и лишенный проблем хеппи-энд. К жизни эти произведения не имеют ни малейшего отношения, но на него и не претендуют — это индустриальные болванки нового русского Бол-ливуда, создающиеся исключительно для народа, для масс. Те их быстро хавают, столь же быстро забывают, но зато обеспечивают стандартные рейтинги — особенно на телевидении, — а значит, и стандартную кассу.
Но подлинно ли успешны герои гламура? Вряд ли. Ибо действуют в условном мире с условнейшими законами — мире, предельно легком и предсказуемом, ибо он абсолютно однозначен и прямолинеен. Сиречь соцреалистичен. С чего начинали, к тому и пришли.
Наверно, потому что забыли: путь движения к успеху парадоксален и драматичен — особенно в нашей стране. И если художник сумеет раскрыть на экране эти два начала, парадоксальность и драматичность, он обретет подлинный успех — хотя бы потому, что вместе с героем пройдет путь понимания самой реальности. Ведь оный путь ох как непрост и ох как неоднозначен.
Чему и были свидетельством лучшие картины советского времени, посвященные движению к успеху. Они открывали нам глаза на мир. И давали нам возможность задуматься о смысле жизни.
