Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
О важности слов
Шкаратан О. И. Социология неравенства: теория и реальность. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 526 с.
Тема социальной стратификации обладает особым статусом не только потому, что является одной из базовых в социологии, — она проецируется на план повседневности, превращаясь в проблему равенства и справедливости. Новая книга Овсея Ирмовича Шкаратана затрагивает обе стороны вопроса. Автор не ограничивается бесстрастным изложением исследовательского материала, он касается болевых точек социального устройства и говорит об этом публицистично и эмоционально.
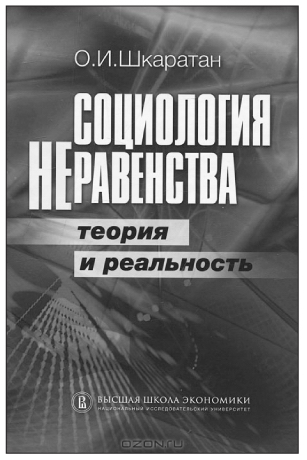
В предисловии к книге сказано, что она адресована отнюдь не только профессионалам, и это действительно так — разные читатели найдут в ней интересные для себя темы. Пятисотстраничный труд составляет единое целое, изложение выстроено логично и фундировано, связано единым авторским подходом. Проведенный анализ позволяет автору констатировать, что России не удалось «выйти из ограничивающего ее включение в мейнстрим мирового процесса развития состояния этакратической закрепощенности, совершить коренной поворот в сторону конкурентной частнособственнической экономики, демократии и гражданского общества» (с. 520). С этим тезисом трудно не согласиться.
Новая книга Шкаратана безусловно будет интересна и полезна студентам, изучающим общественные дисциплины, в ней приведены базовые понятия и подходы, показано, как они встроены в общую систему знания и как применяются в исследовательской работе. Специального внимания заслуживает библиография. Автор широко цитирует не только признанных классиков, но и менее известных исследователей, излагая их идеи и методологии. Страницы, посвященные бытованию социологии в Советском Союзе, представляют особый интерес — о том, что происходило в этой области, мы узнаем от непосредственного участника процесса.
Книга будет безусловно интересна и тем, кто профессионально занимается исследовательской работой в сфере социальных наук: в ней обсуждаются вопросы, единого подхода к которым пока не выработано, поэтому многие тезисы Шкаратана не могут не вызвать дискуссии. Наиболее спорный аспект, с нашей точки зрения, заключается в известной переоценке автором операциональности некоторых устоявшихся понятий. Основной российской проблемой, по его мнению, является этатизм, то есть чрезмерное вмешательство государства в экономику и жизнь общества. Однако на странице 335 читаем: «Для нас чрезвычайно ценна его [профессора Дэвида Лэйна] точка зрения относительно того, что гибель государственного социализма не подтверждает вывода о том, что «социализм умер», что общество не может выжить без частной собственности. Она заслуживает самой высокой оценки как с профессиональной, так и с нравственной точки зрения». Меж тем, что бы мы ни понимали под социализмом как формой общественного устройства (общественную собственность на средства производства вплоть до запрета частного предпринимательства или всего лишь перераспределение доходов через налоговую систему и фонды общественного потребления), эта форма подразумевает усиление роли государства, вернее, государственной бюрократии, которая, опосредуя государство, осуществляет функции контроля и перераспределения. Если автор полагает, что государство в России играет чрезмерную роль, то он, казалось бы, должен выступать за развитие ограничивающих ее институтов, основным из которых является частная собственность. Именно независимые от государства, защищенные законом материальные ресурсы создают основу существования оппозиционных партий, независимых от государства СМИ, негосударственного рынка труда. Социализм неизбежно означает передачу дополнительных функций бюрократии, то есть усиление роли государства, капитализм — сокращение его роли. Хайек отмечал, что отказ от экономической свободы в пользу коллективизма и централизованного планирования неизбежно ведет к диктатуре государства и что нацизм возрос на социалистической идее. Схожей позиции придерживался и весьма известный в прошлом веке американский общественный деятель Макс Истмен: «...сталинизм — это и есть социализм в том смысле, что он представляет собой неизбежный, хотя и непредвиденный, результат национализации и коллективизации, являющихся составными частями плана перехода к социалистическому обществу».
Безусловно, столь высокопрофессиональный исследователь, как Шкаратан, не может не знать упомянутых работ. Почему же тогда социализм сохраняет для него свою притягательность? Ответ, как мне кажется, мы находим на той же странице 335: «. для более определенного отделения системы советского типа от социализма как общества справедливости и благополучия всех граждан мы предпочитали не именовать ее государственно-социалистической». Иными словами, социализм для автора выступает синонимом гуманистического идеала. Но общество не может быть справедливым для всех уже в силу того, что представления о справедливости многомерны и различаются в разных социальных группах. Вспоминается Владимир Соловьев, который писал, что государство не должно стремиться построить Царство Божие на земле, ему следует заботиться лишь о том, чтобы жизнь людей не превращалась в ад. Идея о необходимости поддержки тех членов общества, которые хуже других справляются с жизненными трудностями, — великая гуманистическая идея, но она присутствует во всех мировых религиях. Более того, она реализуется в современных развитых демократических государствах. В какой мере правомерно называть ее социалистической? С моей точки зрения, положения книги, которые мы в данном случае обсуждаем, подводят нас к очень важному выводу: категории «социализм»/«капитализм» перестали быть эффективным исследовательским инструментом — в современной исследовательской практике отсутствует класс задач, для решения которых эта дихотомия была бы эффективной.
Работа Шкаратана высвечивает одну из главных методологических проблем социологии — проблему адекватности научного языка. Как писал Мамардашвили, у нас есть только тот язык, который есть, и каждый исследователь должен настраивать его, чтобы сделать исследовательским инструментом. С той настройкой, какую мы встречаем у автора, порой бывает трудно согласиться. Читаем на странице 19: «Каждое общество может быть представлено как состоящее из центра и периферии. Центр образуют институты, которые осуществляют власть (экономическую, административную, политическую, военную, культурную). Периферия слагается из таких сегментов (секторов) общества, которые воспринимают распоряжения и убеждения, вырабатываемые и назначаемые к распространению помимо них». Следует ли использовать лексику властных отношений (распоряжение/ подчинение) для описания социальной топологии? Властное принуждение описывает лишь узкий сегмент этих отношений. Подчинение может быть добровольным, даже, если угодно, желанным. Социальный центр не выдает распоряжения, а рождает поведенческие образцы, которые, спускаясь по каналам трансляции на социальную периферию, становятся нормой, примером для подражания. Источники авторитета могут быть различными для различных реципиентов — в этом смысле в социальном пространстве существуют разные центры (или разные элиты).
Один из разделов книги посвящен социальной мобильности в современном российском обществе. Это важнейшая тема, не случайно Питирим Сорокин сравнивал мобильность с системой кровообращения, закупорка сосудов в которой грозит гибелью всему организму. Шкаратан использует принятый в мировой практике подход, основанный на классификации социальных акторов по профессиональному статусу. Разные авторы проводят разбиение на соответствующие группы по-разному — различается как число групп, так и набор образующих их профессий. Шкаратан подробно разбирает существующие подходы и предлагает свой. Отдавая должное автору, проделавшему огромную работу, нельзя не поделиться некоторыми сомнениями общего характера.
Прежде всего, статус — понятие многомерное. Вебер писал о трех осях, его составляющих: власть, имущество, престиж (авторитет). Безусловно, профессия — важнейшая характеристика, позволяющая определить положение среднестатистического социального актора в обществе, она опосредует и уровень образования, и стартовые позиции, заданные родительской семьей, и текущие доходы, и даже, в некоторой степени, объем властных полномочий. Но в нашем обществе почти половина — не работающие (пенсионеры, домохозяйки, безработные и т. д.). Как определить их статус? Или они совсем лишаются такового? Иными словами, в рамках принятой автором методики исследуется карьерная динамика, но не социальная мобильность как таковая. Более того, если в стабильных обществах престиж той или иной профессии — параметр относительно устойчивый, то как быть в ситуации социальной трансформации, когда появляются новые, отсутствовавшие ранее сферы деятельности, связанные с рынком и собственностью? Простой пример: отец в советское время работал ведущим инженером на крупном оборонном предприятии — это была высокая позиция, подразумевавшая наличие и высшего образования, и соответствующих профессиональных навыков. Сын в постперестроечные времена стал менеджером по продажам в крупной сетевой торговой фирме, скажем, «Ашане». Согласно зарубежным схемам это нисходящая мобильность: класс профессионалов выше класса работающих в сфере обслуживания. А в нашем обществе? Чей статус выше — отца, оставшегося на предприятии, которое не может обеспечить своих сотрудников не только зарплатой, но и работой, или сына, который прекрасно зарабатывает и имеет хорошие карьерные перспективы? Чей статус выше — учительницы, которая продолжает работать за копейки в школе, или ее подруги, которая, бросив школу, стала гувернанткой в обеспеченной семье? Набор социально-профессиональных статусов, который используется в работе (с. 492, 504), не позволяет ответить на этот вопрос. Более того, принятый автором подход маскирует то обстоятельство, что мобильность девяностых и мобильность нулевых различаются кардинально: сменились каналы восходящей мобильности. В девяностые годы лучшие студенты планировали либо попасть на работу в бизнес-структуры, либо начать свое дело, сейчас они стремятся устроиться на госслужбу.
Если, начав обсуждение книги, обнаруживаешь все новые темы для дискуссии, но приходится, дабы не превысить заданного объема рецензии, ставить точку — лучшее, что остается, написать в конце: прочтите, не пожалеете.
