Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
«Оттепель» на сибирском морозе
Устная история ударных строек
— Приехали после обеда, часа три было. Стоял страшный мороз — когда мы вышли из вагона, я сначала ничего не поняла. На мне был лыжный костюм с начесом, курточка, шапка-ушанка, валенки, рукавицы меховые — все это было. Я не поняла — у меня слипались глаза, на глазах намерз иней. Оказывается, при таком морозе вдохнешь воздух — и крылышки носа залипнут. Пока прочихаешься, глаза закрылись. Такое впечатление, что мозги замерзают. Как будто кости нет. Все лицо сводит. Дядька один говорит: «Стой, не шевелясь». Когда так стоишь, вокруг тебя создается такая атмосфера, и вроде можешь глаз открыть. Нам говорят: «Идите в гостиницу. Вот там вам гостиница». Где гостиница?А это две палатки. Зашли — там стоит шум. Две печки. На них огромный чайник. Народу полно. У стены стоят кровати, наложены матрасы, подушки. Говорят, заходите, всем хватит. Идет разговор: куда ехать. Одни говорят, что в Осиновку надо ехать, там в основном работы будут. Другие говорят, что лучше в Коршуниху — там Магнитная гора. Говорили, что надо ехать на створ плотины — там будет основное. Мы сели, поужинали, стали выяснять, куда ехать. Потом пришли и сказали, что все поедем в управление в Падун завтра, а там вас определят — куда. Легли спать в ушанках, валенках, телогрейках. Все друг под дружку. Всю ночь галдеж, мужики курили, чаи гоняли. Пить — не пили. Пили чифир. Я не знаю, сколько пачек чаю на этот чайник сыпали. Горький...
Начало строительства Братской ГЭС совпало со сменой эпох. Это была первая крупная стройка без использования труда заключенных, если говорить о строительстве самой гидроэлектростанции. В отличие от «великих строек» тридцатых годов строительство Братской ГЭС не наделялось функциями «перековки» осужденных и воспитания, которое также понималось как перековка в человека советского. В книге Стивена Коткина о Магнитогорске[1] рассказывается об «ударном строительстве» начала тридцатых, управление которым осуществлялось как «красными директорами» и инженерами, так и НКВД. На стройке были задействованы как добровольцы, так и репрессированные. Архивные материалы позволили историку всмотреться в микрокосм сталинского социализма, проследить превращение человека, выросшего в дореволюционной и «нэповской» России, в активиста и проводника нового образа жизни[2]. Однако природа письменных источников задает и некоторые ограничения. Хотя «позитивная интеграция» рассматривается как процесс системный, внимание неизбежно сосредоточено на том, что предлагается «сверху» и как в предложенные формы активности и правила игры включаются (или не включаются) люди, оказавшиеся в Магнитогорске. В данном исследовании фокус несколько иной — импровизация нового образа жизни, самореализация людей в сообществе, которое складывается на новом месте коллективной жизни. Этот фокус, во-первых, необходим — именно потому, что на строительство приезжали и оставались в городе добровольно. Во-вторых, этот фокус возможен, если опираться на «устную историю». Временная дистанция до пятидесяти лет (в случае первостроителей Братска) и менее (в случаях Усть-Илимска, Дивногорска, Байкальска и БАМа) позволяет собирать биографические интервью[3]. Меня интересовало не овладение способом «говорить по-большевистски» (и думать по-большевистски или по-коммунистически). Такое овладение могло быть циничным или вполне имманентным, но это тот уровень включенности в воспроизводство системы, который был присущ далеко не всем. Меня интересовал выбор людей в пользу жизни в новом городе и его сегодняшнее обоснование теми, кто не только приехал на новое место, но и остался в формирующемся человеческом сообществе, участвовал в его создании и принял как свое, как «магнитную гору», пользуясь метафорической игрой, которую Стивен Коткин вынес в название своей книги.
В базе интервью, взятых в Братске, есть пятидневное биографическое интервью (примерно 12 часов) с Кларой Алексеевной Тимониной (далее Клара Т.). Оно стало опорным для статьи. Биографическое повествование используется не как иллюстрация, а как способ удержать антропологический фокус анализа — это возможно только через детальное видение биографии человека. Объем статьи не позволяет воспроизвести всю линию биографического повествования, но несколько его фрагментов, предшествующих рассказу собственно о Братске, я приведу: они позволяют увидеть «палаточный Братск» из двух точек обзора: как продолжение жизни тех, кто приехал на «великую стройку», и как ошеломляюще новый этап их жизни.
Как почти любой человек ее поколения, Клара начинает рассказ о жизни с сорок первого года:
— Из деревни я. Жила в колхозе. Работала в колхозе. Девятилетней. Война началась — мне шел девятый год. Я была рослая девчонка, «стежАлая», как у нас в деревне говорят. Пошла я учиться. 4 класса закончила, у нас сельская школа. А среднюю школу заканчивать — надо было ходить в Николы Горы, в районный центр.
— Где это?
— Владимирская область. Нужно было идти 7километров. Это был 44 год. Еще шла война. Ходила я одна. В нашей деревне имеется фабричонка — ткацкая. Выпускали петлевые полотенца. Там была такая работа по обработке концов у полотенца. Где нитки висят, нужно было сеточку плести. И вот туда набирали несовершеннолетних ребятишек. Девчонок. До 16 лет. Нормы не устанавливали — сколько сделают, столько сделают. И платили. И получали они паек хлеба — 600 грамм. И получали сколько-то денег. Это было много. Матушки на это клюнули. Хорошо зарабатывают. Никого не пустили семилетку кончать. На фабрике работали. Стали одеваться. И уже с парнями женихаться. К моей маме пришла учительница и говорит: «Кларе надо учиться». У меня память была исключительная. И я пошла в Никологоры. Учиться.
После войны и окончания семилетки Клара все же пошла на фабрику и одновременно «тянула» с мамой домашнее хозяйство:
— Самое голодное время и самые тяжелые годы бъли — 46, 47, 48-е годы. Это что бъло в колхозах! Урожаи были нормальные. Но выгребали все, до зернышка. Все выгребали. Увеличили налоги. Представь себе — жить колхознику. Настолько выживали людей из деревни. Это было такое «выживательство». А они еще живут! А они еще никак не уезжают. У всех были усадьбы 50соток... Взяли и «обрезали» — 25соток. Это очень трудно стало корову держать. А корова — это все. Даже во время войны мама нам вечером — кружку молока. Мы и выжили так. Картошка была... Потом 25 соток, и «они еще живут». Обрезают — 15 соток. А не отпускают из колхоза. Колхозникам паспорта не давали. Нарушение паспортного режима — 6 месяцев принудительных работ. Вот мне надо в больницу сходить — и я должна просить разрешение у председателя колхоза и председателя сельского совета. Это была такая кабала... И вот, в 49-м году, в конце августа, сидим ужинаем. Я говорю: «Мама, я сбегу из колхоза». Думала, она испугается, что без паспорта, что меня в тюрьму посадят. А она говорит: «Беги. Не бойся тюрьмы, там ведь кормят». Вы понимаете? Я на маму удивилась.
Сбежала Клара в электротехникум («Меня все время влекло электричество»), окончила отделение «Электрификация лесозаготовок», но уже во время учебы сомневалась:
— Ну куда я поступила? Я побывала в одном леспромхозе, в Баталино. Это около станции Бологое. Посмотрела там, что это такое, и думала: зачем мне это? Лучше я буду на своей фабрике работать и ткать полотенца. Я увидела там сплошное пьянство, ругань, матерщину. Мне это не понравилось. У нас на фабрике так не матюгались. Была какая-то порядочность. Я написала заявление на педсовет, что я не могу поехать по распределению, потому что у меня ни одежды, ничего нет. Я прошу, чтобы мне дали отпуск академический, чтобы подработать немного и одеться.
Клара опять пошла на фабрику:
— И вот даже на фабрику в электроцех поступила. И не дежурным на щите сидеть, а по ремонту двигателей и аппаратуры всевозможной. С мужиками вместе разбирали эти двигатели. Это меня интересовало.
Защитив диплом как заочница и избежав таким образом распределения («Посылали нас на Таймыр, в зоны, где заключенные лес валили»), Клара завербовалась на Куйбышевскую ГЭС. Оттуда, уже вместе с мужем, в самом конце 1955 года приехала на строительство ГЭС на Ангаре.
Люди палаточного Братска
В классической книге Вайля и Гениса о мире советского человека шестидесятых годов Сибири посвящено всего лишь небольшое эссе. Представить советские шестидесятые без сибирских свершений невозможно, но тема при попытке рассмотреть ее в динамике и в географии становится необъятной, и единственной возможностью остается именно эссе, выстроенное на предельных обобщениях и ярких метафорах. Братская ГЭС послужила авторам ключевой метафорой. Идеал отождествляется с предписанной свыше идеологией, энтузиазм привычно связан с мечтой о коммунизме:
Не Братскую ГЭС строили молодые энтузиасты, а обещанный Лениным и Хрущевым коммунизм. До осуществления мечты оставался один шаг, полшага...[4]
В устных воспоминаниях слово «энтузиазм» практически не встречается, хотя и не оспаривается. Клара Алексеевна нашла формулу: «эйфория была» и довольно часто прибегала к ней в своем повествовании, никоим образом не связывая ни с комсомольскими путевками, ни с идеологией. В ее воспоминаниях слово «комсомольцы» возникло лишь один раз за 12 часов интервью, причем в отрицательной коннотации:
— Строили ЛЭП-220 на Иркутск. Ротфорт набирал людей даже из лагеря нашего из Вихоревки, кому мало оставалось. Проведете линию — получите чистый паспорт. Взял меня как-то с собой. Трактор вез продукты (консервы, колбасы мороженые, мясо мороженое, рыбу мороженую) и водку. Зарплату спускали за три дня. Но он прекрасно знал — эти сделают все что надо, это не комсомольцы.
Эта фраза — также единственная в многодневной беседе, в которой были упомянуты какие-либо заключенные (в данном случае — расконвоированные) в связи с Братском, что достаточно характерно для моих собеседников: о «комсомольском энтузиазме» не вспоминают точно так же, как о заключенных, которых не было на строительстве ГЭС и, естественно, в палаточном городке. Единственное исключение — воспоминание Людмилы З. о том, как в их палатке, где осенью 1955 года жили учителя, одна из молодых учительниц поднимала коллег/соседей для исполнения гимна, когда репродуктор у палатки в 6 часов утра начинал радиотрансляцию. Как долго продолжалась эта практика, я, к сожалению, не переспросил, но вряд ли долго и, конечно, не дожила до морозов. В воспоминаниях Людмилы палаточный быт описывается как постоянная борьба с холодом. В воспоминаниях Клары тоже есть сюжет с репродуктором у палатки:
— Утром в 6 часов он начинал: «Говорит Москва...». Мужики швыряли в него что-нибудь, он замолкал. Потом начинал хрюкать — в него опять что-нибудь швыряли. Днем его налаживали, и наутро он опять: «Говорит Москва...». И так каждый день...
Самоотдачу, которую проявляли участники сибирских строек, они никогда не объясняют воздействием пропаганды или верой в коммунизм. Не используя слово «энтузиазм» или используя его со снижающими оговорками, все собеседники без исключения (заметим, что все они из числа тех, кто остался жить в построенном городе) говорят об особых настроениях и исключительной психологической атмосфере. Воспоминание об атмосфере — это прежде всего воспоминания о людях. Кого в первую очередь вспоминает Клара Тимонина? Соседи по палатке. Люди молодые, но семейные:
— Мы в несколько старых палаток зашли, а там уже знаете как, и прокурено и провонено. В одну палатку зашли, там мужики жили одни, еще жены не приехали. А одна приехала. И приехала с двумя ребятишками, понимаешь, Ленька был грудной, а Сережка был годика четыре. Зюбины. Ну я как увидела, говорю Гене: «Это с детьми приехали? Уж мы-то проживем». И вот еще только одна семья была полностью. Остальные ждали, когда приедут супруги ихние, молодые.
А в первом трудовом коллективе Клары Тимониной на строительстве ГЭС работали уже немолодые люди, для которых палаточный Братск был не первым местом испытаний, но в отличие от прежних — добровольно выбранным:
— Очень многие остались в Братске на строительстве. Почему? Ну вот С. Он сам из Минска. Дом разбит, ничего там нет. В Норильске десять лет отработал, реабилитирован. Ну вот он остался. К. — он еврей, впервые встретила еврея, который работал шофером. Работал на полуторке — всю финскую войну, остался жив. Всю войну был сапером. Остался жив, пройдя сапером всю войну. И получилось почти пять лет, и оказалось, эта служба не засчитывается, и надо еще действительную. Вот как судьба человеком. Восемь лет был в армии. Приехали с Горьковской ГЭС сюда. Потом П. — этот сидел уже у нас, на Вихоревке. Потом был Б. — тот с Западной Украины. Он всех звал «курва». Был Петр Гаврилыч — рентгенолог, всю войну прошел в медсанбате. Вернулся домой, все нормально, встретили — выпили. Он говорит: «Неправильно, что в Германии простые люди все на помойках живут. У них тоже все хорошо устроено. У них не колхозы, но у них тоже кооперативы. Фермер арендует технику, заключает соглашение о покупке продукции». А были все совершенно свои. Ему тоже дали десять лет. Григорий Иосифович. Работал электриком у Павлова — физиолога. Он из немцев Поволжья. Когда началась война, был три дня на покосе. Возвращается — идет техника, не обратил внимания — шли маневры. А ему: «Хэнде хох!». Батрачил, все делал. А когда начали откатываться, он оказывался все дальше и дальше. Как его пытали светом — рефлектором. Ему в камере говорят: подпиши, отсидишь срок в Тайшете и выйдешь, а так живым не оставят после того, что с тобой делали. Ну и решил: подпишу, отсижу в Ташкенте в тепле. А его все везут и везут — в Тайшет. А жена с сыном приехали к нему. Вот такие люди собрались у меня в лаборатории. А Петр Гаврилович — он несгибаемый такой, выжил потому, что дал себе приказ молчать. Молчаливый такой. Собирались по праздникам по бригадам. В те времена понятия «мы не сработались» не было. Не нравится тебе, ну не нравится человек — но ему надо жить.
Среди коллег (как и в целом на стройке) были как люди, выросшие в «таежной глухомани», так и москвичи:
— Дубровины — с самого старого Падуна, они все тут. Он (Николай Дубровин. — М. Р.) был старшим инженером. Руководил нашей группой. Ходил так же, как и мы, — в телогрейке, валенках. Так же везде лазил. Очень добрый, порядочный человек.
— С высшим образованием много было людей?
— Приехали такие энтузиасты. Особенно много их было с МЭИ. Вместе с Марчуком целая группа приехала (выпускники МИСИ. — М. Р.). И в нашем доме жили молодые инженеры. Всю эту наладку вели. Столько рационализаций тут было. Все надо рыть. Все надо резать. Вот на «Беларусь» столько навесят разных навесок для выполнения разных работ. Придумки всякие разные.

С интонацией восхищения вспоминаются инженеры, прошедшие через лагеря:
— Их в любую робу одень — и интеллигент из них все равно вылезает.
Алексей Марчук, упомянутый Кларой Алексеевной как лидер молодых столичных инженеров, сам в статье начала 1990-х годов вспоминает прежде других именно инженеров «старой закалки», и с той же интонацией восхищения:
— Бывшие заключенные из тайшетского «Озерлага» и других окрестных лагерей — специалисты высочайшей квалификации, интеллигенты, сохранившие достоинство, и интеллект, и культуру[5].
Но в палаточном Братске и на стройке преобладали (особенно на рабочих специальностях) не те, кто прошел войну и лагеря, а те, кто во время войны был ребенком или подростком. Многие ехали сразу после демобилизации из армии, кто-то — из сибирских деревень, кто-то — с других строек, проходивших не в таких экстремальных условиях, у кого-то были уже непростые жизненные истории. У всех были, безусловно, сложные характеры и способность к самостоятельным решениям — во всяком случае у тех, кто не только приехал на строительство, но и остался в Братске.
Таких, например, как Клара и ее муж Геннадий. Клара не вспоминает каких-либо веских причин, которые побудили их с молодым мужем уезжать в Сибирь. Познакомились и поженились они, как уже упоминалось, на Куйбышевской ГЭС:
— Геннадий был механиком на шлюзах, а я — техником-электриком. Шел период наладки. Были заключенные. Мы вместе с ними работали. Но заключенные были политические, с очень огромными сроками. Работали они там в основном по такому режиму. Если они работали без замечаний и выполняли норму, то им шел день за три. Это у того, у кого оставались небольшие сроки. И если от меня или наладчиков поступили бы какие-то замечания, то их бы сразу убрали. Поэтому они вели себя очень корректно. Я была у всех «сестренкой». Все они сидят ни за что. Только скажу, что хочу пить, мигом принесут пиво. Там только одно пиво было в ларьке. Завербовались сюда. Вот все говорят, что нужда была. Но и романтика была. Ничего нас не заставляло туда поехать, сюда поехать. Там строились два дома. На нижних шлюзах. Эти дома служебные, и нам там давали квартиру. Небольшую, двухкомнатную. Комнатки небольшие. Тоже дровами отапливаемая. Тогда еще не было канализации. Выгребной туалет. Мы ждали, ждали. Мы поженились 6 сентября. Несколько раз этот дом принимала комиссия. Все какие-то недоделки. Мы завербовались с ним в конце ноября. 30 декабря 55 года прибыли сюда.
Очевидно, что молодожены поехали в Сибирь не потому, что у них не устраивалась жизнь в Куйбышеве. Все версии можно строить на свидетельствах о характерах Клары и ее мужа Геннадия. Приведем одно из них:
— Когда мы ехали, несколько часов мы стояли в Тайшете. Поскольку был 55 год, шла реабилитация заключенных. И вот там, на вокзале в Тайшете, в этот мороз лежало столько скрюченных искалеченных людей, ревматичных. Они не могли ходить, под ними лужи, они примерзли. Меня мой еле удержал. Я бы натворила дел. Я не могла этого... я рвалась к дежурному. Мой только держал меня. Он говорил: «Ты пойми, ты сама угодишь туда». Я могла наговорить не знаю чего. Но в конце концов: «Все, все будет... за ними приедут и скоро их куда-то увезут... на носилках унесут». Понимаешь, меня, как дуру, облапошили, конечно. Уехали мы. Но эта картина у меня стояла долго перед глазами. Я впервые увидела эту бесчеловечность. Кошмар какой. Не приведи бог.
Алексей Марчук в своей статье также противопоставляет миру сибирской стройки старый мир «страны-зоны». Картинкой-символом ему служит та самая Куйбышевская ГЭС, с которой уехали Клара с Геннадием:
— Только что в 1955 году мы проходили преддипломную практику на Куйбышевской ГЭС рядом с мрачными зонами и угрюмыми колоннами заключенных. По ночам мы дежурили в общежитии, охраняя своих девчат. А в 1956 году в Братске, пронизанном солнцем, был свободный таежный простор, ни одного заключенного, никакой колючей проволоки[6]
Далее Алексей Марчук говорит, что через Братск проходила граница невольничества и энтузиазма:
— Это была оттепель пожарче писательской, они питали и вдохновляли друг друга[7].
Переброской рабочей силы и специалистов на ударные стройки режим решал экономические задачи по освоению территорий и ресурсов. Но намеренно или по логике вещей решались и задачи социально-политические: таким пострепрессивным способом «сбрасывался» наиболее мобильный социальный элемент, который представлял собой (понимали это функционеры режима или нет) действительную опасность и каждодневные неудобства как для бюрократии, так и для всей идеологической системы. Трудно такой «сброс» расценить как сознательную стратегию — слишком велики риски, связанные с концентрацией социально активных людей без жесткого надзора. И даже если эти риски, как и задачи профилактики социального недовольства, рассматривались, то, вне сомнения, были на втором плане по сравнению с решаемыми экономическими задачами.
Управленцы — в том числе и вполне добросовестные — обращались к энтузиазму подчиненных как к средству, позволяющему компенсировать пороки хозяйственной организации. Леонид Шинкарев цитирует начальника одного из участков строительства Иркутской ГЭС, который именно на этой стройке — не первой в его жизни — понял, что «успех обеспечивают не только техника и средства, а в основном энтузиазм людей»[8]. Подобный, характерный для 1930—60-х годов стиль советского управления опирался на аскетизм и стоицизм как культурную норму человека, понимающего приоритет не просто общего перед частным, а исторических задач перед индивидуальными[9]. Эта культурная норма могла объединять командиров производства и «рядовых бойцов». Она же могла быть и предметом управленческой манипуляции. Различия между первой и второй далеко не всегда были очевидными.
«Народ был самозабвенный». Эйфория против аномии
Один из плакатных символов конца 50-х — начала 60-х — Ленин, излагающий план ГОЭЛРО, и карта с этим планом. Плакат соединял два основных идейно-политических смысла эпохи — возвращение к Ленину и устремленность в будущее — с научно-техническим прогрессом как основным экономическим смыслом. Картина Шматько, изображающая вождя революции в момент доклада о планах электрификации страны перед восторженно-недоверчивыми депутатами из народных масс, написана в 1951 году. Она сменила картину Налбандяна, изображавшую, как Ленин и Сталин работают над планом ГОЭЛРО. С мудрости вождей акцент был перенесен на дерзновенность большевиков и решимость лучших представителей народа браться за задачи, масштаб которых пока не умещается в голове. Репродукция обычно сопровождалась апокрифом о том, как во время доклада декабрьским вечером 1920 года электричество в советской столице было отключено, чтобы в момент демонстрации плана достало энергии на карту, где каждая будущая станция была обозначена сияющей лампой. На полотне никаких лампочек не видно, но они были на плакатах, соединявших картину Шматько с картой Советского Союза. Лампочки на карте плаката прямо адресовали к новым великим стройкам, но если на картине Шматько восточная часть карты была проигнорирована, то на плакатах огни сместились на восток. Великие стройки в постгулаговскую эпоху выглядели на фоне страны как горящие лампочки плана ГОЭЛРО. Они обозначали места, где происходил прорыв в будущее — «фронтир» модернизации и оазисы настоящей кипучей жизни, где все не так, как везде.
Образ мотыльков, слетающихся на огни большой стройки и молодого города, — один из излюбленных образов «писателей-деревенщиков»:
— Люди вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут рядом и — мимо. Как-то неудобно даже... будто прячусь. Потом, может, всю жизнь буду жалеть. Сильно, значит, нужна эта ГЭС... пишут о ней столько. Такое внимание... Чем я хуже других?
— Закончат — снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием? Привыкнете ведь на виду, избалуетесь, одного солнца мало покажется. Ты-то, как думаешь, надолго туда, под внимание?
— Там видно будет[10].
Совсем далекий от тяги к патриархальности Григорий Свирский в рассказе «Братская ГЭС»[11] также готов увидеть обманутых ярким светом мотыльков если не во всех приехавших в Братск, то по крайней мере в тех, кто ехал в поисках новой чистой жизни. Григорий Свирский описывает повседневную работу и быт строителей совсем в других красках, нежели мои собеседники, жившие и работавшие в Братске, он беспощадно отражает то, что в социологии называется аномией — распадом социальности. Герои, которым автор симпатизирует, вполне похожи на тех, о ком охотно рассказывают мои респонденты. Но только пребывают они совсем в другой социальной атмосфере, которую один из персонажей рассказа сравнил с тюремной пересылкой. Во время своей журналистской командировки автор (повествование идет от первого лица и по жанру близко к очерку) постоянно видит драки, пьянство, равнодушие и привыкание к человеческому горю, регулярно слышит о смертях и увечьях на строительстве, убийствах и самоубийствах. Персонажи рассказа Свирского — люди, попавшие в ловушку, как главный герой — парень, уехавший из мира несправедливости, где судьбы решают беспринципные маленькие и большие начальники, а лучшие человеческие качества проявляют заключенные либо люди с жизненным опытом, которые давно поняли, что везде одно и то же, но по биографическим причинам предпочитают оставаться здесь. Выпукло созданы и образы начальников — беспринципных и равнодушных к судьбам приехавших и вообще ко всему, кроме благ — материальных и карьерных.
Рассказ-очерк Григория Свирского явно основан на личных впечатлениях (по ряду признаков — это примерно 1960/61 год) и резко негативно рисует повседневность «великой стройки» — в отличие не только от произведений подцензурных, но и собранных мной воспоминаний. Социальный мир, который увидел в Братске писатель, и социальные миры моих респондентов (подчеркиваю — все они остались на строительстве и в городе в отличие от героев рассказа) радикально противоположны. Я задавал прямые вопросы о достоверности впечатлений Г. Свирского и получал отрицательные ответы. Василий В., работавший шофером на строительстве плотины, на прямой вопрос о драках и/или пьянках рассказал, что обычно после вечерней смены возвращался к себе в окраинный поселок пешком без всякой опаски и без единого инцидента за несколько лет.
— А вы здесь в Гидростроителе жили? Здесь вообще было шумно, опасно, нет? То есть в этом месте. Тут были какие-то драки, пьянки, нет?
— Здесь нет. Тогда же не пили так. Ни молодежь, ни... Ну, меньше употребляли алкоголь. Здесь спокойно. Идешь в два часа ночи, три часа ночи. Если во вторую смену работаешь, до двенадцати, в два часа уже идешь домой. Ночью идешь напрямую, раньше ведь не было ни автобусов, никак...
Через некоторое время собеседник вернулся к теме:
— Разный народ очень, молодежи очень много приезжало, солдаты приезжали, общежития здесь были хорошие, ну, нормально. Но таких, чтобы там драки были или ружьями, этого не было. Не было, чтобы убийство, даже не было никаких и разговоров. Уезжали, конечно. Многие уезжали, многие приезжали, текучесть такая была.
В случае Ангарска, «города, рожденного Победой», то есть непосредственно после войны, при активном использовании труда заключенных и сохранении этого обстоятельства в городской идентичности[12], сюжеты драк, хулиганства, агрессии воспроизводятся в устной истории наряду с рассказами об уникальной человеческой атмосфере. Они спокойно признаются и даже находят отклик в городской мифологии в более позднем по происхождению Усть-Илимске. В случае Братска они вытеснены настолько, что невозможно реконструировать по воспоминаниям (как письменным, так и устным), были они исключением или все-таки повседневностью в первые годы строительства.
Можно предположить причины такого вытеснения. Во-первых, это значимость декларации об отсутствии заключенных («Мы — первые, мы справимся и без лагерей!») для исторического смысла стройки и (следовательно) для коллективной идентичности самих строителей. А во-вторых, это принципиальная важность признаков обновления жизни для людей именно 50-х годов. География стала своеобразным ресурсом этого поколения, и выбор собравшихся на строительстве Братской ГЭС, также как и для их столичных ровесников, обозначенных позднее как «шестидесятники», был в пользу идеалов и ценностей, которым не соответствовала советская реальность. Но в отличие от «детей XX съезда» — и в 1956 году, и позднее — строители Братской ГЭС были объединены не обсуждением/осуждением масштаба репрессий и курса партии (или в героических случаях — борьбой за права человека), а практикой устройства социальной жизни, отличной от той, из которой они уезжали, практикой, которая стала возможной «здесь и теперь». Эта новая жизнь и была для них событием, гораздо более заметным, чем «секретный доклад» или «бытовое пьянство».
Рождению нового мира всегда сопутствуют эйфория и аномия. Признаки того и другого мы можем обнаружить в свидетельствах и о молодом Братске, и о молодом Усть-Илимске, и о поселках БАМа. Не наша задача (если это вообще возможно) определить сегодня существовавший тогда баланс, нам важно, что осталось, а что вытеснено из памяти (или не отложилось в памяти) тех, кто не уехал со стройки.
Проблематизация, которая возникает в результате противопоставления, может быть сформулирована следующим образом: эйфория коллективизма была не единственным социальным миром, характерным для великих строек постгулаговского периода, но именно этот социальный мир стал базисным для идентичности возникших в результате этих строек молодых городов и основой их исторического предания. Очевидно, так значительна роль, которую эта «эйфория коллективизма» сыграла в личностном развитии тех, кто на стройке и в новом городе «нашел себя».
Отвергается и то обвинение «великой стройки» в беспощадности к сибирской деревне, а вместе с ней к нравственным устоям, которое мощно прозвучало в повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Защищая (в первую очередь от писателей и «перестроечных» журналистов) гидроэнергетику, Алексей Марчук в своей статье использует в качестве ударного аргумента, завершающего страстный текст, судьбу реальной деревни Матера, которая «могла бы остаться на своем исконном месте с приспособленной под школу избой. Но люди не захотели жить на обочине цивилизации», и избы по просьбе жителей были перенесены в поселок с городскими условиями жизни[13].
Местный уроженец, один из ведущих инженеров Братскгэсстроя Николай Дубровин, постоянно в интервью обращался к своему деревенскому происхождению, опыту и народной мудрости, воплощенной в его бабушке. Он тоже оспаривает писателя:
— Когда все нормально, культурно все обходилось. Приезд строителей и все прочее. ...Люди у нас, коренные жители — народ высококультурный, трудолюбивый и уважающий законы. Вот, скажем, бабушка Агафья меня воспитывала, говорила: «Ты не носи камень на сердце, что дедушку арестовали, уничтожили и все прочее. Ну, было такое время, такие люди. А вот ты учился. Из деревни маленькой — Падуна — ты в Москву приехал учиться. Это такое счастье. Поэтому ты не думай, не носи камень на сердце». Она умела, понимала все это дело. И, во-вторых, коренным образом изменилась жизнь. <...> И когда стройка началась, все поняли, видели, пришли трактор, самосвал, бурилка, электропилы, краны и все прочее. Я бабушку Агафью 40раз вспоминал. Она посмотрела на все это и говорит: «Сейчас так работают, как мы раньше отдыхали». Жизнь коренным образом изменилась.
Спор с «деревенщиками» ведется с позиций модернизации жизни (современности) как безусловной ценности. С этой оптикой также связана «эйфория», пережитая в пятидесятых: гигантский проект и мир «палаточного Братска» были для участников прорывом к современности.
Словом эйфория Клара Алексеевна осознанно или невольно подчеркивает подобную избирательность тогдашних впечатлений[14]. Некоторые из вспоминающих не только выражают ностальгию по этому поводу — в их повествовании без каких-либо специальных вопросов с моей стороны возникает и рефлексия по поводу эйфории. Они пытаются объяснить себе и мне, почему эйфория возникала, но никогда и никто не рассматривает ее в негативных коннотациях. Даже в подобной рефлексии эйфория коллективизма, пережитая когда-то, расценивается как большая личная жизненная удача тех, кто приехал на стройку и остался на ней.
На протяжении многочасового интервью Клара всякий раз сокращала штамп «величайшая в мире» до иронического «чайшая...», как бы передразнивая пропаганду того времени и дистанцируясь от своих бывших иллюзий. Братская ГЭС не перестала быть одной из крупнейших в мире, но под сомнения попали смыслы такого гигантизма и его последствия. Однако ни в коей мере не подвергается сомнению исключительность социального мира, возникшего на гигантской стройке:
— Люди были тут более непокорные, более свободные, чем на Волге?
— Люди тут были более самозабвенные. Тут был такой дух — он шел от людей — что надо ГЭС построить, что мы будем жить лучше, что нам дадут квартиру. Столько было открыто учкомбинатов — люди получали специальности.
В этом коротком ответе перечислено по сути все, что называли другие мои собеседники и что называла до этого Клара Алексеевна — историческая задача, работа, жилье, учеба[15]. Но акцент падает на слово «дух» — метафору общественной атмосферы, настроений, самоотверженности.
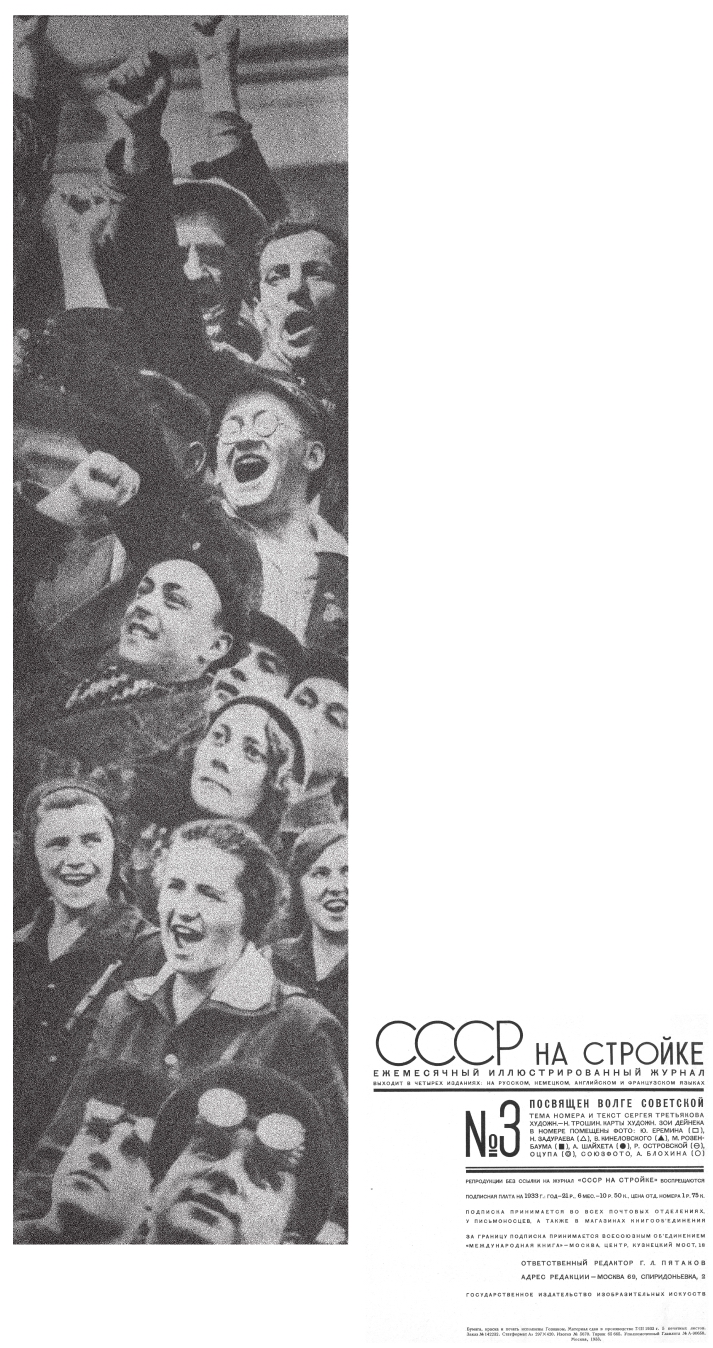
Каждый, кто приезжал, ожидал от стройки нового стиля человеческих отношений, а от себя — способности к преодолению экстремальных условий жизни. И действительно, для каждого приехавшего в Братск стройка была не просто сменой места и условий жизни, а возможностью самореализации и самоутверждения. Это изменение — собственно первое и необходимое условие того, чтобы возникло ощущение большой жизненной удачи, причем не выпавшей в лотерею, а ставшей результатом твоего решения.
Пространственная (физическая) и социальная мобильность была настолько интенсивной и настолько характерной для большинства населения, что понятие «маргинальность» может быть принято как одно из ключевых для понимания процессов социализации человека в условиях советской модернизации. Здесь понятие «маргинальность» используется в варианте, восходящем к Роберту Парку, то есть акцент сделан не на факте исключенности из социальной группы, а на нахождении между мирами, культурами, социальными порядками[16]. «Нахождение между мирами» стало типичной ситуацией[17], а понятие «маргинальность» — инструментальным для исследования акторов социальных изменений[18].
«Ударные стройки» притягивали исключенных и тем, что давали возможность войти в некую исключительную группу, уникальный социальный порядок. Динамика формирования коллективной идентичности — осознание этой исключительности, утверждение права на нее. Эта коллективная идентичность была и импровизацией, неспланированным результатом солидарного взаимодействия людей в неповторимых обстоятельствах жизни и работы, и в то же время — производной от личных ожиданий.
В контексте сбывшихся личностных ожиданий можно рассматривать трудовой энтузиазм, свидетельства которого прочитываются в интервью — «народ здесь бьл самозабвенный», «ханжество — не ханжество, но стыдно бьло о деньгах спросить» (Клара Т.). В двух интервью (Николай Д. и Клара Т.) есть рассказ об одном и том же эпизоде, свидетелями которого были респонденты: студент, проходивший производственную практику, отказался выполнять поручение, требовавшее работы на одном из участков электросети, находившемся под напряжением. С точки зрения техники безопасности он был формально прав, но его дружно осудили взрослые члены коллектива: это противоречило нормам трудовой этики, господствовавшим на стройке — интересы дела не только для руководителей, но и для рядовых работников предполагали работу на грани обдуманного риска. Случай запомнился и приводится в качестве примера благодаря тому, что практикант был сыном одного из руководителей строительства, и мы к этому апокрифу еще вернемся. Пока лишь обратим внимание на то, что безусловным императивом для оценки человека служила его самоотдача в работе.
Психологическая атмосфера, преобладавшая на рабочих участках, описывается в духе фразы из интервью Людмилы З.: «Работали с какой-то легкостью», передающей удивление из сегодняшнего дня тем отношением людей к работе, которое запомнилось. Во всех интервью, когда заходит речь о повседневном труде, возникает представление о напряжении и авральном характере работы.
Очевидно, что трудовой энтузиазм — лишь одна из составляющих эйфории и что это энтузиазм труда коллективного, то есть скорее следствие общей психологической атмосферы, нежели воодушевление собственно трудом. Эйфория, если и связана с трудовым энтузиазмом, то не сводится к нему. В сегодняшних воспоминаниях он не является главной темой. Когда речь идет о трудных условиях работы и быта, то подчеркиваются именно экстремальный (говоря современным языком) характер этих условий и способность к напряжению сил, умение освоить новые условия жизни.
— Все было неустроенно, страшно неустроенно. Ну и что?Палатки не смущали, не боялись. Наводнение в декабре. Ночью. Мы из палаток перебрались в недостроенный дом.
Людмила З.[19].
— Вот говорит сейчас молодежь, трудно там ребенка вырастить. Да, трудно. Представь себе, а вот мы как. Месяц до родов, месяц после родов, и куда хочешь девай такое дите. Ни бабушек, никого. И все так подгадывали. Вот я решила заиметь ребенка, я три года не хожу в отпуск, то есть у меня копится отпуск, то есть я этот месяц израсходую, да еще три месяца. Но я три года не была в отпуске. А выходной-то всего был воскресенье. А ведь с ребеночком-то надо и сходить, и все сделать. А любые опоздания, все это сказывалось на безаварийке, то есть на премиальных. Да еще там скажут, раз, раз, если это без причины, если там без чего-то там. А ребята болеют. И как это получается. Разговор о том, что про себя-то и разговора нету, а ребенок все равно. Как получалось. Три дня оплата больничного, а больничный до семи дней. А остальные-то дни, пожалуйста, по справочке. Гуляй, подруга. Все это так было. И знаете, до того был народ веселый. Могли смеяться, могли петь, мы и в походы ходили, мы уставали.
Клара Т.
В рассказах не просто описывается атмосфера коллективной жизни, но все время акцентируется ее исключительность. Метафора «дух» и возникает как экспрессивная форма такого подчеркивания, рассказы о лишениях и трудностях как бы пристраиваются к приподнятой интонации повествования — лишения были общими, трудности вместе преодолевались.
— Оказывается, есть такое насекомое, как клопы. Кто-то привез. Казалось бы, как им в палатке-то выдержать! Но, видать, в этом деревянном чемодане где-то какой-то скотина завезен был. И столько расплодилось их, ужас. От них как сбежишь. Но я... надо сказать, прям про этот народ, это какой народ приехал деятельный. Как раз напротив зеленого городка, зеленых палаток, через дорогу стояла гора. И вот ее назвали Шанхай. Люди врезались в эту гору, делали землянки и по всей горе только огоньки горят. А землянка она теплее. Топили, печки ставили, все. У них делается там крыша, да тут передняя стена тоже такая деревянная. А так в основном получается она как бы в земле. Не промерзает так, там было тепло у них. И притом, даже на этой горе, на такой не покатой, а почти крутой, все начали развивать огороды, все. И животные, и куры, и свиньи появились, все. А как свиньям не появиться? Как свиньям не появиться-то? Вдруг, значит, этот, который называется Хрущев, объявляет, что хлеб ниче не стоит. Его, значит, навалом стоит на столах. Им кидаются, взял, не взял. Свиней кормят.
Клара Т.
Два мотива постоянно звучат в каждом интервью о первых годах Братска. Во-первых, атмосфера веселья («ржачка все время стояла»), которая запомнилась настолько ярко, что можно предположить значимость ее как функции психологической разрядки, как личного освобождения[20]. А во-вторых, простота и нецеремонность отношений, но не грубость и бесцеремонность («народ здесь бьл демократичный», «не помню ни одного конфликта») — обязательно отмечается равенство ситуаций каждого, кто приехал в Братск, сквозит уважение к мотивам и причинам приезда, к умениям и качествам друг друга. Приезжавшие на большую стройку или позднее в молодой город искали новых человеческих отношений — и ожидания оправдывались. Человек обретал идентичность через формирование коллектива и свое участие в этом процессе. Человек сознательно участвовал в создании социальности.
«Как одна семья». Солидарность маргиналов
В воспоминаниях царит ностальгия по некоему общинному духу.
— Я не знаю, почему-то считают, что в те времена мы как будто за железной колючей проволокой были. Совсем даже нет. Здесь как одна семья была, я считаю. Мы жили в палатках все, большинство по крайней мере. Домов-то было штук 10. А палаточный городок — это как одна семья. Потому что они, палатки, не закрывались. Закрывай, не закрывай, вор сможет разрезать эту палатку, забраться и взять, что хочет. Поэтому, правда, как одна семья была.
Людмила З.
Только отчасти эту ностальгию можно объяснить неудовлетворенностью сегодняшней стилистикой и качеством человеческих отношений. Противопоставление сегодняшней и прежней социальной атмосферы, если и возникало, то ни разу не касалось микросреды, коллектива — только общей социальной ситуации. Чаще подчеркивают контраст между атмосферой стройки и тем, что человек видел и пережил «до». Либо, как в этих детских воспоминаниях о первых годах Усть-Илимска, контраст со стилистикой социальных правил, обычных для остального мира:
— Мы два года в деревянном бараке прожили и потом переехали на «50 лет ВЛКСМ» — самые первые дома были. Я помню праздники там: Новый год, Седьмое ноября. То есть гуляли всем подъездом, все друг друга знали... все жили одними интересами и соответственно... Все были одного возраста, все стремились изменить, может быть, на самом деле что-то в своей жизни. Знаю, что у нас на третьем этаже Соколовы жили, всегда пацаны собирались вместе со всего подъезда у них там... Новый год всегда и наготовят, нажарят, потом разбредаемся, родители в постель заткнут. В новогодний праздник всегда же ходят туда-сюда... на всех площадках двери открыли и все друг к другу заходят... Вот какое-то такое было... наверное, было что-то в этом.
Виктор Г., родился в 1962 г. в Братске, с 1965 г. семья жила в Усть-Илимске.
Мераб Мамардашвили в статье, написанной в позднесоветское время, определял «современную культурную ситуацию в стране» как положение «прислоняющихся неумех»[21]. Анализ интервью, взятых в Братске, заставил вспомнить об этой статье. В ней социально-философскому исследованию был подвергнут человеческий мир, сопротивляющийся модернизации, отказывающийся конструировать социальность на каких-либо основаниях, кроме привычных. И при этом язык, с помощью которого Мамардашвили описывает доминирующую советскую социальность, дает средства для описания человеческого мира первостроителей Братска, в чем-то концентрирующего черты доминирующего советского, а в чем-то резко отличного от него.
Все мы живем, прислоняясь к теплой, непосредственно нам доступной человеческой связи, взаимному пониманию, чаще всего неформальному. Закон же предстает перед нами как нечто предельно формальное и лишенное необходимого оттенка человечности...
Мы погружены в непосредственную человечность и часто не способны разорвать связь понимания. Мы как бы компенсируем взаимным пониманием и человеческим обогревом неразвитость нашей социальной гражданской жизни.[22]
В существовании «взаимного человеческого обогрева» люди находят ресурс не развития, показывает Мамардашвили, а самосохранения, возможность уклониться от осознания ситуации, от предназначения, призвания. Боясь усложнения общества и собственных социальных действий, люди презирают то, что выходит за рамки непосредственного человеческого тепла, как формальное и лишенное «знака человечности». Философ отмечает за этим презрением «давнюю мирскую традицию, или традицию мира, общины»[23]. Именно это презрение к формальному и тяга к «непосредственному», по убеждению Мамардашвили, блокирует рациональное выстраивание социальной жизни, перспективы сознательной социальности. В статье не употребляется понятие гражданского общества, но речь идет именно об идеале автономной личности, осознанно участвующей в социальном процессе.
Социальная история советских 30—50-х годов заставляет видеть, что кроме «традиции мира и общины» тяга к непосредственно человеческому как к экзистенциальной опоре объяснялась также еще и дефицитом непосредственных человеческих связей. Социальное управление строилось именно на разрушении этих связей — семейных, соседских, служебных и стремлении оставить человека один на один с властью. Общинные устремления были не просто реликтовыми, а воспроизводились заново как реакция на тотальность власти, не оставлявшей права на неподконтрольные и несанкционированные отношения.

Тип отношений, который реконструируется в воспоминаниях участников строителей Братской ГЭС, не описывается метафорой «прислоняющиеся неумехи», хотя многие характеристики в полной мере совпадают. Схожесть мира, реконструируемого на основе интервью с первостроителями Братска, и модели, описанной Мерабом Мамардашвили на основе кинореконструкции провинциального городка (он анализирует фильм Абдрашитова и Миндадзе «Остановился поезд»), в том, что и там и там мы видим воспроизводство общинной жизни как идеала. Общинный дух, тяга к непосредственному теплу человеческих связей — все это достаточно очевидно в рассказах о Братске, и здесь явно находила удовлетворение потребность в общинности. Отсюда и метафорический ряд «как одна семья», «люди свои». Но ответственность и профессионализм на строительстве Братской ГЭС были не менее значимыми ценностями для оставшихся на стройке, чем взаимное понимание, и слово «неумехи» неуместно. Диагноз «неразвитость социальных умений» в случае Братска также либо неприменим, либо требует принципиального пояснения. Мы можем принять некие высокие критерии для социальных умений и оценивать социальные практики «первостроителей» Братска как недостаточные или неразвитые, но они здесь нарабатывались, осваивались, были предметом гордости и культурным капиталом.
Идеал общинности, тяга к ней играет значимую, конституирующую роль в этом создании социальности, но общинность не копируется — это процесс не столько воспроизводства каких-то образцов, сколько импровизация в соответствии с идеалами поколения и социальными ожиданиями маргинального человека. Социальность создается заново. В этом творчестве есть импровизация равенства (явный индикатор — антисословность), и есть солидарность, которую можно назвать солидарностью маргиналов. Автономия, самоценность личности согласуются с социальным признанием, с определенностью положения и с об-щинностью. Во взаимоподдержке и сплоченности важную роль играет принятие друг друга со всеми сложными биографиями, социальной и образовательной разностью. Вячеслав Шугаев в очерке цитирует бывшего москвича, обосновавшегося в Усть-Илиме[24]:
Люди здесь основательно, что ли, друг к другу относятся. Неторопливо[25].
Через формирование коллектива, через солидарность происходит обретение человеком идентичности, не отменяющей прежней, но не менее значимой, не требующей отказа от прошлого, но обеспечивающей участие в настоящем.
— Человека определяли хороший человек, или злой, или нечестный. Только так. А кто он там — татарин, или русский, или еврей — никакой даже мысли не было. Никто и не спрашивал, кто ты и откуда. Работали.
Николай Д.
Эта краткая фраза многозначна. В интервью она прозвучала в заключение — это одна из тех фраз, которые собеседник добавляет к своим ответам, чтобы выделить смыслы сказанного ранее или добавить что-то очень существенное к сказанному. Вопрос о национальности в интервью не задавался. И фраза свидетельствует о том, что, во-первых, национальность все же отмечалась, во-вторых, не была, по мнению респондента, посылкой для социального признания или отторжения и, в-третьих, что сам факт изменения функций этничности воспринимался как признак если не исключительности, то особости «коллектива стройки».
На материале Усть-Илимска реконструируется аналогичная картина — уже в других социальных условиях, при других критериях. Национальная принадлежность человека не акцентируется окружающими, не служит для самого человека инстанцией, придающей значение, — иерархии национальностей нет. Но непременно отмечается как индивидуальная характеристика. Богатство и индивидуальность памяти активно участвовали в складывании межчеловеческих отношений, были символическим капиталом, не менее значимым, чем тот, который связан с производственной или стратовой иерархией. Прошлое каждого человека, даже если оно не артикулировалось, активно прочитывалось окружающими[26].
Это отношения солидарности. Солидарность предполагает равенство не как абстрактную цель, а как условие общения людей. Солидарность — сопротивление идеократии, поскольку основана на принятии человека таким как он есть, независимо от анкетных данных. Если идеократия осуществляет селекцию памяти, заставляя стыдиться, утаивать, мимикрировать, то в сообществе, основанном на солидарности, память принимается как то, что неделимо, неотъемлемо от человека и всегда индивидуально.
Здесь у каждого своя какая-то история.
Виктор Г. (Усть-Илимск, 1962 г. р.).
Солидарность никем не предписана и не является результатом протеста или сопротивления. Нормы солидарности вырабатываются, транслируются вновь прибывшим, отличают сообщество «первостроителей» от того аморфного «большого» общества, в котором жили те, кто приехал.
Примером выработки норм может служить такая повседневная бытовая практика, как отсутствие замков. О том, что на стройках коммунизма не замыкались чемоданы и тумбочки, а затем дома и квартиры, мы знаем из газетных очерков, кинофильмов и поэм.
— Давней осенью в одном из железногорских домов я увидел прикрепленную к двери квартиры записку: «Ребята! Или кто придет! Ключ в почтовом ящике, чай, сахар, масло в тумбочке. Пейте чай. Будьте как дома. Л. И.». После знакомства с хозяйкой выразил удивление по поводу рискованной, на мой взгляд, практики открытых дверей: народ на стройке разный.
—Два раза уносили кое-что. Но я не придаю значения. Большинство же — замечательные ребята. А некоторые приедут и деваться не знают куда. Пусть у меня немного поживут, а там, глядишь, и устроится жизнь[27].
Ни один мой собеседник в интервью не упоминает об этой практике, но в ответ на специальный уточняющий вопрос подтверждают как само собой разумеющееся. Иногда в рассказе о палаточном периоде упоминают, что деньги могли просто лежать на виду или в самых неожиданных местах:
— Что характерно, покупать было нечего. У всех под кроватью стояли то ли чемодан, то ли балетка, набитая деньгами. И все уходили из палатки — у нас Зюбина была с ребятишками, а в остальных никого — и никто не воровал.
Клара Т.
Другой пример — взаимный обмен умениями в обустройстве быта. Вот первые недели после заселения первых жилых домов:
— Потом начались поделки: трубы гнут — делают кровати. Пружинные матрасы. Этажерки делают. Табуретки делают. Все друг другу заказывали: «Гена, сделай мне приемник — что-то не работает».
Клара Т.
Бывшая учительница вспоминает:
— Школа и промышленные предприятия, мы были всегда как-то дружно. Наши ребятишки договаривались просто — познакомились мы с парнем, который был токарем. Он говорит: «Ребята, чем вам помочь? Давайте, я ваших ребят буду обучать токарному делу». Никаких проблем, да? Он их приглашал. Они в нерабочее время шли. Он их обучал. 5, 7-й класс, я помню, были. Разрешало начальство. Никаких препонов не создавали. Было очень свободно, спокойно.
— Работа была очень тяжелая. Все это было помимо рабочего дня?
— Да. Все равно они находили время, чтобы ребята были чем-то заняты. Он сам договорился с начальством, что к нему будут приходить мальчишки и он будет обучать их токарному делу. Пожалуйста. Не было таких трудностей, как потом — попробуй договорись. А они к нему всю зиму бегали.
Людмила З.
Солидарность — взаимоподдержка в преодолении экстремальных условий и в повседневном быте, сплоченность в выполнении социальных обязательств (в т. ч. и трудовых, понимаемых как социальные) и в создании условий совместной жизни.
Важнейшая характеристика солидарных отношений — антисословность. С этой точки зрения показателен эпизод воспоминаний, который уже был приведен в статье, — осуждение старшими коллегами практиканта, не пожелавшего пойти на нарушение техники безопасности, обыденное для них (и производственно необходимое). В данном апокрифе можно прочитать и антисословные мотивы. Их не стоит преувеличивать — главный инженер, сын которого был пристыжен, пользовался безусловным авторитетом, и одна из обязательных его характеристик в воспоминаниях — демократизм. Но, вероятно, если бы речь не шла о сыне руководителя, эпизод не запомнился бы столь прочно. Так или иначе, практикант был «поставлен на место», было подчеркнуто единство требований. Сословные различия проблематизировались не потому, что как-либо демонстрировались, а потому, что эта тема была существенной за пределами «ударной стройки». Скорее можно принять версию демонстративного нежелания считаться с сословностью и подчеркивания таким образом исключительности социального мира Братска.
На фотографиях, где запечатлены трудовые коллективы, — никаких признаков иерархии. Руководители среднего звена ходили в такой же одежде, что и рабочие, — рваных телогрейках, подшитых валенках. Естественно, что сословные перегородки не устанавливались и за пределами производства:
— У ребят не было деления — кто чьи дети?
— Нет. У нас были и дети больших начальников. Я имею в виду нашу школу.
Людмила З.
Свидетельства столкновения строителей с начальниками, разумеется, есть в воспоминаниях. Как и свидетельства о сословных привилегиях (в основном относящиеся к более позднему периоду), но нас интересует факт вытеснения подобных сюжетов на периферию воспоминаний как нехарактерных. Характерным для атмосферы стройки признается то, что свидетельствует о равенстве и солидарности. Для семидесятых-восьмидесятых годов, когда сословность советского общества стала откровенной, в молодых городах это воспринималось особенно остро — как измена недавним общим идеалам.
«Стрелки задергались»
Кинорепортаж о том, как Хрущев «запускал» первый агрегат Братской ГЭС, стал одним из дежурных визуальных символов курса на строительство коммунизма. За последние годы опубликованы свидетельства участников события[28], и мы знаем, что визит руководителя СССР был незапланированным и кратковременным, иначе говоря, был одной из импровизаций Н. С. Хрущева, придавшего запуску ГЭС особое значение символического акта[29]. Мы знаем и то, что акт этот был не только символом, но и имитацией: рабочий запуск негласно состоялся до приезда Хрущева. Свидетельство Клары Тимониной, готовившей по долгу службы ключевую часть события, делает метафору «запуска величайшей стройки» еще более объемной:
— Так включал Хрущев первый агрегат или нет?
— Кто бы ему дал!? Представь щит управления — релейная защита там и все. К нему подвели от постороннего источника напряжение, чтобы закрутить ротор. То есть возбуждение дали от постороннего источника, генератор крутился, а ток не выдавал — выхода не было. Хрущев повернул, и вольтметр показывает: «Ток пошел!». Приоткрыли затворы — на лопасти попадало, закрутилась турбина.
— А Хрущев знал, что это имитация?
— Может, и знал. Не знаю.
Ударные стройки, развернутые во второй половине пятидесятых, то есть между двадцатым съездом КПСС и провозглашением программы построения коммунизма, представляют исключительный материал для отслеживания «семантического коллапса коммунизма»[30] и судьбы идеократии. С одной стороны результат и свидетельство энтузиазма и подвижничества, а с другой — передовая модернизации, место, где техпромплан является ежедневной целью. Став повседневностью, энтузиазм и подвижничество освободились от идеологического оформления без видимого напряжения. Было или нет здесь ощущение «коллапса коммунизма» к тому моменту, когда было объявлено, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», — реконструировать невозможно. Симптомом можно считать снисходительное (иногда слегка презрительное) «комсомольцы» по отношению к тем, кто приехал в составе разного рода «отрядов», но не удержался на стройке. Проскальзывает эта снисходительность в сегодняшних интервью, но явно транслируется из «палаточного Братска».
На передовом крае преобразования страны формировалось социальное пространство, которое было одной из зон риска для идеократии. Конечно, здесь — в отличие от столиц — «диссидентская атака на уже мертвый «коммунизм»[31] возникнуть не могла, но остранение идеологии и системы власти, сакрализированной идеологией, было неизбежным. Дистанция географическая оборачивалась не столкновением мировоззрений, но мировоззренческой дистанцией. Идеальный характер отношений между людьми — главная тема всех биографических интервью, возникавшая в нарративе без каких-либо прямых вопросов. Идеал, который не откладывался на будущее, упразднял смыслы идеалов, которые из будущего оправдывали вечную «временность» неустроенной жертвенной жизни и жесткость «вынужденных» средств движения к будущему. Идеал человеческих отношений, реализуемый в приватной публичной жизни[32], обесценил как медиаторов идеологий, так и сами идеологии, определил десакрализацию власти. Мобилизация людей на ударные стройки как исторические свершения «родины социализма» обернулась одним из способов разрушения идеократии. Мобильность была и поиском своего места, и формой ухода, и способом остранения социально-политической системы.
Участие в исторических стройках оказывалось одновременно дистанцированием от тех, кто сохранял право озвучивать исторические смыслы. Выразительная метафора этой социально-исторической ситуации — эпизод торжественного запуска Н. С. Хрущевым первого агрегата ГЭС. Степень автономности сообщества была такова, что участница событий могла не знать о том, был ли руководитель партии и правительства в курсе имитации символического акта. Очевидно, что этот вопрос либо не обсуждался участниками инсценировки, либо ответ на него значил не так много, чтобы запечатлеться в памяти. Социальное пространство, созданное людьми, решавшими историческую задачу, было настолько дистанцировано от сакрального пространства власти, что встреча этих двух социальных миров, их совмещение-без-подчинения друг другу породили одну из самых объемных метафор «вертикали власти». Участие «вертикали власти» свелось к «ручному управлению» в крайне ограниченных пределах. Существенной является и еще одна метафора из кинохроники — крупный план приборов щита управления, на котором «задергались стрелки» (выражение Клары Тимониной) после исторического поворота рукоятки: выразительный образ «обратной связи» на имитационное воздействие руководства.
Энергия социальная. Послесловие к устной истории
— В общем актировались только за сорок пять градусов. Актированные дни. А вот стоял этот период где-то конец декабря и чуть ли не до конца января, ой, такие холода были. Когда мы приехали, было пятьдесят шесть градусов. Это были несколько таких дней. Я узнала, что был такой мороз. Когда спрашивают, сколько мороза на улице, не могут определить. Эти термометры ртутные замерзали. Водка в бутылках стоит сосульками вот так. Актированные дни можно было видеть только так: краны не работают, им нельзя, металл не выдерживает. Машины не работают, кабельная изоляция тоже не выдерживает, у нее начинается повышенная утечка. А люди работали. Рубили ряжи, готовили их. Рубили ряжи и строили дома.
Этот фрагмент в повествовании Клары Алексеевны Тимониной напомнил о книжке французского литератора Пьера Фредерикса, побывавшего в начале 1930-х годов на Урале и дальше — в Сибири, чтобы увидеть своими глазами индустриализацию по-советски. Главным открытием Фредерикса были энергичные люди, увлеченные преобразованием жизни, а главным наблюдением — неимоверно тяжелый добровольный труд[33]. Осенью 1931 года на Кузнецкстрое, когда нужно было доставить кирпичи на строительство и «лошади, выбиваясь из сил, засыпали», тогда люди впрягли себя вместо лошадей и транспортировали на 12 километров 10 тысяч кирпичей. Этого французский литератор не видел, он прочитал об этом уже в архивах стройки[34]. Но можно поверить в то, что люди брали на себя лошадиные дозы работы не только по доброй воле, но и по собственной инициативе, потому что в Братске, Усть-Илимске или Дивногорске через три десятка лет дожди и обледенения тоже не были причиной для остановки работы.

Слово «энтузиазм» часто используют, чтобы объяснить подобное поведение людей, а затем указывают на идейные мотивы подобного энтузиазма, приписывая магическую силу громким идеям, большим проектам, самообману доверчивых масс. Русский ученый Лев Гумилев не говорил «энтузиазм», он ввел понятие «пассионарность». На мой взгляд, оно сродни «энтузиазму» — этакий псевдоним, который создает иллюзию объяснения, совокупное наименование для разных зависимостей и сил, которые приводят в движение народы и их лидеров. Сами факторы исторического движения так и остаются не просвеченными научным методом. Не будем об этом понятии спорить — подумаем о нем как о факте биографии Гумилева, одной из тысяч российских судеб. Представитель петербургской интеллектуальной элиты, выученик старых русских профессоров, дважды брошенный в лагеря, выстраивая свою концепцию всемирной истории, считал совершенно очевидным, что люди, хотя не все и не всегда, обретают энергию, побуждающую и позволяющую менять облик мира. Именно это объяснял европейскому литератору современник Гумилева, сторонник советской власти электрик Кропотский, когда Фредерикс спросил у него, почему советской власти удается так стремительно изменять страну:
Все, что нужно, чтобы создавать народы, — это хорошая разность потенциалов[35].
Для любого наблюдателя советской жизни и для любого человека, жившего в прошедшем веке в России, «семьдесят лет коммунизма», их начало, их история, их финал — это еще и метаморфозы энергии людей, которую мы назовем социальной энергией. Понятие энергии — философско-историческое, то есть из тех, что обычно ближе к метафорам, чем к понятиям научным, но оно фиксирует то, что не могут ухватить научные термины — отношения человека с историей. Определим ее как способность и готовность человека согласовывать свои поступки, свой выбор с социальными задачами, участвовать в социальных изменениях.
Понятие социальная энергия я употребляю не просто в метафорическом смысле, а обращаюсь к нему как к необходимому для социального анализа, для социальной истории. Сегодня понятия социальная энергия нет в арсенале социальных наук, и самого феномена нет в предмете социальных исследований[36]. Тем не менее есть социальные механизмы, исследование и анализ которых позволяет понять, как возникает и как воспроизводится эта энергия. Власть большевиков, безусловно, была катализатором модернизационных процессов, ломавших социальные структуры и задавших высокую степень социальной мобильности. Но была и результатом их. История советского общества наследовала двум с лишним векам формировавшейся Российской империи и российского общества. Революция произошла в стране, где мобильность людей, в большой мере благодаря географии, была правилом, а не нарушением правил. И нормой была маргинальность — несовпадение с нормами. Для раскрытия источника социальной энергии принципиально важно, что маргинальность — предпосылка к стремлению человека изменить свое место в мире. В том числе и за счет участия в изменении мира. Советская власть, собственно, и приняла этот факт за основу своей деятельности и целями, лозунгами, поддержкой иллюзий выразила стремление и привычку переделывать жизнь. Но к естественным модернизационным процессам (урбанизация, резкий рост количества получающих образование и т. д.) прибавила еще тотальную и постоянную маргинализацию, рассекая естественные человеческие связи — семейные, соседские, дружеские — и преследуя за них. Единственные отношения утверждались как несомненные для человека — отношения с властью.
И этот «эффективный менеджмент» лишал саму власть перспектив обрести прочную социальную опору, а социальную энергию обрекал на исчерпание. Двадцатый век дает достаточно материала, чтобы утверждать, что антропономическая революция, то есть формирование «нового человека», не может быть совершена историческими средствами, предполагающими подчинение человека социальным задачам. Советская история —прекрасный тому урок. Режим, провозгласивший историческую задачу — решение проблемы равенства, пытался взять под контроль основы воспроизводства человеческой жизни. Это обернулось угрозой разрушения самих основ социальных отношений как таковых.
-
Во-первых, потребность маргинального человека в «своей» группе — основа принятия коллективистских ценностей как правил игры, как средства достижения и как маскировки (в том числе от себя) осуждаемых публично целей индивидуальных. Поскольку ценности эти не унаследованы, а когда-то приняты персонально, человек сохраняет способность дистанцироваться от них. Поэтому страна маргиналов быстро проживает идейные эпохи и обычным, даже естественным выходом из идейной эпохи оказывается не взаимодействие идей и мировоззрений, не согласование идей с реалиями страны, а контрастный переход в иную идейную эпоху. И когда ценности частной жизни были легитимизированы, официальные идеологические ценности достаточно быстро оказались осмеяны и отброшены.
-
Во-вторых, режим, приняв на себя ответственность за осуществление идеала и постоянно напоминая об этой задаче, подтачивал собственные основы; именно неспособность осуществить идеал нового человека, несоответствие этому идеалу тех, кто режим олицетворял, развели по разным дорогам «советское государство» и «советское общество».
-
В-третьих, удержание и/или выстраивание межличностных отношений как внеидеологической, внесистемной, внеполитической солидарности — «культ дружбы» в неформальных коллективах столичной интеллигенции или коллективизм первостроителей Братска оборачивается разрушением социальных основ идеократии.
[1] Kotkin St. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995.
[2] См. главу Speaking Bolshevik в: Kotkin St. Op. cit.
[3] Источники исследования, представленного в данной статье, — прежде всего биографические интервью, собранные в сибирских городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске в 1994—2006 годах, а также интервью, полученные в 2010—2011 годах в Байкальске и Северобайкальске.
[4] Вайль П., Генис А., 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 83.
[5] Марчук А. Суд и дело // Свой голос. Художественно-публицистический альманах Восточно-Сибирского книжного издательства, 1992. № 1. С. 88.
[6] Марчук А. Цит. изд. С. 87.
[7] Там же.
[8] Шинкарев Л. Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 19!4. С. 250.
[9] Собственно, на подобной апелляции построен весь типологический репертуар ответственности как комсомольца, члена партии, так и любого рабочего или интеллигента. Здесь не только сословная честь, но и ответственность страны перед историей как фон (выявляемый или скрытый) любого события, поступка, высказывания. Идеальное предъявлялось в модальности долженствования.
[10] Распутин В. Г. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 292.
[11] Григорий Свирский (1921 г. р.) — журналист, писатель, ветеран войны, эмигрировал из Советского Союза в 1972 году. Рассказ «Братская ГЭС» входит в сборник «Полярная трагедия», который, как и большинство книг Г. Свирского, либо не опубликован в бумажном издании, либо бумажное издание малодоступно. Но рассказ доступен в электронном виде: http://lib.ru/NEWPROZA/SWIRSKU/svirsky6.txt
[12] См.: Остапенко Е. Город в Слове — Слово о городе // Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го века. Альманах-исследование. Иркутск, 2007. С. 134—142. Елена Остапенко, родившаяся и выросшая в Ангарске, цитирует ангарских литераторов старшего поколения, которые были участниками строительства города. Бывший заключенный Валерий Алексеев:
Ложь любых аксиом безопасней
Но довольно валять дурака
Ныне знает любой первоклассник
Что построили город зэка...
Город и зона — пожалуй, самая болезненная тема городской идентичности, особенно для ангарчан старшего поколения. Многим из них зона представляется чем-то вроде раковой опухоли, из-за которой произошло качественное перерождение всего городского организма.
Просочившаяся сквозь заборы лагерная этика дала о себе знать особенно ярко в начале 90-х. Тогда во время крутых социальных перемен практически легализовались уголовные порядки в городе. Основным способом разрешения конфликтов, особенно среди молодежи, стали стрелки, и прав был тот, за кем стояла большая сила.
[13] Марчук А. Цит. изд. С. 103.
[14] Словарное определение понятия «эйфория»: не оправданное реальной действительностью благодушное, повышенно-радостное настроение. Словарь иностранных слов / Отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова. М.: Рус. яз. — Медиа, 2003. С. 773.
Тогда все три этажа были забиты вечерниками. Многие отслужили уже армию. А днем там были учебные пункты. И еще была дневная "вечерняя" школа — потому что ребята работали посменно.
Людмила З.
Хотя люди в основном с 4-мя классами — система учебных пунктов — научат на кране работать или шоферить.
Анна Г.
[16] Джерри Д., Джерри Дж. Большой толковый социологический словарь. Т. 1 (пер. с англ.). М.: Вече, 1999. С. 389: «Маргинальность — состояние пребывания частично внутри социальной группы и частично вне ее».
[17] Рашковский Е. Маргиналы // 50/50. Опыт словаря нового мышления. М.: Прогресс-Payot, 1989. С. 147: «Урбанизация, массовые миграции, интенсивное взаимодействие между носителями разнородных этнокультурных и религиозных традиций, размывание вековых культурных барьеров, влияние на население средств массовой коммуникации — все это привело к тому, что маргинальный статус стал в современном мире не столько исключением, сколько нормой существования миллионов и миллионов людей».
[18] Если принимать «положительную часть» определения маргинальности, то маргинал может рассматриваться не с точки зрения недостаточного участия в социальной жизни, а, напротив, избыточного участия, вызванного сложностью и разнообразием отношений с различными группами. См.: Баньковская С. Чужаки и границы: к понятию социальной маргинальности // Отечественные записки, 2002, № 6.
[19] В последующие годы, когда Ангара была перекрыта и когда люди жили уже не в палатках, лишения воспринимались уже как проблема организации, как чья-то вина.
В палатке было пять семей, а кровати односпальные. Делали из досок топчан, который клали на кровать, чтоб муж с женой мог спать. Топчаны скрипели, конечно. Столько смеха было наутро: а эти-то до пяти скрипели — спать не давали.
Клара Т.
[21] Мамардашвили М. К. Проблема человека в философии // О человеческом в человеке. М.: Политиздат, 1991. С. 9.
[22] Там же.
[23] Там же. С. 10.
[24] Усть-Илимск — название, официально установленное в 1973 году при преобразовании рабочего поселка Усть-Илим в город. Топоним Усть-Илим прочно закреплен в исторической памяти, текстах песен, рассказах и очерках шестидесятых годов.
[25] Шугаев В. Кое-что о сибиряках. М.: Изд-во «Советская Россия», 1975. С. 10.
[26] Подробнее см.: Рожанский М. Память города без прошлого // Биографический метод в исследованиях постсоциалистического общества. СПб.: ЦНСИ, 1997. С. 58—62.
[27] Шугаев В. Кое-что о сибиряках. С. 63.
[28] См., например: http://bratska.net/?doc=1946 ; http://expert.ru/siberia/2011/47/polveka-v-stroyu/
[29] Пуск состоялся 28 ноября 1961 года, то есть всего лишь через месяц после завершения XXII съезда КПСС, принявшего новую Программу партии — «Программу построения коммунизма в СССР».
[30] См.: Батыгин Г., Рассохина М. Семантический коллапс «коммунизма» // Человек. 2002, № 6. С. 61—77.
[31] Там же. С. 77.
[32] На больших молодежных стройках, а затем в построенных молодых городах приватно-публичная жизнь была развита не меньше, чем в больших городах, о которых в основном и пишет автор понятия Виктор Воронков (Воронков В. М. Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 193—194).
[33] Frederix P. Machines en Asie. Paris, 1934.
[34] Frederix P. P. 94.
[35] Frederix P. Op. cit. P. 99.
[36] На заре двадцатого века, обещавшего много интересного и в основном созидательного, отдельные ученые — очень известные и не очень (Уайтхед, Бехтерев, Оствальд, Солвэй, Винарский) пытались подойти к энергии как социальному явлению с научной точки зрения.
