Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Другая история: культура как система воспроизводства
Меньше чем за полвека, отделившие историко-искусствоведческую монографию Алоиза Ригля о позднеримском художественном производстве (1901) от сборника критико-философских фрагментов Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно «Диалектика Просвещения» (1947), ценностно-нейтральный термин «индустрия» успел не только срастись в языке публичных интеллектуальных дискуссий с понятием «культура», но и приобрести — смотри центральную главу названной «Диалектики…» — исключительно негативную окраску в виде идеологически нагруженных формул «культуриндустрия», «культурная индустрия», «индустрия культуры» и им подобных, трактующих культуру, как и полагается идеологиям, в высшей степени «натурно», как вещь или набор вещей[1]. Всего за полстолетия, написал я, но каких! В них уместились несколько революций в Европе, Азии и Латинской Америке, две мировые войны, Шоа (холокост) и ГУЛАГ, сделавшие фрейдовскую «психологию масс» (труд 1921 года) и толлеровского «человекамассу» (пьеса того же года), «восстание масс» Ортега-и-Гасета (1930) и «массовую цивилизацию» Ф. Р. Ливиса (та же дата) привычной реальностью, изо дня в день и за годом год воспроизводимой теперь гигантскими системами общедоступного образования, поточного производства, массового потребления, всеобщего голосования и, с другой стороны, столь же масштабными системами тотального террора, массового геноцида, уничтожения и депортации целых народов, рас и социальных классов. Так или иначе, культуриндустрия стала в этом намагниченном поле синонимом массовой культуры, а подобные оксюмороны — не только в глазах, скажем, консервативно-элитарного Элиота, но и для левых демократов вроде Грамши, — кажется, соединили несовместимое, уничижая образ человека и подрывая достоинство культуры, как они были заданы философией Просвещения и ее ближайшими, пусть и непослушными, наследниками-романтиками.
Я не буду сейчас входить в европейские и американские идеологические дискуссии 1920–1930-х и 1950–1960-х годов о массовой культуре, а тем более в полуторавековую полемику ангажированных интеллектуалов об элите и массе или культуре и цивилизации (в заданном объеме статьи это вряд ли возможно). Возьму лишь один частный эмпирический аспект — проблему воспроизводства культуры и механизмы такого воспроизводства. Точнее, я бы хотел наметить рамку обсуждения этой проблемы, несколькими самыми грубыми чертами обозначив то, как проблематика производства и воспроизводства представлена в смысловой конструкции исторически сформированного понятия «культура» и развернута в работе различных исторически складывающихся репродуктивных форм, институтов и систем. Такая рамка дала бы в дальнейшем возможность обдумывания, разработки и написания, если угодно, другой истории культуры — не истории индивидуальных инноваций или групповых влияний и отталкиваний, а (наряду и в связи с перечисленными моментами) истории институтов репродукции, включая работу массовых подсистем общества, деятельность которых по масштабу, задачам, формам, результатам выходит далеко за пределы любых личных озарений и групповых идиосинкразий.
При этом я понимаю культуру не как отдельный предмет, сферу, ведомство, а исключительно аналитически. Далее она будет трактоваться как исторически определенная программа — т. е. выстраиваемая мною для целей моего анализа система связей, которые я гипотетически устанавливаю и пытаюсь проследить, между различными групповыми интересами, с одной стороны, и актуальными для данных групп конфигурациями идей и представлений, с другой. При таком понимании культурные значения, полагает аналитик, обеспечивают для участников корреляцию между разными актами действия и взаимодействия, образуя относительно устойчивый, воспроизводимый социальный порядок, совокупность более или менее автономных сфер и институтов общества. Важно добавить, что соединение, связывание различных значений характеризует, в такой трактовке, не только акт коммуникации, передачу образца от группы к группе (как протекает, например, усвоение нововведений, движение моды), но и сам акт смыслотворчества и смыслополагания, саму структуру порождаемого образца. Так в нем осуществляется синтез значений, соотносимых в воображении с разными группами и адресуемых разным группам в различных временны.х рамках, модальных перспективах, значимых формах — можно сказать, в «собственном», или «внутреннем», пространстве и времени продуктов культуры.
Субъективность, универсальность, коммуникация
Вспомним: понятие «культура» для немецкого Просвещения (центральная фигура здесь — Кант) подразумевало, согласно основополагающему в данном отношении словарю Иоганна Кристофа Аделунга, взращивание и культивацию, рафинирование способностей человека, а затем и народа, в соответствии с идеальным образцом. И заметим, что в центр тут ставилось не наследие, хотя работа над ним не только предусматривалась, но активно велась (теоретические и описательные труды Гердера, Герреса, братьев Гримм, обработки Тика, Арнима, Брентано, тех же Гриммов), равно как и не целостность коллективного существования, хотя проекты таковой в кругах романтиков от Новалиса до Савиньи и Вильгельма Гумбольдта вынашивались[2]. В центре был самостоятельный, деятельный субъект, практически ответственный за свой образ, свои поступки и строящий их по своему разумению, так или иначе свободно и относительно рационально (последнее без первого вряд ли возможно, равно как и наоборот). Итак, индивид в его идеальной проекции, а не тот или иной институт или авторитет, становился теперь верховной инстанцией, «мерой и законом», по Канту.
Подобное открытое и динамичное, поскольку самосозидающееся, «я» рождалось, можно сказать, из руин чисто родовой либо сословной, но так или иначе предрешенной идентичности людей, входивших в традиционный (живущий предписанной традицией) социум. Именно принцип субъективности — самосоотнесенности субъекта — дал начало крупномасштабной и ускоренной дифференциации обществ нового и новейшего времени, структурному усложнению их состава. Собственно говоря, формы заинтересованного и конструктивного взаимодействия так понимаемых субъектов теперь и стали представлять «общество» в его новом, современном понимании. Оно, в идеале, предполагало выборную власть, общедоступный рынок благ и услуг, публичную сферу общих интересов и т. д. В длительном процессе становления автономных и всеобщих — общедоступных — институтов такого общества, среди которых выделяется и самостоятельная подсистема его репродуктивных институтов (новая, не церковная школа; новый, не схоластический университет), социологу важно подчеркнуть, что форма этих институтов (сама базовая форма социальности в современном обществе) подразумевает соревнование (конкуренцию индивидов и социальных сил), в той или иной степени рациональный выбор (образцов, ориентиров, поведенческих стратегий) и ответственность за этот выбор (ценностную приверженность или вовлеченность).
Идея и программа субъективности представляют собой не только смысловой фокус кристаллизации современных институтов западного общества. Они — структурное начало, предопределяющее образование в нем новых, ненаследственных элит. Имеются в виду именно те институты и группы, в которых воплощается принцип позитивного и социально-ориентированного изменения, составляющий основу «современного» миропорядка. Причем решающий момент здесь — индивидуальный выбор инструментальной стратегии обращения с любыми смысловыми образованиями (включая так называемые «иррациональные», «сверхъестественные» категории: «сакральное», «наитие», «фортуна» и т. п.). Именно выбор инструментальных стратегий поведения (и, соответственно, демонстрируемая в нем приверженность к смысловому, ценностному, символическому порядку, который обязательно стоит за такими ориентациями и их санкционирует) прежде всего и вознаграждается со стороны «современного» общества в лице его авторитетных элит и основных институтов через правовые санкции, моральную гратификацию, формы символического поощрения, включая денежное, статусное и проч.
Это не удивительно, поскольку все современное общество опирается как раз на подобный порядок. Дело в том, что лишь инструментальный, а значит — предельно обобщенный, понятный, очищенный от нормативных ограничений и предзаданных оценок, а потому бескачественный — «эфирный», сказал бы Георг Зиммель и, вслед за ним, Арнольд Тойнби — компонент действия не просто может быть адекватно воспроизведен в бесконечном множестве индивидуальных поведенческих актов (так воспроизводится и традиционное действие по обычаю или привычке, по образцу старших или по велению другого авторитета), но и становится основой для наращивания качественных характеристик поведения, для постоянной оптимизации структуры и результативности действия. Он способен быть стимулом к повышению его ценностной «планки», причем повышению, вообще говоря, неограниченному. Соединение принципа инструментальности (на уровне мотивации индивида) с идеей качества и его роста (ценностью и нормой, а значит — стоящими за этим группами, институтами) встраивает индивидуальное достижение в социальную структуру, систему уровней и слоев общества с соответствующими образами жизни, наборами символических вознаграждений и т. д. Тем самым институты и подсистемы социума, общество как целое, как «строй» получают чрезвычайно существенную возможность максимизировать, как бы «подстегивать» индивидуальное достижение самим способом его коллективной оценки[3].
Такое — никаким демиургом, понятно, не замысленное и не отстраиваемое по плану — динамическое целое складывалось в тяжелейших для человека, тектонических по масштабу процессах распада традиционных сословно-иерархических целостностей, разрушения сословных перегородок, отделения друг от друга социальной и религиозной сфер, обособления в структуре социума подсистем экономики, политики, права, повседневной жизни, перехода от родовой и сословной традиции, от предписанного социального уклада и наследуемого положения в нем к достигаемому статусу и порядку[4]. Этот порядок все больше поддерживался и регулировался через разветвленную и динамическую систему обобщенных ценностей и норм, усваиваемую индивидом в ходе социализации. Каналы и формы этой последней также социально дифференцировались и все больше опосредовались универсальными коммуникативными средствами — прежде всего, общедоступной печатью, что потребовало формирования, узаконения, институционализации национальных языков, стимулировало развитие других, более новых и технически эффективных средств коммуникации[5]. Так можно в нескольких строках резюмировать европейский проект модерна (модерности) и программу культуры, никем в отдельности не сформулированные и не писанные, но обозначившиеся на рубеже XVIII–XIX столетий и реализованные на протяжении XIX века в деятельности новых, ненаследственных, неродовых и несословных элит, которые претендовали на место и роль в обществе именно как носители идей и принципов «современности».
Подобное понимание общества, индивида и многоуровневых, ветвящихся систем его самосоотнесения и самооценки требовало, бесспорно, иных, более множественных, гибких и сложных форм регуляции поведения, чем прежние обычай, уклад, авторитет. Иных по смысловой наполненности, по внутренней конструкции, по модусу действия. Ими и стали формы культуры — предельно обобщенные ценностно-нормативные образцы, фигурирующие как условные, т. е. так или иначе принятые индивидом в качестве значимых и тем самым дейст вующие на правах реальных. Культура — как, отмечу, и «история», введение которой в проект современности относится к этой же эпохе, — выступала при этом как своего рода антитрадиция. Предполагалось, что люди вступают в общество, становятся обществом, обретают свое место в обществе не иначе как создавая и практикуя культуру, иными словами — производя новые ценности и образцы ориентации в современном мире, — именно так формируются представления и практики, относящиеся к культуре чувств, культуре быта и т. д. Это образцы индивидуального поведения, и они самодостаточны в том смысле, что, используя их, вставая к ним в смысловое отношение, человек реализует себя как человек — живущее в настоящем, социально-ориентированное, полноценное и ответственное (скажем короче, взрослое) существо[6].
В круг значимого для субъекта при этом включались именно те смысловые образования, которые могли служить ему рациональным ориентиром в постоянном возвышении способностей и умений, требовательном и беспрерывном самосовершенствовании. А это значит, что в самой конструкции «культуры», в любой ее, можно сказать, клеточке, во-первых, соединялись план наличного существования субъекта (всегда ограниченная групповыми установлениями и конвенциями норма реальности, сказал бы социолог знания) и план идеального прообраза (ценность универсального, освобожденная от подобных ограничений). Соединялись, добавлю, но никогда не сливались, а сосуществовали, напротив, в разных функциях и на разных уровнях, взаимодействовали в непрестанном напряжении, нередко обострявшемся до глубокого конфликта. Во-вторых, соотнесенность любого смыслового образования с самоопределением субъекта по идеальному образцу предполагала, что к сфере культуры относятся (статусом культуры наделяются) прежде всего или даже исключительно те значения, которые можно условно расподобить с контекстами их создания, отчленить от традиции, обычая и обихода, от связей с ситуацией смыслопорождения, ее непосредственными участниками, их взаимными ожиданиями и оценками, а также те, которые сами ориентированы на преодоление границ, заданных любым «здесь и сейчас». Говоря совсем коротко, эти значения должны быть созданы, извлечены, рационально обработаны так, чтобы фигурировать далее как предельно общие по смыслу и форме, по внутренней адресации и по реальному распространению. Отсюда и центральный вопрос социальной науки о современном человеке: «…какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались… в направлении, получившем универсальное значение»[7].
Допустимо сказать, что самостоятельность социальных субъектов в современном обществе символически представлена в форме автономии смысловых образцов, продуктов культуры. Или иначе: ведущая роль культуры как плана или сферы общезначимого в бесконечном множестве относительно согласованных социальных действий и взаимодействий была бы невозможна без ее автономизации. Это означало не только независимость от любых конкретных групп, сословий, классов с их коллективными интересами и неизбежно ограниченными горизонтами: культура в ее идеальной всеобщности не могла быть связана ни с каким отдельным институтом, воплощена в той или иной институциональной структу ре (поэтому и нет никакой кодифицированной «программы» или «хартии» культуры). Напротив, значимость культуры, как показал Фридрих Тенбрук, могла быть обеспечена только резким расширением массовой базы производства, распространения и усвоения культурных образцов[8].
Иными словами, всеобщая значимость подобных смысловых ориентиров требовала их всеобщей же распространенности, а это, в-третьих, делало одной из важнейших внутренних проблем культуры и общества, живущего культурой, созданием культуры, т. е. самосозиданием (можно сказать, «общества культуры»), проблему универсальной коммуникации и, далее, поддержания и развития форм этой коммуникации. Одним словом, вставала проблема техники — опять-таки бескачественных, объективных, чисто целевых, целесообразных средств сообщения (ценностный выбор и содержательное обоснование тех, а не иных целей при этом остаются «за скобками» конкретных действий и реальных ситуаций действия). В нашем случае это означало массовое производство самих способов воспроизводства культуры.

Значения инструментальности, рациональности, а потому всеобщности и общедоступности, встроены здесь в саму структуру передаваемых образцов, составляют один из их сложно соотнесенных смысловых уровней. «Средство коммуникации и есть сообщение», — сформулирует позднее этот принцип Маршалл Маклюэн[9]. Хорошим примером может служить книга. Парадоксальность— неотъемлемая характеристика образцов модерной культуры — состоит здесь в том, что предельная индивидуализация условного переживания и игрового усвоения смысла обеспечена предельной же деиндивидуализацией коммуникативных средств (универсальный язык, алфавитная печать, портативная форма и т. п.)[10]. Отделившийся от любого «здесь и сейчас» образец становится автономным устройством по самораспространению и самовоссозданию, как бы спорой культуры. Тем самым рождение массмедиа было, в содержательном плане, предрешено: как таковое изобретение или приложение техники к образцам культуры было теперь лишь вопросом времени.
Техника, в данной ее трактовке, воплощает принцип и процесс смысловой рационализации, которая выступает образцом действий самоопределяющегося индивида как универсального субъекта: она — предельное выражение его универсальности. Поэтому техника, технические средства коммуникации подключаются именно к тем образцам, которые наделяются значением всеобщих, и утверждают, распространяют, поддерживают их в качестве таковых. Техника в системе коммуникации и в структуре самого коммуницируемого образца функционирует как уровень предельно рационализированных и, в силу этого, принципиально всеобщих значений. Говоря короче, техника задает и обеспечивает сообщаемость образца. Без техники современная культура лишилась бы динамизма: в процессах постоянного умножения образцов и усложнения смыслового мира техника отделяет и осаждает уровни и области значений уже достигнутого, усвоенного, ставшего всеобщим (данности, нормы), чем, соответственно, стимулирует постоянную проблематизацию нового, еще не оцененного.
Поэтому модерная эпоха — это, по известной формуле Вальтера Беньямина, «эпоха технической воспроизводимости». Первым из «технических» устройств всеобщей коммуникации, которые Маршалл Маклюэн, играя словами, назовет потом «медиамессиджем» и «медиамассажем», стала печать. Она создала основу для европейской образовательной революции, предопределила появление массовых газет и журналов, массовой словесности в них, массовых же библиотек, короче — произвела революцию коммуникативную. Далее возникла фотография, затем радио, кино и т. д. Появление каждого такого нового коммуникативного средства — характерна скорость их распространения и динамика нововведений, смены новинок[11] — фиксирует трансформацию масштабов участия субъектов в коммуникативных процессах, т. е. в жизни общества как таковой. В этом смысле массовая культура — конечно же, не отрицание и не разрушение культуры («подлинной», «высокой» и т. п.), а ее, если угодно, продолжение на другом уровне и другими средствами. Этим понятием фиксируется особый план разветвленного социокультурного целого, определенный и важный узел в работе данного сложного устройства.
Подытоживая эту часть рассуждений, отмечу, что образовательная, печатная, масскоммуникативные «революции» встраивают новые модели поведения, новые способы его организации и регуляции, создававшиеся на протяжении десятилетий новыми элитами современных обществ, в репродуктивные системы социума — институты социализации, массовой мобилизации и проч., которые и сами, добавлю, должны были еще сложиться как всеобщие и формальные. Поэтому, в сравнении с экономическими и политическими трансформациями, эти «революции» разворачиваются и осознаются позже. Отсюда и более позднее появление проблематики массовой культуры. Она становится предметом межгрупповой идейной полемики между 1920-ми и 1960-ми годами, и эту последнюю дату можно условно считать завершением процессов модернизации в основных развитых странах Запада.
Литературная система: типы литературы и формы их репродукции
Удобно проследить процессы социальной динамики и усложнения репродуктивных структур общества на материале словесности — тем более что именно она выступает первым символическим «зеркалом» модернизации стран Запада, общественного расслоения, массовизации культуры. Собственно литература в ее современной, социологически значимой трактовке и зарождалась в Европе эпохи буржуазных революций, с конца XVII до середины XIX века, именно как предмет, фокус, повод для общественной дискуссии, вместе с самим современным «обществом», духом общественности, модерными формами (совокупностью мест и времен) открытого и взаимно заинтересованного общения разных групп, слоев, социальных акторов. Словесность, отмеченная как литература, т. е. актуальная литература, выносила на обсуждение интеллектуальных групп, претендовавших на независимое общественное положение и добивавшихся такого положения в силу владения письменно-литературными навыками и развитой системой суждений о словесных искусствах, наиболее острые проблемы нового общества — такие как социальное расслоение и социальный порядок, норма и аномия, город и деревня, центр и периферия, гендерные определения, социальные движения (революция), предельные ситуации (война, катастрофа, эпидемия), личностная идентификация и жизненный путь (напряжения, конфликты, сбои «биографии» как модели самопостроения и самопонимания).
Так литература достигла относительной автономии в качестве культурной подсистемы, а признанные носители норм и стандартов литературного поведения, суждения, оценки (их роль кристаллизовалась в фигуре литературного критика, рецензента, обозревателя) — значимого положения в обществе как своего рода эксперты по современности, ее проблемам и специфическим средствам их репрезентации. Механизмом институционального воспроизводства данных групп и воспроизводства словесности, как они ее понимали, выступала открытая общественная дискуссия. Именно этот актуальный и полемический план понимания и трактовок литературы был исходным, принципиальным для модерной эпохи, для сообщества независимых интеллектуалов и в логическом, и в хронологическом смысле. Иные, последующие, в логическом и хронологическом смысле слова, планы (см. о них ниже) как бы наращивались над ним и рядом с ним, но определялись по отношению к нему.
Так, другие — близкие к ним, но другие — группы в модерном обществе отстаивали значение культуры и литературы как набора обобщенных образцов, традиций, репрезентативных техник, имеющих надвременную значимость. В этих рам ках литература и другие искусства понимались как классика. Как область ответственности национальной элиты (элит), она соединялась в программах и интерпретациях этих групп со значениями национальной культуры и национального престижа, причем таковое ее нынешнее значение проецировалось на прошлое, сколь угодно глубокое, даже доисторическое (фольклорное). Этим задавались временные и пространственные границы института литературы, а через введение соответствующих образцов и техник их рационализации в системы преподавания (национальную школу) — и границы культурной идентичности нации, человека национального, а далее и человека как такового (культурного человека, человека культуры). Механизмом институционального воспроизводства данных значений культуры, литературы, искусства и групп, их отстаивающих, поддерживающих и репродуцирующих, выступала школа; на уровне социальных коммуникаций — практика переиздания в составе «классических» и «школьных» библиотечек, на правах «золотых полок» и в форме других подобных им издательских стратегий, а в плане культуры — ориентация на образец, норму, авторитет, которая могла выражаться как цитата, отсылка, переложение (включая инсценировку и экранизацию), стилизация, пастиш, наконец, пародия.
Совсем иная композиция значений литературы сложилась в группах литературно-образованных интеллектуалов, работающих на рынок. Они соединяли отдельные узнаваемые элементы современности (актуальности) с тривиализируемыми «правильными», нормативно утвержденными техниками повествования, создавая синтетические образцы (формульные модели), рассчитанные на немедленное и как можно более широкое узнавание/признание массы (социально не определенной и не закрепленной публики). Механизмом воспроизводства этой системы значений и разделяющих их групп выступало повторение — стереотип, клише, штамп и т. п. («Я должен создать штамп», — писал в дневниках Бодлер[12]) — при постоянной, сезонной, еженедельной или еще чаще, как в романахфельетонах, смене конкретных образцов. Стереотипность/узнаваемость относилась к жанровой природе и поэтике текстов, к определениям реальности в них, к используемым в них повествовательным приемам, к средствам тиражирования образцов (газета, тонкий журнал, роман-в-выпусках), наконец — к самой фигуре, имиджу, как сказали бы теперь, успешного писателя-звезды (прежде всего Эжен Сю), а впоследствии — таких же звезд из числа актеров, эстрадных музыкантов, спортсменов, законодателей моды, публичных политиков. Подобная стереотипность — непроблематичность изображаемого и средств изображения — понятно, исключала нужду в актуальном интерпретаторе (критике, рецензенте), а краткосрочность обращения и постоянная смена образцов не подразумевала систематического обучения их пониманию, а тем самым и фигуры посвященного наставника, скажем школьного учителя.
Если иметь в виду подобные социокультурные рамки, то массовая культура в ее реальном функционировании — и прежде всего словесность в ее общедоступной печатной форме — фиксировала «нижний» предел распространения образцов[13]. Это был, можно сказать, пласт цивилизации, достигнутый уровень цивилизованности (идеологизированное позднеромантическое противопоставление «культуры» и «цивилизации», равно как стоящую за ним мифологию «германского» и «латинского» духа, оставляю в стороне). «Верхний» же уровень (если не говорить сейчас о чисто лабораторном, кружковом эксперименте, авангарде, радикальной инновации) задавался модой — сезонной сменой «потребительских» образцов по мере их спуска в нижние слои общества через повышение тиража, изменение типа издания, его инсценизацию в расчете на массового зрителя «бульваров», а позднее киноэкранизацию для массовой же публики и т. п.[14]
Важно, что при этом, во-первых, не только постоянно дифференцировались реальные группы создателей и потребителей образцов — литературные движения, группировки со своими манифестами, поэтикой, своими структурами поддержки и кругами публики, но и институциональные подсистемы поддержания и воспроизводства образцов (актуальная литература и критика; классика, литературоведение, школа; мода; рынок). Во-вторых, нужно подчеркнуть, что все эти подсистемы были порождены увеличивающейся сложностью общества и рассчитаны на такое усложнение: каждая по-своему, с помощью своих механизмов и символических медиа, связывала «разбегающиеся» слои и группы социума. Так, сам механизм изобретения классики (по формуле Эрика Хобсбаума — «изобретение традиции») складывается в подобных условиях и рамках именно потому, что для интеграции подобной множественности социальных сил и агентов нужны предельно обобщенные средства и образцы, рассчитанные на самое долгое (практические неограниченное) время последовательной инфильтрации в различные слои и отсеки социума через регулярное воспроизводство — в процессах социализации и писателей, и читателей новых поколений. Иными словами, «первично» здесь не единство классики, а множественность авторского состава и читательской публики. То же самое — с массовой и модной литературой, с актуальной словесностью и проч. Эти институциональные механизмы задания и поддержания образца относительно автономны, но именно потому взаимно соотнесены, взаимосвязаны, динамичны.
Репродуктивная система советского социума: прошлое и настоящее
Однако как массовый уровень не исчерпывает богатства реальных связей и коммуникаций в культуре и обществе, так и рынок сам по себе не создает и не в силах создать общество, «большое» общество, тем более он не может его заменить, заместить. Он не в состоянии даже компенсировать его отсутствие или слабость — он лишь оформляет наличную структуру ценностей и интересов ведущих групп, какой она сложилась на данный момент.
Если более активны среди них — как это было в крупнейших обществах Запада, о чем шла речь выше, — динамичные группы и движения, ориентированные на повышение смысла собственных действий и их оценки значимыми другими, на опережение времени, несущие с собой значения нового, современного, многообразного, то композиция их интересов, ориентиров, идеалов, соответственно, институционализируется в формах рынка (и будет тиражироваться средствами массовой коммуникации). Она станет условной мерой, мысленным эталоном в ситуациях различного взаимодействия, а далее — образцом (нормой) для освоения или отталкивания других выдвигающихся на авансцену групп. Если же в различных сегментах более образованной и «статусной» части социума, как это было в советской России, а во многом сохранилось и сейчас, преобладает установка на адаптацию и привычку, в лучших случаях — на временное компенсирующее дополнение к сложившейся системе ценностей, интересов, распределения вознаграждений и благ в монополизированном социальном пространстве-времени («вторая культура» и тому подобные временные «жучки» в системах коммуникаций), то задавать тон, закрепляться, воспроизводиться и распространяться в институциональных формах будет именно рутина. А стало быть, и в дальнейшем следует ожидать только понижения уровня запросов и мотивов действия, его ориентиров, критериев оценки результативности, смысловой девальвации и проч., «запрограммированного» в рутинных формах коммуникации и обмена.
Репродуктивные системы советского социума — независимо от того, кто и для каких конкретных целей их по частям в разное время создавал, — сложились как уравнительно-распределительные и только в этом смысле «всеобщие». В их задачи не входили развитие, довершение, массовизация динамических импульсов и инновационных ценностей модерна, как, например, в странах Западной Европы, где они по-разному, в зависимости от учреждающих и обслуживающих их групп, воплощали в себе общий принцип публичности и дух универсализма. Репродуктивные институты советского общества, скроенные по одному функциональному шаблону, сделали рутину и повторение собственной основой, а фигуру эпигона (учителя, редактора, цензора и проч.) — несущим элементом систем школьного и, во многом, институтского обучения, издания и распространения книг, как и других культурных образцов.
Советская литературная система, вся система «учреждений культуры» как репродуктивный механизм с конца 1920-х — первой половины 1930-х годов создавалась централизованным порядком, была государственной и унитарной. Она оставалась последовательно и единообразно цензурирующей по содержанию, безальтернативно массовой по каналам распространения и по составу публики, которая формировалась в ходе «культурной революции» системой школьного образования, каналами массовой пропаганды и агитации, и по авторскому составу (всевозможное «ударничество» и другие мобилизационные кампании, всевозможные «призывы» в литературу, позднее — «секретарская» и «орденоносная» словесность и проч.). В ее основу была положена идея и модель всеобщей и быстрой, как бы одновременной, индоктринации. Отсюда массовость адресации и требования простоты, доступности, отсюда «классикализм», ориентация на известное, понятное, повторяющееся — на норму, рецепт, рутину. Литература как предмет общественной дискуссии, как модный образец, как новаторский сдвиг нормы и ее конструктивное нарушение остались в прошлом, были публично диффамированы, вытеснены, физически уничтожены, стерты из коллективной памяти (школьных программ, библиотечных фондов и каталогов, историй литературы и проч.) как явления, характеризующие «царский строй» и «буржуазную» культуру, воплощающие их обреченность и распад.
Достойными массового распространения становились образцы той актуальной словесности, которая соединяла пропагандистское задание, официальный образ социума, человека, событийного мира настоящего и прошлого с эпигон скими формами отечественной социально-критической словесности XIX века (прежде всего, «русским романом», «прогрессивной» и «народной» поэзией). Воспроизводство подобного канона осуществлялось через единую модель писательской социализации (ССП, журнально-книгоиздательская система Госкомиздата, институт госпремий и других отличий), единую модель общеобразовательной школы и единую модель массовой библиотеки. Это не могло не привести, среди прочего, к глубочайшему кризису литературного производства. Характерна ситуация конца 1940-х— начала 1950-х годов, когда резко снизилось число издаваемых новых произведений, как и фильмов, спектаклей и проч., сократившись фактически до лонг- или даже шорт-листа кандидатов на государственные премии.
В рамках данной большой программы «культурной революции», развертывание и осуществление которой — в условиях террора, войны и с учетом их социальных последствий — растянулось до середины 1960-х годов, собственно и сложились соответствующие организационные структуры «учреждений культуры и образования» (так называемая «массовая библиотека», равно как и советский «вуз»), принципы кадрового подбора, продвижения, вознаграждения. И сразу же вслед за этим, с первой половины 1970-х годов, после того как в сознании руководителей культуры, их ведомственных документах, официальной риторике появилась социальная роль читателя (зрителя, слушателя и проч.), представление о его «интересах» (а не официально одобренных «разумных потребностях»), построенная система начала давать сбои, обнаружила социальные и культурные границы своих возможностей, а это вызвало к жизни различные компенсаторные действия и механизмы — от «черного» и «серого» рынка до разного рода параллельных структур типа самиздата, книгообмена, вне-госкомиздатовской «макулатурной» серии книг, соревновавшейся с ней «библиотечной» серии и проч.[15]
Сейчас, по прошествии времени, очевидно, что каждое относительное ослабление единообразного государственно-централизованного устройства советского социума («оттепель», «перестройка» и др.) сопровождалось столь же относительным и непоследовательным проявлением множественности коллективных субъектов, претендующих на участие в социальной и культурной жизни — городской молодежи, «интеллигенции» как критически-мыслящей общности (включая национальную и национально-ориентированную интеллигенцию республик СССР), религиозных движений и ряда других. А это порождало новые проблемы для репродуктивных институтов государственно-унитарной модели, что, как только что говорилось, обусловило возникновение к 1970-м годам неких зачатков параллельных структур в книгоиздании и книгораспространении.
Они, конечно, подтачивали монопольную структуру государственного управления культурой, но не уничтожали ее, а самое главное (и это осознано отечественной образованной средой совсем уж слабо) — не противостояли ей. Не противостояли, во-первых, поскольку были с ней теснейшим образом связаны и действовали в режиме реагирования на действия огосударствленной системы, а во-вторых, потому что так и не смогли выдвинуть самостоятельные ценностные ориентиры, развить иную антропологическую программу, дать смысловую основу самостоятельности индивида, коротко говоря, выработать «культуру сложности». Насколько можно судить теперь, ключевой проблемой групп, в силу своего социального положения призванных производить, отбирать и поддерживать смысловые образцы, в советских и постсоветских условиях оставалась проблема символического самоопределения и, в этом смысле, демаркации собственных образцов, времени и пространства их значимости, дистанцирования от «чужих».
Для разных фракций образованного слоя степень резкости подобного воображаемого противопоставления была разной, могли отличаться акценты, но принципиальная структура сохранялась и сохранилась по сей день. Полюса отчуждения в общем смысле выглядели так: с одной стороны, чужая и непонимающая власть («политика», «официоз» и т. п.), с другой — столь же недифференцированная и непродуктивная «серая масса». Представителями официальной идеологии могли выступать государственные служащие систем науки, книгоиздания, образования и проч., в качестве синонима серой массы могла выступать массовая (популярная, признанная и т. п.) словесность. По отношению к тому и другому важно было обозначить пространство своей вненаходимости. Со временем подобная символическая конструкция собственной роли (эстетическая поза), своего рода мысленные «кавычки», стали воспроизводиться представителями образованного сообщества в самых разных общекультурных проявлениях, в формах профессиональной работы, в любой ситуации хотя бы потенциального присутствия «другого» (т. е. в рамках публичного пространства), практически бессознательно. Машинально воспроизводиться для «других» и безошибочно опознаваться «своими». Понятно, что и «другой» при этом воспринимался (если вообще воспринимался) исключительно со стороны, эстетически, тоже «в кавычках». Его проблемами, обстоятельствами, точкой зрения именно как другого, как равноправного партнера, хотя бы потенциального, не интересовались, его можно было лишь отстраненно и пародически воспроизводить — как стиль или жаргон.
Все это относится не только к «культурному подполью» 1970–1980-х годов, но и к нескольким волнам эмиграции (имеем в виду ее литературно-гуманитарную часть — совершенно иной была, например, ситуация в живописи и музыке). Однако в полной мере отмеченные черты проявились в ситуации «гласности». Журнальный бум в конце 1980-х годов на практике свелся к массированному и краткосрочному перекачиванию прежнего сам- и тамиздата с помощью государственных издательских мощностей. Однако процесс механического воспроизведения старых текстов не сопровождался никакой собственной критической, рефлексивной работой интеллигенции над этим материалом, втайне от власти прочтенным ею эпохой раньше, равно как и над проблемами, с ним связанными (характер тоталитарного государства; травма коллективизации; ГУЛАГ и холокост; война, социальная память и забвение; массовая ксенофобия и государственный геноцид; изоляционистские мифологемы «простого человека», «великой державы» и «особого пути»). Тем самым интеллектуальная среда, сначала, на протяжении советских десятилетий, либо адаптировавшаяся к наличному социальному порядку, либо последовательно выключавшаяся из актуальной современности, теперь еще на несколько лет как бы предоставила область настоящего прошлому — прошедшему, но не прожитому «в свое время».
И все же гораздо важнее этой новой «потери времени» оказалось то, что со всем массивом «возвращенного», заново напечатанного или републикованного в конце 1980-х— первой половине 1990-х годов образованное сообщество России ничего не сумело сделать, кроме самых привычных для себя реакций — опять подобрать «параллельные места» из уже известных текстов, прокомментировать интертекстуальные пересечения «нового» с «прежним», каталогизировать биогра фические и творческие связи участников, иначе говоря, обнаружить даже в самом неожиданном и проблематичном всего лишь стертые структуры культурных традиций и групповых конвенций. По точке зрения и способу подхода к, казалось бы, совершенно «горячему», актуальному и неконвенциональному материалу здесь были применены наиболее рутинные ходы, отработанные на национальной классике. Тем самым интеллектуальные группы в данном случае не просто не проявили — уже в который раз! — реального интереса к настоящему времени, к актуальным явлениям и событиям, но выступили как антиновационные, как консерваторы и рутинеры.
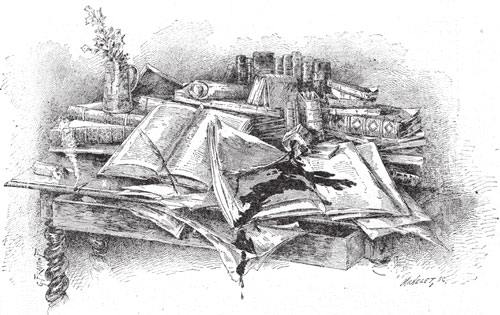
Консервация распада: особый путь?
Если подводить, что нередко делается сегодня, неизбежно условные итоги последних полутора-двух десятилетий в «сфере культуры», то гораздо важней, как мне кажется, не просто перечислять фильмы, книги либо имена их авторов, которые могли бы стать символическим шифром этих лет (знаком прорыва к невозможному раньше или, напротив, несводимым клеймом прошлого), а выйти в другой, институциональный контекст. Тогда станет, я думаю, вполне очевидно, что репродуктивные системы советского социума оказались достаточно устойчивы, но столь же не реформируемы, как экономические, политические или судебные. Школа, библиотека, массмедиа в России попрежнему монопольно огосударствлены. Они могут существовать сегодня и будут существовать завтра лишь в виде развалин старого порядка, скрепляемых и удерживаемых единственно корпоративными интересами и персональными связями бюрократических кадров, рекрутируемых сокращающимися в числе и хиреющими, если говорить об активности, значимости и авторитетности в обществе, учреждениями культуры. Достаточно сравнить с этими учреждениями сферу книгоиздания, откуда государство почти полностью ушло (свыше 68% названий книг, вышедших в России за 2004 год, и 91% совокупного книжного тиража принадлежало негосударственным издательствам), чтобы убедиться: собственно производство литературных образцов, разных по фор ме, уровню и адресации, т. е. продуктивность культурных групп, развивается сегодня в России не без успеха. Только за первую половину 2005 года в стране вышло 47,5 тыс. названий книг — почти столько же, сколько за весь советский 1985 год (51 тыс.)[16].
Ситуация с книжными магазинами уже сложней. Многие из них также не принадлежат государству, но испытывают на себе сегодня его пресс в виде платы за аренду помещения, угрозы снять налоговые послабления и т. п. Кроме того, они подвергаются давлению крупных частных собственников, стремящихся использовать «помещения» с большей выгодой (сегодня книготорговля в России — дело неприбыльное), а потому добивающихся закрытия магазина или его перепрофилирования: как следствие, в России действует порядка всего лишь 5–6 тыс. книжных магазинов, тогда как в 1985 году их было 15–16 тыс., и один книжный магазин приходится в России в среднем на 60 тыс. потенциальных покупателей, тогда как в Европе — на 10–15 тыс. Наконец, государством же, монополизировавшим почтовые коммуникации, крайне затруднено распространение книг: они почти не доходят до городов с населением в 100 и менее тыс. человек, не говоря уж о селах. Кроме того, и покупательная способность большинства российских жителей за пределами двух столиц сравнительно низка, а книги не относятся для них к товарам первой необходимости.
Что же касается библиотек, то они в России так и не стали общественными, но принадлежат либо федеральным органам, либо — на низовом уровне — местным властям. Прежняя централизованная сеть распространения книг не работает, фонды библиотек — от национальных до районных — становятся все бедней, а их количество на низовом, наиболее массовом, доступном для людей уровне постоянно сокращается (по оценкам экспертов, в ближайшей перспективе оно может сократиться более чем наполовину, возможно даже — на три четверти). Периферия российского общества, и социальная, и географическая, отрезана и все дальше «отодвигается» от его центров, можно сказать, происходит ее варваризация, причем осуществляет эту варваризацию едва ли не в первую очередь государство.
В этих условиях озабоченность «проблемами чтения» и задачами его «поддержки», публично, даже с какой-то назойливостью проявляемую в последние месяцы различными официальными ведомствами, скорее всего, надо понимать как претензию власти, особенно на международных встречах, выставочных мероприятиях и т. п., символически обозначить свое присутствие без намерения брать реальную ответственность за сложившуюся по ее вине ситуацию. Более того, государство здесь, как и в других социальных сферах (образование, медицинское обслуживание, ЖКХ), последовательно отказывается от каких бы то ни было обязательств, все чаще перекладывая финансирование на местную власть и на самого налогоплательщика. Между тем деятельность наиболее массовых (сельских, районных), а во многом и центральных городских, даже ведомственных библиотек фактически сведена сегодня до функции библиотек школьных. Они обеспе чивают первичную социализацию, помогают в учебе[17] или используются теми культурно несамостоятельными, социально зависимыми группами населения, у которых нет ни денег для покупки книг, ни больших библиотек дома, ни альтернативы массовым библиотечным учреждениям в виде крупных универсальных или ведомственных библиотек. Хотя бы в какую-то библиотеку сегодня записана лишь пятая часть взрослых россиян (примерно такова же, с расхождением в несколько процентов, доля россиян, постоянно читающих журналы и книги), причем примерно две трети остальных были записаны, но перестали пользоваться, прочие же и вовсе никогда не были абонентами библиотек. Отмечу, что этот массовый отток пользователей вовсе не связан с переходом их к более «современным» средствам — скажем, интернет-библиотекам, журнальным сайтам и проч. По данным опросов Левада-Центра, один раз в неделю и чаще Интернетом сегодня пользуются лишь 8% россиян, причем ведущими мотивами обращения к сети выступают наведение справок, электронная переписка и ознакомление с новостями, а отнюдь не интерес к печати, тем менее — к книгам[18].
Последовательно расширявшийся за последние годы разрыв между производителями и потребителями культурных образцов, между властью и населением, центром и периферией, который свидетельствует о слабости и несамостоятельности общества, вялости процессов группообразования и групповой дифференциации в нем, о его застарелых институциональных дефицитах, в подобных условиях становится для обычного человека почти непреодолимым. Можно сказать иначе: институты культурного воспроизводства в России закрепляют и воспроизводят сегодня сам этот разрыв — консервируют социум как развал, руину и осыпь.
[1] Из сравнительно недавних работ см.: Caves R. Creative Industries: Contact between Art & Commerce. Cambridge, 2000; Hesmondhalgh D. The Cultural Industries. London, 2002.
[2] См. об этом образцовую работу: Ziolkowski Th. German Romanticism and Its Institutions. Princeton, 1990.
[3] Вообще говоря, так возникает и формальная мера, точнее — система формальных мер, позволяющая условно «складывать», «умножать», «делить» социальные действия, их агентов, мотивы и результаты, какими бы, по содержанию и по характеру протекания, эти действия ни были. Функциональным эквивалентом такой формальной измеримости (квантификации, калькуляции) действия выступают, в частности, деньги (цена), искусственные (формальные) единицы счета времени или даже «пустое» число как таковое (норматив, рекорд) либо универсальные и условные знаки алфавитной письменности, безразличной по отношению к передаваемому содержанию, плюс разного рода формальные языки, вплоть до различных систем сигнализации, разрабатываемые на основе и по образцу письма; см. об этом посвященные урбанизации работы Ю. А. Левады в его книге «Статьи по социологии» (М., 1993. С. 24–38, 39–49). Становление статистического подхода к обществу (и самой статистики как науки) в данном контексте не просто параллельно разворачиванию образовательной и коммуникативной революций, включая революцию фотографии или железных дорог, — они взаимосвязаны в рамках проекта модерна.
[4] Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. В общетеоретической схеме Парсонса сама культура трактуется как репродуктивная подсистема общества, генерализованная функция которой — поддержание образца (pattern-maintenance).
[5] Certeau M. de. Une politique de la langue: La Revolution francaise et les patois. Paris, 1975; Blackall E. A. The Emergence of German as a Literary Language. Ithaca; London, 1978; Eisenstein E. The Printing Press as an Agent of Social Change. Cambridge, 1979; De Mauro T. Storia linguistica dell’Italia unita. Roma; Bari, 1984; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. C. 60–70; Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005. C. 122–131.
[6] Критика культуры — как неотъемлемая, замечу, часть самой описываемой программы и попытка выхода за ее пределы в «постмодерн» — будет, среди прочего, настаивать на самоценности детства, акцентировать значения пограничного, анормального и т. п.
[7] Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. C. 44 (курсив М. Вебера).
[8] О его проекте «понимающей» социологии культуры, в которой он развивал идеи Георга Зиммеля и Макса Вебера, см.: ФРГ глазами западногерманских социологов. М., 1989. C. 210–214.
[9] Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2003. С. 9–26.
[10] Легко показать, что эволюция коммуникативных процессов в сторону массовизации, определяющая для модерных обществ, сопровождается, а можно сказать, и обеспечивается индивидуализацией, или приватизацией, коммуникативных средств, их все более миниатюрной, портативной формой. «Исходным» образцом и здесь выступает книга, но впоследствии такое же устройство демонстрирует, допустим, плеер с наушниками, миникомпьютер и т. д.
[11] Скажем, на первом этапе распространения фотографии как технического изобретения — уже в 1850-е годы — число фотомастерских в Париже вырастает вчетверо, с 50 до более чем двухсот. По сравнению с дагерротипами количество снимков увеличивается на несколько порядков: мастера дагерротипии конца 1840-х годов изготовляли полторы тысячи портретов в год, фотомастер начала 1860-х — 2,5 тыс. карточек в день. См.: Rouille A. L’empire de la photographie, 1839–1870. Paris, 1982.
[12] Baudelaire Ch. Fusees // Baudelaire Ch. Oeuvres completes. Paris, 1999. P. 397. Эту задачу — creer un poncif — как одну из первых рыночных стратегий в литературе анализировал Вальтер Беньямин в заметках «Центральный парк» и других работах о Бодлере. См.: Беньямин В. Озарения. М., 2000. C. 214 и далее. Впрочем, Бенедикт Андерсон (Указ. соч. С. 62) называет первым автором бестселлеров… Мартина Лютера.
[13] Замечу, что вместе с массовой словесностью, либо даже как ее подраздел, в рамках тех же процессов и примерно в то же время складывается так называемая «детская литература». Она тоже фиксирует нижний или начальный уровень литературной культуры и литературной социализации — аналогична, скажем, функция игрушки в современных обществах. Миниатюризация и лудизация культурных образцов — процессы в модерной культуре не только параллельные, но часто и соприкасающиеся, даже переплетающиеся.
[14] О связи между романтической идеологией, включая антропологию всеобъемлющего и всеприемлющего гения, и мифологией неисчерпаемого потребительского рая см.: Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford, 1987.
[15] Подробнее см.: Гудков Л., Дубин Б. Параллельные литературы [1989] // Гудков Л., Дубин Б. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. Москва; Харьков, 1995. С. 42–66.
[16] Подробней см.: Гудков Л., Дубин Б. Издательское дело, литературная культура и печатные коммуникации в современной России // Либеральные реформы и культура. М., 2003. C. 13–89; Дубин Б. Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и издательское дело России в изменившемся социальном пространстве // Неприкосновенный запас. 2003. № 4 (30). C. 136–144; Гудков Л., Дубин Б. Российские библиотеки в системе репродуктивных институтов // Новое литературное обозрение. 2005. № 4 (74). С. 166–202; Дубин Б., Зоркая Н. Книги в сегодняшней России: выпуск, распространение, чтение // Вестник общественного мнения. 2005. № 5 [в печати].
[17] Опрос комплектаторов библиотечных учреждений, проведенный Фондом «Пушкинская библиотека» в 2003 году, показал, что 73% библиотек приобретают учебники для школ и средних специальных учебных заведений, 64% — сборники шпаргалок по разным предметам, рефератов и учебных сочинений. См.: Стельмах В. Кому нужны библиотеки в современной России? // Вестник общественного мнения. 2005. № 5 [в печати], а также ее более раннюю статью: Современная библиотека и ее пользователи // Там же. 2004. № 1 (69). С. 56–63.
[18] Подробнее см.: Палилова И. Социально-демографический портрет пользователей сети Интернет // Интернет-маркетинг. 2005. № 3. C. 15–18.
