Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Культурная революция в провинции
Нижеследующий текст не является попыткой объективного исследования нынешнего состояния российской системы высшего (по большей части — гуманитарного) образования. Автор просто попытался суммировать свой 14-летний опыт жизни в этой системе, точнее — в ее провинциальном варианте. Сейчас автор находится вне ее; и это расстояние, как временное, так и географическое, помогло ему привести в порядок все, что он думает по поводу пережитого внутри. Местами автор не смог остаться бесстрастным и удержаться от этических и эстетических оценок. Ведь речь все-таки идет о судьбах Родины.
1.
Недавно я получил письмо от своего бывшего студента. После окончания университета Д. отправился в аспирантуру: то ли укрываться от армии, то ли обдумать без помех свое дальнейшее житье. В любом случае, будучи человеком одаренным и (что случается реже) обязательным, он принялся за сочинение диссертации — без спешки, но и не отлынивая. Его девушка Света пошла по той же небесспорной дорожке и поступила в платную аспирантуру по философии, которую завел бывший индустриально-педагогический техникум, украшенный ныне славным именем то ли университета, то ли академии. Цитирую письмо с сокращениями; я убрал все, что касается сугубо приватных вещей, иизменил имена и названия:
Уважаемый Кирилл Рафаилович! Мое долгое молчание объясняется довольно банально — депрессивным, нет, скорее каким-то нервическим настроением относительно всего происходящего. Сначала весь издергался со Светкиной аспирантурой, а теперь подошел черед и с моим выше высшего. История Светиных университетов напоминает хорошую обличительную статейку какой-нибудь желтовательной газетенки.
Вы, наверное, помните, как она поступила в аспирантуру в ИПП. Мы купились на то, что ее клятвенно обещали на следующий год перевести на дневную форму обучения. За год юный аспирант показал себя с самой лучшей стороны — учился с удовольствием, кандидатские экзамены сдал на отлично, опубликовал три небольшие статьи в научных сборниках. Профессор от него в восторге — а то, вот незадача, аспирант за аспирантом выпускаются с доработкой диссертации и растворяются в дебрях бизнеса и всего такого прочего. Год проходит, и Света идет к проректору:
— Дневная аспирантура? Какая такая дневная аспирантура? Понимаете, нам выделяют всего восемь дневных мест, а философия у нас непрофилирующий предмет и поэтому кафедре полагается только одно место, на которое нам для поднятия престижа вуза надо взять своего выпускника.
Выпускник — девочка с пятого курса, которая пишет работу про жидомасонский заговор. Да, кстати, надо бы отметить такую забавную фишку этого учебного заведения — совершенно гениальная новация: аспиранты-стажеры, т.е. студенты пятого курса, в течение года готовятся к сдаче кандидатских экзаменов и сдают кандидатские еще до выпускных. Мы о таком и мечтать не смели.
А в это время аспиранты-стажеры, успешно сдав кандидатские, сдают вступительный.
— Может, и мне с ними?
— Ах, какая вы настырная. Знаете, так как вы «с улицы», то экзамен платный, чисто символически — сто рублей.
Света сдает и этот экзамен на отлично. Тогда как аспирант-стажер сдает его на четыре. Вы, конечно, прекрасно понимаете, что в аспирантурах, как правило, только две оценки — отлично и все остальные четверки. Ближе к началу августа опять идем к проректору:
— Извините, что-нибудь известно?
— Нет!
— Но (робко так) мы и экзамены вроде сдали.
— Ах, да. Знаете, у нас освобождается место на втором курсе, на заочном отделении.
Не буду рассказывать, как мы хотели дать взятку и так и не смогли решиться. В это время я встречаюсь уже по своей диссертации со своим научным. Руководитель — мне:
— Нет ли у тебя знакомого, который хотел бы учиться в аспирантуре?
Мы:
— Почему бы и нет!
Светка сдает вступительные экзамены по специальности и вроде как поступает теперь в НИГРУ. Однако не проходит и недели, как звонит мой руководитель и дико извиняется:
— Понимаете, я поговорил с У., и тот хочет на это место пристроить какую-то скандальную, но блатную (он именно так и выразился) девочку из деканата.
Понятно, что блатную девочку взяли. Но, как ни удивительно, Светку в очную аспирантуру все-таки взяли, но, правда, к другому профессору. Светка, конечно, очень жалеет, что пришлось оставить Х., что из классической философии (совета коей у нас в городе нет) пришлось переквалифицироваться в экономические теории, но тему ей новый профессор В. сохранил. Так что у нее теперь куча публикаций, три года безделья и возможность при этом получать специальную стипендию.
С моей аспирантурой история также забавна и грустна. С диссертаций яуложился в срок. Обсуждение на кафедре прошло неплохо. Правда, ученые мужи, читавшие мою диссертацию, предупредили, что, дружок, вряд ли у тебя получится защититься по специальности «Отечественная история». Сдал вдиссертационный совет свою работу, Ю. только взглянул на название и молвил: «Фи! Только на политологию». Я выпал в осадок. В течении трех лет обучения в аспирантуре явсячески старался искоренить какую-либо политологию из своего исследования (у меня дипломная работа была как раз о точке зрения славянофилов на экономику, а также полемика вокруг этой проблемы) и видимо успешно искоренил. Мне по фигу, я здесь плаваю.
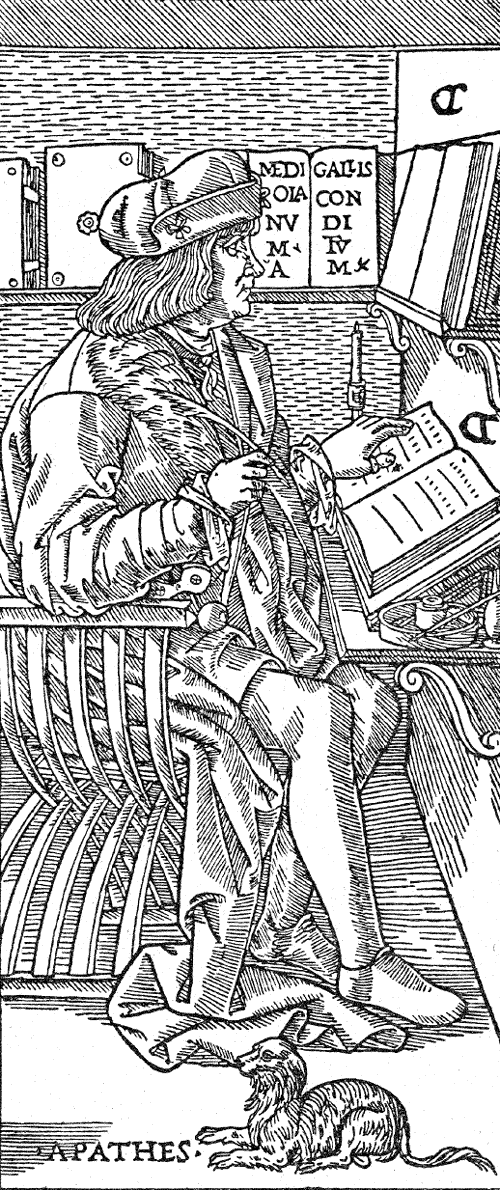
Устраиваюсь на работу на кафедру прикладной социологии. Разговор с Ф. и К.:
— А что бы тебе у нас не защититься? Если ты мечтаешь у нас работать, то нам лучше бы подошли кандидаты своих, социологических наук.
Ф: — По крайней мере, ты можешь защитить славянофилов и на социальной философии (совет тот же).
Я: — Насчет философии я, конечно, подумаю.
Что тут думать, бегать надо.
Ц.: — В принципе по социальной философии подойдет, однако лучше тебе защищаться в совете ЗАВРИ. Но лучше всего (да и меньше исправлений делать придется) защищаться в сельскохозяйственном по истории философии.
Я привел эту длинную цитату из частного письма вовсе не для того, чтобы в очередной раз обличить нравы, царящие в российских учебных и научных институциях. Я хочу, чтобы читатель понял — перед нами не цепочка случайных несуразностей, передержек, не одиссея по морям халатности, невежества и наглости, а точно и строго выстроенная система. Мы наблюдаем не развалины системы высшего гуманитарного образования и вузовской науки, а новую систему высшего гуманитарного образования и вузовской науки, сложившуюся в провинции в 1990-е годы.
2.
Если внимательно вглядеться в российскую систему высшего образования, то сразу возникает кафкианский образ огромной конторы неясного назначения. Правила ее функционирования не известны никому. Все инстанции этой огромной конторы амбивалентны и взаимозаменяемы: одна и та же диссертация, в которой не меняют ни запятой, из исторической превращается в экономическую, из экономической — в социологическую, из социологической — в политологическую и так далее до бесконечности. Иерархия всех этих ИПП, ЗАВРИ и НИГРУ неотчетлива: бывшее ПТУ равно (на каких-то высших, сакральных весах) университету. Однако порядок существует. Его непроницаемость для разума объясняется просто: он сложился не как результат чьей-то высшей воли (например, государства или, как раньше, партии), а стихийно, под влиянием обстоятельств, как возникает коралловый риф или муравейник. Без плана, но прочно и надолго. Этим и отличается кошмар, описанный моим бедным Д., откафкианского. В«Замке» и «Процессе» он — порождение сознания; необязательность этого кошмара, его сновидческие правила есть следствие его собственной сновидческой природы. Образовательно-научный гуманитарный кошмар в нынешней России есть следствие вполне материальных обстоятельств. Создали его вполне материальные мужички и тетеньки несколько даже гоголевского свойства: плотные, любящие покушать, а порой — и сладко помечтать о соборном.
И вот из ворот этой конторы стройными рядами беспрерывно течет поток Крупных Специалистов Во Всем. Промаршировав несколько мгновений, они растворяются в толпе служащих, спешащих в кабинеты. Знаете ли вы эти кабинеты? Нет, вы не знаете их. Там все имеют либо диплом, либо степень: и уборщицы, и пресс-секретари, и начальствующие. Все они — истинные знатоки как самых отвлеченных, так и наиболее насущных предметов: евразийства, геополитики, экономических теорий, римского права, жидомасонского заговора, «новой хронологии», этногенеза славян, подлинной истории Золотой Орды.
3.
Однако будем серьезными. Очевидно, что за прошедшее десятилетие что-то произошло в провинциальном[1] российском высшем гуманитарном образовании и вузовской науке.
Попробую набросать беглый эскиз картины происшедшего в этой области за последнее десятилетие. Только имея в виду все обстоятельства, прежде всего — материального, социально-психологического и идеологического свойства, можно что-то понять в устройстве этой самой конторы, что так мучит моего бедного бывшего студента.
4.
В конце 1991 года вузам принадлежало огромное количество больших и чаще всего — вполне годных к эксплуатации зданий, многие из которых находились в городском центре. Это сыграло отчасти счастливую, отчасти — роковую роль. Сдав от четверти до половины помещений, вузовское начальство могло как-то материально поддерживать сотрудников, особенно в самые тяжелые годы — с1992-го по примерно 1995-й. На деньги арендаторов закупались книги, компьютеры, мел, канцпринадлежности и учебники. С другой стороны, очевидно, что большая часть этих средств была просто украдена. Вещь для России обычная, ничего особенного. Хуже другое: за материальной коррупцией последовала коррупция моральная — руководство вузов стало стремительно криминализироваться, да и соседство офисов, дорогих ресторанов и ювелирных магазинов с обшарпанными аудиториями, переполненными сбитыми с толку студентами, естественно, не повышало самоуважения людей, вовлеченных в систему образования.
Тут необходимо напомнить, что система образования, тем более высшего, — важнейшая сфера именно государственной деятельности. Так сложилось еще в эпоху романтизма и формирования национальных государств. Именно образование представляло собой те железные скрепы, которые держали этнически неоднородные группы в рамках Британии, Германии, Франции и т. д. Немец определялся вовсе не формой носа или головы, а тем, что говорил по-немецки, окончил школу с общей для всей страны программой и национальный университет. Именно образование воспроизводило (и воспроизводит до сих пор) государствообразующую нацию. Об этом писал Эрнест Геллнер и многие другие, но, когда речь идет о том, что случилось с российской системой образования в 1990-е, даже о простых вещах следует постоянно напоминать.
Однако вернемся к нашим вузам. Резкое падение самоуважения, необходимость отдавать часть столь нужных (в условиях постоянно возрастающего абитуриентского набора) помещений нуворишам, оскорбительный социальный контраст, проникший внутрь самого Храма Науки, — все это выводило систему высшего образования за пределы престижного профессионального выбора. Получать высшее образование еще хотели все (после небольшого падения спроса в самом начале1990-х), но работать там — увольте... Отток кадров значительно усилился; подавляющее большинство преподавателей помоложе, те, кто не в состоянии был унижаться (социально, экономически, психологически), ушли в самые разные сферы. Я бы не сказал, что ушли все самые лучшие, так как преданность своей профессии есть замечательное и не столь уж редкое качество российского педагога и ученого; но ушли самые мобильные и социально активные. Оставшиеся стали вживаться в роль незаслуженно обиженных, отверженных новым режимом, роль ностальгантов по сладким советским временам (забыв, что в те времена доцент все равно получал в два раза меньше литейщика). Вузы, особенно гуманитарные отделения, превратились в национал-коммунистические заповедники.
Но вернемся к «материально-технической базе нового российского высшего образования». Убогость ее поражает. Редкие (и почему-то довольно дорогих моделей) компьютеры среди нечеловечески изношенной мебели, ободранных стен, обваливающихся потолков. Остатки советских плакатов и наглядной агитации. Синяя больничная краска. Толпы одетых (гардероб никогда не работает) студентов, обвешанных сумками и пальто. Такое впечатление, что это не просто бедность, а бедность тщательно продуманная, нарочитая, как поза: «вот до чего нас довели, посмотрите». Язвы и культи напоказ. Меж тем ректорские кабинеты обставлены приличной мебелью, в проректорских — скучающие секретарши играют в компьютерные игры, в деканатских холодильниках всегда сыщется и шампанское, и коньячок...
Впрочем, это взгляд эстетический. На самом деле это даже неважно для образования и науки: стены, полы, гардероб. Важно другое: книги и учебники. Вот здесь-то и произошло чуть ли не самое главное.
5.
На Западе сейчас учатся не по учебникам: есть превосходные хрестоматии, научные журналы, монографии... Есть библиотеки, где все это вполне доступно, где читальные залы — превосходны, библиотекари — доброжелательны, копировальные аппараты — на каждом шагу. Есть, в конце концов, Интернет. Конечно, в большинство книг студенты так и не заглядывают, но возможность учиться есть. В России начиная с 90-х годов гуманитарии тоже учатся практически без учебников. Во-первых, потому что учебников физически не хватает на всех. Во-вторых, те, которые есть, по большей части лучше бы изъять из употребления и уничтожить. Например, советские учебники по истории XIX и XX века стоило бы собрать и отправить на дружественную Кубу или в КНДР. С учебниками по философии, естественно, следует поступить так же. Новые пособия, скажем, по истории XX века написаны в основном теми, кто оказался среди «обиженных», кто, посматривая на «богатую жизнь», бегает по грошовым подработкам в бывшие ПТУ. В результате в новых учебниках есть все: «происки американского империализма», неистовый монархизм вперемешку с неистовым большевизмом, мрачные намеки на национальность некоторых исторических деятелей.
Но дело даже не в социальной ущемленности авторов. Новые учебники просто невозможны — ни концептуально, ни контекстуально. Учебник по истории (или истории литературы, философии, социологии и проч.) есть всегда прямое порождение «большого стиля», «большого нарратива». В нем должны быть отражены все общие места общих представлений эпохи. Чем проще и логичнее учебник, тем он лучше. Для его появления нужно также представление о прошлом как о единонаправленном процессе и о настоящем — как о результате этого процесса. К тому же истинный учебник исполнен телеологического пафоса — он поддерживает стремление общества к некоей цели, пусть эта цель почти никем не осознается как таковая и не артикулируется. И писать, между прочим, его должен человек «большого стиля», находящийся в мейнстриме, а не на метафизических или социальных задворках. Вот почему попытка сочинять учебники в90-е годы закончилась провалом. Имитация большого стиля жалка; невозможно, поменяв марксизм-ленинизм на несусветное варево из «пассионарности», ксенофобии и дурно понятого структурализма, изложить цельное мировоззрение. А учебник, настоящий учебник, и есть такое мировоззрение. По логике вещей, вместо «пролетариата» во «всеобщий курс чего угодно» должно было прийти государство — единственная ценность, оставшаяся в России после уничтожения «идеологии» и«империи». Но оно не пришло, прежде всего по собственной дурости.
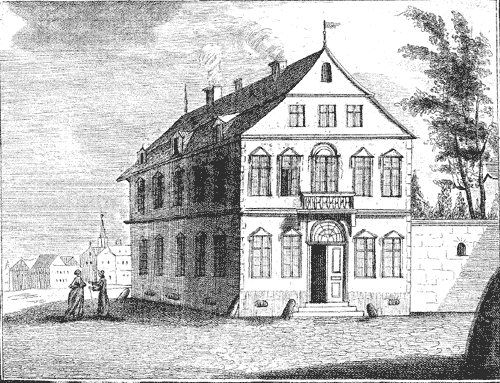
Известно, что человек рождается в весьма слабом состоянии,
так что сам промышлять нужного к своему содержанию нисколько
не может и необходимо требует прилежнейшего о себе попечения
от других до тех пор, пока возрастет и придет в силы.
И так для избежания от сего труда или, по крайней мере,
для некоторого хотя бы облегчения оного, при умножении большего
числа детей, у многих древних народов введено было в обыкновение
подкидывать новорожденных на улицы. Да и в наше время еще есть
такой народ, который почитается разумнейшим в свете, и в прочем
от самых Европейцев великими превозносимый похвалами, держится
жестокого сего древнего обыкновения и без наималейшего сожаления
детей своих, сколь скоро они родятся, не сомневается то подкидывать
к другим, то бросать к свиньям на съедение.
Зато явилась разная шваль: пестрые обрывки систем, региональный национализм, зависть, корысть, лень, ложь. В 90-е постмодернизм восторжествовал не в столицах, не в скучных сорокинских фокусах или пелевинских бреднях и даже не в пестрой (но цинично-талантливой) эклектике «Старых песен о главном», аврусской провинции — в учебниках, сочиненных за пару дней на скудный грант, в учебном плане местного пединститута, где батюшка, толкующий о греховности коротких юбок, соседствует с молодящимся доцентом из бывших научных коммунистов, воспевающим Деррида, в диссертациях с цитатами из Макса Вебера и Дугина... Русская провинция, точнее — ее интеллектуальная элита, решила, что помощи ждать нечего, а жить — надо. И зажила: со своими праздниками, своими газетами и телевидением, своей системой образования, своими учебниками. А тут еще сформировалась региональная политическая и бизнес- (что впровинции, конечно, одно и то же) элита. Те, кто мыкал горе по кафедрам за 25 долларов в месяц, стали понимать, что появился новый заказчик и хозяин.
6.
«Горемыки» и новые хозяева поняли, что не могут прожить друг без друга, в середине 90-х. Местным начальникам и верхушке бизнеса понадобилась опора — и для укрепления своих позиций, и для более точного осознания своего места и своей роли. Эти новые феодалы захотели иметь свой двор, как у настоящих королей, с поэтами, учеными и начитанными советниками. Профессорско-доцентская гуманитарная масса, точнее те, кто не сделал ставку на конвейерное грантодобывание или на аскезу и духовный подвиг, сразу оценили новую ситуацию. Каждый вуз заимел своего патрона. Конференции памяти почивших лет тридцать назад специалистов по Аристофану стали проводить под отеческим присмотром мэров и губернаторов. Возникли разного рода консультационные комитеты и даже институты (вплоть до самых фантастических: Исследовательский институт международных отношений в условном Отрепьево или Геополитическое общество в не менее условном Замостье), которые стали восприниматься всерьез. Деятели странных институций зачастили на местные телеканалы, а их оценки происходящего (всего на свете — от рецессии на Востоке до либерализма на Западе) все чаще украшают заголовки местных информационных агентств. Начальство в долгу не осталось. Возник своего рода негласный договор, по которому администраторы и крупные бизнесмены стали подкидывать небольшие суммы вузам и предоставлять кое-какие должности бывшим политэкономам и филологам, а взамен... Взамен они получили не только идеологическую и интеллектуальную поддержку своего удельного могущества (едва поколебленного в самом конце десятилетия новым президентом), но и настоящие кузницы кадров для своих департаментов, банков и дочерних структур.
Именно тогда выяснилось, что кузниц не хватает. Их начали судорожно строить. В результате все ПТУ и техникумы превратились, как минимум, в лицеи и колледжи. Параллельно начальники решили повысить образовательный статус. Мэры из бывших киномехаников в три года стали заканчивать исторические факультеты (сплошные пятерки в зачетке и почетная грамота по окончании), автомобильные дилеры удостоились академических званий honoris causa, а некоторые губернаторы, наиболее просвещенные и тщеславные, даже защитили по докторской диссертации. А потом и академиками стали, благо в каждом из новых лицеев и университетов завелось по своей академии. Умилительный союз власти, денег, науки и образования.
7.
Но вот вопрос: каков механизм этой новой системы гуманитарного образования, кто в ней электроны, кто атомы, кто — молекулы?
На атомарном уровне «новая» система совсем не отличается от «старой». Как уже было сказано, люди, работающие сейчас в вузах, — те же, что и раньше, или почти те же. Не знаю, проводились ли социологические исследования изменения среднего возраста преподавателей за последнее десятилетие, но мои сугубо частные наблюдения свидетельствуют — гуманитарная высшая школа постарела. Аспиранты, «закосив» от армии на три-четыре года, стремительно покидают Храм Науки, как только находят достойную в денежном отношении работу. Десятки тысяч недописанных диссертаций буквально усеяли пространство между дипломом о высшем образовании и дипломом кандидата наук. Так что руководят кафедрами, факультетами и даже нынешними академиями, колледжами и прочими лицеями пятидесятилетние. Те, кому в 1991 году было лет сорок, кто тогда только что стал доцентом, но — по разным причинам — не отдался со всей страстью брокерскому делу или столь прибыльной «обналичке». Именно они начальствуют в нынешней кузнице кадров новейшей (и будущей) провинциальной российской жизни.
Что же это за люди, спросите вы. Отвечу: несчастные, замученные жизнью, невероятно энергичные, с огромным трудом поддерживающие невысокий жизненный уровень. Очевидно, что ставки доцента, кандидата наук (около 1 200 рублей, в разных регионах по-разному) хватает только на коммунальные платежи и транспортные расходы (да раза два в месяц зайти после работы в пивную). Впрочем, на ставку мало кто работает; норма — полторы ставки. Но это уже очень много: почти полторы тысячи учебных часов в год. То есть больше 100 часов в месяц— в среднем 27–28 часов в неделю. Усилиями московских образовательных начальников в последние несколько лет соотношение между так называемыми тяжелыми «горловыми» часами и более легкими (проверка контрольных, экзамены, руководство практикой) резко изменилось в пользу первых. Для сравнения: четыре часа лекций в неделю для преподавателя западного университета — это уже очень много.
Итак, перед нами люди тяжелого, я бы сказал физического, труда. Помимо своих вузов, они чаще всего работают и в других: на полставки, на ставку и проч. Плюс подготовка абитуриентов. В итоге вся эта каторга приносит, в лучшем случае, долларов 200–250 в месяц.
Естественно, что времени готовиться, читать книги, просто думать у нынешнего преподавателя нет. Да и книг-то у него нет. В провинции практически полностью разрушена система научных библиотек. Новых поступлений не было уже лет десять. Об иностранных изданиях можно забыть. Покупать научные книги в магазинах преподавателям не по карману (при таких заработках), к тому же почти умерла и система распространения научной литературы. Командировки в столичные библиотеки начальство дает крайне неохотно, да и долго в Москве на гроши не проживешь: все-таки один из самых дорогих городов Европы. Финансовые и физические мучения дополняются мучениями моральными. Столичные ученые (не без основания, конечно) посматривают на провинциальных собратьев, мягко говоря, свысока: методологически беспомощные, не знающие (или забывшие) языки, выпавшие из современного научного контекста провинциальные доценты, словно родственники из деревни, молча сносят усмешки блестящих столичных штучек и покорно стоят в огромных очередях за публикацией в столичном журнальчике или же — за грантом.
О грантах стоит поговорить особо. Система грантов, призванная заменить строгой объективностью капризную прихоть мецената, сама давно превратилась в«коллективного мецената», не менее капризного, к тому же — насквозь коррумпированного. Из золотых дождей, просыпаемых над столицей, только крохи падают на скудную провинциальную почву, да и те гроши мгновенно подхватываются самыми быстрыми и ловкими. Я не буду подробно говорить о последствиях, они известны всем: кто не держал в руках пухлый том полусумасшедшего «фашизоида», изданный на деньги сверхлиберального фонда, кто не листал изданный в широко разрекламированной серии стостраничный пересказ всей мировой истории, кто не вкушал водки на «международной конференции», все заседания коей проходили в ресторанных залах? Если серьезно, то грантовая поддержка может быть эффективна только тогда, когда существуют человеческие условия для образования и науки, когда получить грант — не значит дотянуть до следующего года (и следующего гранта), а наоборот — получить сверх обычного и спокойно потратить полгода на сидение в библиотеке. Нищий тратит грантовые деньги на хлеб и водку, обеспеченный — на науку.
Есть у нынешнего провинциального деятеля высшего образования еще один (порой главный) источник дохода. Взятки. Их спектр простирается от невинных бутылочек-конфеточек до вполне осязаемых и почтенных сумм. Я не преувеличиваю: нынешняя российская система образования тотально коррумпирована; более того, отчасти сама цель ее существования (после того как государство унизило ее до нищеты) — получение дохода от коррупции. Живописать не буду, мало что изменилось со времен Гоголя и Щедрина, разве что экзотические и милые борзые щенки сменились невероятно богатым ассортиментом тривиальных и нетривиальных услуг, но все же чаще — долларом, этим вечнозеленым всеобщим эквивалентом российской экономики.
Вот на этих людях — загнанных жизнью, вынужденных не работать, а халтурить (что это за преподавание по восемь часов в день?), социально оскорбленных, впадающих в самое банальное невежество, идущих на постоянные сделки с совестью, чтобы выжить, — держится новая система высшего образования. Идеальные производители нового поколения местной элиты. Так что же это за поколение, уже неспешно рассаживающееся в своих кабинетах?
8.
Прежде всего, стоит забыть все традиционные представления о студенчестве как о буйной и вольной братии, предающейся разгулу, одержимой левацкими идеями и научными фантазиями. Ничего подобного. Никакого Годара с Антониони. Никаких Вудстоков. Провинциальный (гуманитарный) студент— существо по большей части тихое и запуганное. За плечами его школа — либо хорошая и новомодная городская, где сбитые с толку учителя пичкали его историей искусства и латинским языком, но позабыли рассказать историю и литературу XX века, либо плохая (вариант — деревенская), где его вообще ничему толком не учили. Но о школах следует писать особо и вдумчиво. Здесь, в вузе, вечно торопящиеся преподаватели на ходу читают студенту невнятные общие курсы, которые надо непременно записывать, поскольку учебников либо нет, либо, как уже говорилось, лучше бы их не было. Но сдавать предмет надо — особенно парням, ибо за двойкой по античной литературе или новейшей истории Запада маячит страшная армейская служба и — в худшем случае — Чечня. Это очень сильный аргумент, сильнее прочих; отсюда органический конформизм нынешнего российского студента. Кроме того, к третьему курсу он окончательно запутывается и в самой системе обучения. Эксперименты первой половины 90-х, попытки ввести разные бакалавриаты и магистратуры, перестройки хронологически ориентированного общего гуманитарного курса в так называемые «концентрические», затеи со свободной записью на спецкурсы (при сохранении жесткой привязки преподавательской ставки к количеству часов), изобретение невиданного количества халтурных предметов, призванных занять всех оставшихся без работы крупных специалистов по истории КПСС и международного рабочего движения, — все это полуразрушило мощную советскую образовательную систему, логичную и ориентированную на еще наполеоновские образцы. Именно полу-, не до конца разрушило. Однако возникший «новый порядок» только мимикрировал под старый, точно так же, как всё в России второй половины 90-х, особенно после дефолта, стало мимикрировать под советское былое. Выглядит этот «новый порядок» так. Общие курсы сохранились, но толком их читают лишь первые года два; чем хронологически ближе к современности, тем чаще преподаватель вместо нормальных лекций предается собственным идейно-политическим рассуждениям и воспоминаниям. Об общей идеологической моде этой публики я уже говорил. Неопрятные спекуляции на национальные и классовые темы дополняются списками литературы, где самым академичным из авторов, безусловно, является Лев Гумилев. Есть, конечно, «прогрессивные» преподаватели, с места в карьер проповедующие всяческие дискурсы и симулякры. Бодрый Бодрийяр оказывается в студенческом рюкзаке рядом с мохнатым Тихомировым. На обязательной истории искусств заставляют пристально вглядываться в черно-белые репродукции Глазунова и Энди Уорхола. На политологии осуждают американские бомбежки Сербии. На политэкономии намекают на национальность Фридмана. Человек, который пришел честно учиться, должен либо сойти с ума, либо прагматически согласиться со всеми — либералами, фашистами, монархистами и просто сумасшедшими. Особенно с сумасшедшими. Лучше вообще молчать, чтобы не загреметь в чеченскую «зеленку», да вовремя отстегивать бабки и смазывать опасные переходы с курса на курс. Лучше иметь на стороне работу или — еще лучше— бизнес, а в «институт» ходить как можно реже.
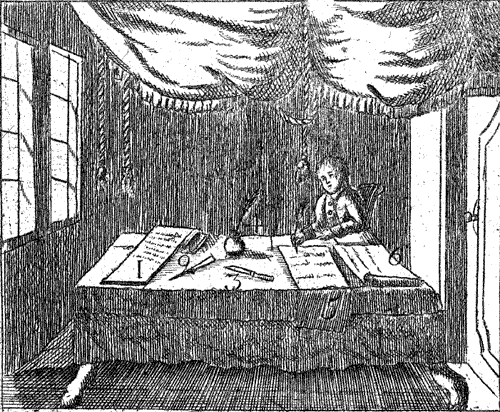
А на втором плане гудят еще огромные толпы немолодых вечерников и заочников — мелких чиновников, банковских клерков, военных и милиционеров, секретарш, скучающих домохозяек — всех тех, чье обучение носит еще более фантастический характер, тех, кто приходит на экзамены, не зная названий предметов, и не может на пятом курсе вспомнить даты Великой Отечественной войны или автора «Анны Карениной», — малограмотных, набранных вузовским начальством по разнарядке и из жадности, ибо часть мест — платные.
И, наконец, третий круг — десятки тысяч контор почти виртуальных, обучающих за небольшие деньги чему угодно, дающих уже все равно какие дипломы; контор, где цепочка «деньги — лекции — экзамены — диплом» эффективно сокращена до двухэлементной связки «деньги — диплом». Экономика должна быть экономной.
9.
Уже почти десять лет эта новая система образования штампует новое поколение, новую провинциальную (а отчасти и столичную) элиту по своему образу. Невежество, моральная ущербность, ползучий прагматизм, умение мгновенно приспосабливаться, становиться социально близким любому, кто сильнее тебя, — вот основные признаки и этой системы, и этого поколения. Конечно, «новые люди» еще не проявили себя полностью, еще не стали настолько могущественны, чтобы развернуться по-настоящему, но уловить их характерные черты можно там, где они уже — почти главные. В местных СМИ, например. Почитайте, послушайте этих людей, взгляните на придуманные ими «информационные программы», «исторические календари», «кухонные шоу» — и вы узнаете каждую строчку в их студенческой зачетке, каждый сданный ими экзамен, каждую «отстегнутую» ими взятку.
Драма тех, кто рулил в 1990-е (и, соответственно, сформировался в 1970-е и1980-е), заключалась в том, что одна система ценностей сменялась в их головах другой. Это была действительно драма. Несмотря на внешний цинизм, люди90-х были, несомненно, «идейными», с ними происходила некая «идейная эволюция», потому они смогли создать и артикулировать социальный, политический и культурный язык десятилетия. Люди 90-х соотносили себя с историческими и культурными героями: один видел себя Катковым, другой — Столыпиным, третий — вообще чуть ли не Пушкиным. Люди 90-х были продуктом российской истории и культуры; для них написаны «Евгений Онегин», «Отцы и дети», «Архипелаг ГУЛАГ» и «Голубое сало», для них, скажем, 22 июня1941года или 1 марта 1881 не пустой звук, для них еще важно, — прав был Петр Великий или нет...
Пока это поколение переживало драму, вечный двигатель новой системы образования выдал другое, основная характеристика которого заключается в слове «новое». Адамическое поколение. Без прошлого, точнее, — с какой-то бесформенной невнятицей в прошлом. Индифферентное. Лишенное традиционных ценностей. Не придумавшее новых. Обходящееся полублатной корявой речью. Идеальное сырье для любой «сильной» власти.
Получается, что в стране произошла «культурная революция» — на манер той, что отштамповало серое поколение, пришедшее к власти в СССР в тридцатые. По своим качествам выпускник Скотопригоньевского педагогического университета 1999 года мало отличается от выпускника Самарской академии красной профессуры 1923-го. Сегодня он руководит сельсоветом, завтра — с тем же успехом — репертуарным отделом театра. А могут «бросить» и на добычу угля. Или в лагерь. Все равно.
И действительно, выполнена главная задача «культурной революции» — как понимал ее Ленин или Мао. «Культурная революция» как разновидность (иногда дополнение, иногда замещение) социальной. Изменение отношений собственности дополняется переустройством социально-культурной ситуации; общество психологически, идеологически и культурно приготовляется к вылепливанию из него совсем другой фигуры. Для этого перемешиваются, а потом и окончательно разрушаются все устойчивые связи, традиции и привычки: от кулинарных до тех же образовательных. Из культуры выдергивают стержень иерархии ценностей. Когда она обмякает, нам показывают бесформенную кучу и говорят: неужели вам ЭТО нравится? В итоге человека вырывают из привычного контекста, и он, чувствуя себя голым и слабым на вселенских ветрах, может быть без труда перемещен в новый. «Культурная революция» всегда — уничтожение контекста, а «новый человек» — побочный продукт этого процесса.
Уникальная особенность культурной революции в русской провинции 1990-хзаключается в том, что у нее не было автора, вождя и даже — до определенного времени — заказчика. Она началась как поистине народное движение и некоторое время происходила сама собой. В этом ее главная познавательная ценность: анализируя ход культурной революции 1990-х, можно понять, чего на самом деле, бессознательно хотело постсоветское российское общество в моменты, свободные от участия в глобальных проектах, сочиненных в столичных кабинетах.
Но эпоха революций завершена. Масса уже вполне готова к формовке.
[1] Я все время оговариваюсь, что в «провинциальном». Столичный материал знаком мне не настолько, чтобы делать даже минимальные выводы. Хотя интуитивно, мне кажется, я понимаю, что там происходит. И еще: я говорю только о тенденциях, а не об отдельных людях. Люди все разные, а тенденции – одинаковые
