Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Армия как двигатель прогресса
В обыденном сознании вмешательство военных в гражданскую жизнь носит сугубо негативный оттенок. Термины «хунта» и «военная диктатура» оказываются тесно связанными с представлением о «торжестве реакции» и консервацией устаревших социальных и экономических отношений. На самом деле явление, именуемое «военная революция»*, часто служило противоположным целям — модернизации экономики и общества.
Серию новых военных революций в некоторых странах «второго эшелона» вызвал к жизни переход от традиционного к индустриальному обществу. В отличие от ранних военных революций первой четверти XIX века с преобладанием младших и средних по званию офицеров, интегрированных в конспиративные военно-гражданские союзы и легко блокировавшихся с гражданскими политиками, новые были связаны с высшими военными чинами, что дает основание определить их как военные революции «сверху».
В историко-социологической литературе эти прецеденты характеризуются как незаконное низложение центральной власти, сопровождающееся подрывом экономического, а также политического лидерства старых (доиндустриальных) сословий. Последнее и отличает военную революцию от военного политического переворота, который ограничивается лишь политическими изменениями. Сопоставимая по масштабам с социальной революцией, военная революция «сверху» исключает мобилизацию масс, равно как и обращение к радикальной идеологии. По мнению американского социологаЕ. К. Тримбергера, для успеха подобных революций необходимо пять предварительных условий:
1. Автономность военного корпуса, т. е. его отделенность от господствующих социальных групп землевладельцев или предпринимателей. Как правило, автономный корпус составляют выходцы из средних слоев населения, достигающие признания своих заслуг не за счет связей с правящей элитой, а благодаря профессионализму, что придает военным независимость и позволяет им выступать в роли надклассовой силы.
2. Единство политических взглядов и интересов военных. Подобная однонаправленная политизация военных кругов становится реальна при угрозе существующему порядку.
3. Опасность порабощения, обусловленная проникновением иностранного капитала в слабую отечественную экономику и вмешательством иностранных государств во внутренние дела. В этом случае национальное освобождение через национальное строительство становится ведущей функцией армии.
4. Расклад сил в международных отношениях: он должен быть благоприятен в том отношении, чтобы исключить иностранную интервенцию на период проведения революционных преобразований.
5. Опорные пункты влияния на периферии, которыми, помимо базы в политическом центре, должна располагать в относительно децентрализованных государствах военная бюрократия[1].
Следует добавить еще одно условие: военная революция немыслима без харизматического лидера, пользующегося поддержкой нации.
Почему именно военным администраторам выпадает миссия проведения масштабных перемен? Причины коренятся, с одной стороны, в недостатках политической сферы развивающихся стран — ее слабой институционализации и легитимном вакууме центральной власти[2]. С другой — в неоспоримых преимуществах армии как организации, построенной на началах рациональности, дисциплины и эффективности[3]. К тому же, по справедливому замечанию американского социолога Л.Пая, армиям развивающихся стран присущ дух «ускоренного технологического прогресса»[4]. Военные наиболее чутко реагируют на технологические достижения высокоразвитых индустриальных держав и свое несоответствие мировым стандартам. Поэтому скорость аккультурации в армейской среде, как правило, бывает выше, чем в любой другой. На этом же основании Л. Пай опровергает распространенное мнение о военных как о врагах либеральных ценностей, демократических процедур в общественно-политической жизни. Именно военные, последовательно внедряющие в своей организации принципы меритократии, одними из первых выражают готовность перенести их на сферу гражданских отношений. Военные — приверженцы динамичного развития в своей профессиональной области — по сравнению с другими институциональными субъектами проявляют большую готовность и к устранению анахронизмов в гражданском социуме[5].
Зарегламентированность поведения военных, связанная с их подчинением уставу и ритуалам, в данном случае работает только на пользу дела: благодаря ей удается оптимальным способом увязать цели со средствами и методично осуществлять намеченный план действий. В истории XX века можно найти немало впечатляющих примеров деятельности военных на благо своих стран. Это — Индийский и Малайский регименты, Филиппинские скауты, Арабский легион, Королевские стрелки в Африке и многие другие. Однако наиболее заметный след в истории своих народов в конце XIX — начале XX века оставили основоположники Реставрации Мэйдзи в Японии, представители так называемого демократического цезаризма в странах Латинской Америки, Кемаль Ататюрк в Турции и А. Насер в Египте.
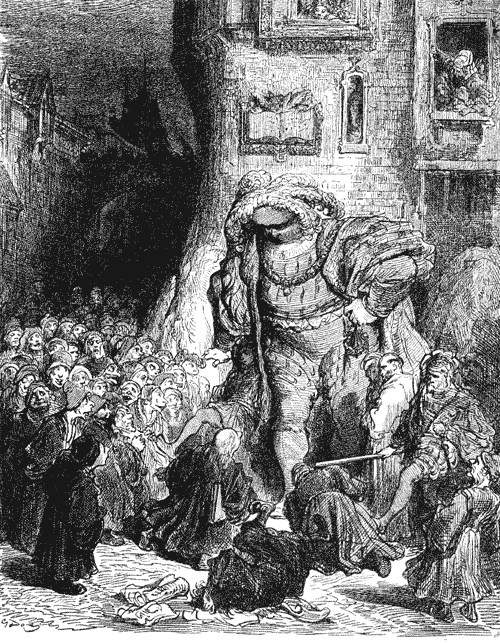
Характерно, что поколение военных революционеров приходило на то место в политической жизни, которое уже отчасти подготовили для них предшественники. У творцов японского «чуда» конца XIX века это были участники так называемого движения «верноподданных» 1853–1868 годов. У «отца всех турок» — выученики танзимата «новые османы» и «младотурки», у «демократических цезарей» Латинской Америки — поколение «маршалов Аякучо» (Боливара, Сен-Мартина, Сукре, Каррероса, Бельграно) и «креольских интеллектуалов» — идейных наследников Великой французской революции. В Египте — реформы Мухаммеда Али впервой половине XIX века, а затем — на этапе новейшей истории — деятельность «Свободных офицеров» в роли управленцев-регентов при наследном принце. Смысл деятельности этих предтечей военных революций Е.К. Тримбергер удачно определил как «защитную вестернизацию». Озабоченные выживанием своих стран в условиях натиска враждебных сил извне и завороженные индустриальной мощью передовых держав, они пытались совместить западные технологии и традиционные ценности. Зачастую их концепции были безнадежно утопичны, цели амбивалентны, а ресурс влияния недостаточен для того, чтобы поставить под свой контроль политические институты[6]. Тем не менее многим из них удалось предвосхитить своих более удачливых преемников в постановке насущных задач.
Военные революционеры приходили в мир большой политики тогда, когда в нем уже потерпели фиаско группы гражданских и военных реформаторов, пытавшихся обеспечить выживание своих стран в условиях нарастающего отставания от своих противников и конкурентов. Их призванием становилось исправление ошибок и недочетов предыдущих политических команд в проведении модернизации. На их деятельность накладывался отпечаток двух обстоятельств: враждебных вызовов обществу извне, заставлявших его в порыве отчаяния делегировать не-
объятные полномочия «спасителю» в униформе, и неудачами предшественников, работающих в режиме «мультипликатора» на легитимацию новоявленного лидера. Последний выступал прежде всего в ореоле объединителя раздробленного, охваченного эсхатологическими переживаниями общества. Волшебным средством, позволявшим добиться сплочения нации, в их руках служил национализм. В принципе такое идеологическое сопровождение модернизации не представляло собой ничего нового даже по сравнению с опытом стран первого эшелона индустриального развития. По оценке швейцарского историка и социолога У. Альтерманна, национализм как интеграционная идеология «был и двигателем, и продуктом перехода от абсолютистского и сословного общества к буржуазному индустриальному обществу» в большинстве стран Западной Европы. Он ставил на службу политике прошлое страны, подчеркивая значение национальных побед над национальными врагами, и включал отдельных людей в единую политическую систему[7]. Для лидеров военных революций в не западных странах националистическая доктрина нередко была последним прибежищем в приостановлении всеобщего разброда и распада. На этом основании Л. Пай совершенно справедливо придает ей функцию защитного или «ответственного национализма»[8]. Первые победы, одержанные с помощью подобной идеологической мобилизации масс, становились началом преодоления комплекса национально-государственной неполноценности и развертывания капитальных восстановительных работ. Последовательное овладение национальными символами давало, в свою очередь, мощнейший ресурс власти генералам-харизматикам, позволявший им раскрутить маховик структурных реформ. При этом в отличие от многих гражданских революционеров они поначалу стремились не столько ликвидировать институты и знаковый фон старого режима, сколько поставить их себе на службу. Даже сам высокий ранг этих деятелей в административно-бюрократической иерархии превращался в дополнительный источник легитимации их политической практики. А установка на преемственность со старым порядком позволяла расширить опоры власти в социуме и добиться первичной консолидации на национально-патриотической платформе.
Пожалуй, классическим примером описанной стратегии в рамках военной революции была политика Мустафы Кемаля в Турции. Ставший к концу Первой мировой войны национальным символом, генерал поначалу тем не менее предпочитал действовать в тени младотурецкого Комитета «Единение и прогресс». С помощью его местных отделений на оккупированной территории была создана сеть групп сопротивления. Собрав в кулак эту организационную силу, Кемаль добился открытия в 1920 году парламента — Великого национального собрания. Примечательно, что 50 процентов мест в нем заняли чиновники правительственного аппарата и члены прежнего парламента[9]. Идейным базисом, который смягчал и нивелировал различия во взглядах старой и новой элиты, стала кемалистская концепция турецкого национализма. В отличие от предшествующих идеологических доктрин эта адресовалась туркам, проживающим в границах своей национальной территории. А призыв «Независимость или смерть», обращенный к согражданам, поднял на ноги все физически дееспособное население Анатолии, включая женщин и детей. В итоге в 1922 году на волне небывалого национально-патриотического подъема вся территория Анатолии была освобождена от интервентов, а вождь сопротивления получил карт-бланш на форсирование реформаторского курса. В 1922 году был упразднен султанат, а в 1923 году установлено республиканское правление[10].
Итак, солдаты, выраставшие в политиков на фоне кризисов, прибегали к оборонительному национализму в первую очередь в виде психотерапии ослабленного, фрустрированного общества. Во вторую очередь — как к формуле сложения социальных сил в переходный период. В третью — как к наиболее удобному в сложившейся ситуации фону для крупномасштабных трансформаций. В своем реформаторском продвижении эти лидеры, как правило, воздерживались от фронтальных сокрушительных ударов по персональным и полномочным представителям старого режима, а выбирали тактику инфильтрации в действующие органы старой власти. Они не разрушали структурообразующих политических институтов, а строили «обводные каналы», организуя таким способом свободное перетекание власти от старых центров к новым. В равной мере политикам этого закала претило установление единоличной диктатуры с опорой на вооруженную силу. По такому пути не пошли ни отцы-основатели современного японского государства, ни Ататюрк. Последний ввел в состав своего правительства всего только трех военных. А «демократические цезари» Латинской Америки вообще предпочитали индивидуализированной власти правление коллегиального органа — хунты со смешанным военно-гражданским составом[11].
В такой же манере поступательного движения был организован социальный инжиниринг. Как и в политической области, военные лидеры здесь оставались верны своей манере пошаговых изменений с наименьшими издержками. Так, отмена ограничений на тот или иной вид профессиональной деятельности, раздача пенсий и небольших кредитов самураям, создание для них рабочих мест скрепили союз лидеров Реставрации Мэйдзи с их главной группой поддержки — самураями низших и средних рангов. Уничтожение феодальных застав, снятие запретов на сделки с земельной собственностью, последовательный протекционистский курс вместе с дальнейшим проведением приватизации многих государственных предприятий обеспечили новой власти безоговорочную поддержку предпринимательского класса. Наконец, конвертирование феодальной ренты в облигации государственных займов и другие ценные бумаги обусловило возможность компромисса с феодальной аристократией. Точно так же сохранение экономической базы старых привилегированных групп (кроме духовенства) османского населения и их представительство в меджлисе при Ататюрке помогли избежать гражданской войны. А мощная поддержка грюндерству, наряду с отменой льгот для иностранных концессионеров и банкиров, в рамках этатистской концепции народно-хозяйственного развития гарантировали режиму абсолютное признание со стороны нарождающегося национального капитала.
Похоже повели себя на этапе перехода к индустриальному обществу военные Латинской Америки. Активно сближаясь со средним классом и интеллектуальной элитой как наиболее последовательными поборниками технологического прогресса, они не торпедировали позиций земельной аристократии и католической церкви. Сохранение латифундий и влияния церкви заставляло более или менее мириться с их кипучей деятельностью старых хозяев страны. А симпатии новых привлекала борьба за возрождение национальной экономики: освобождение от пут иностранного капитала, освоение отсталых в хозяйственном отношении регионов, инвестирование средств в индустрию, транспорт, связь.
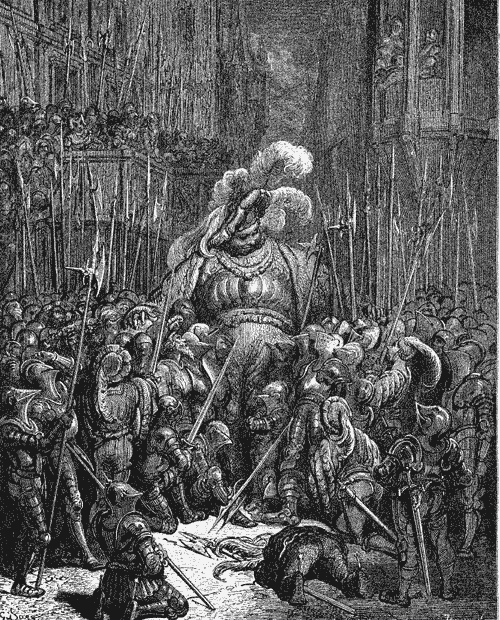
Несмотря на то что насеризм проявил себя несколько иначе, в принципе и для него не была характерна жесткая система приматов в социально-экономической и политической сферах. Так, например, после арабо-израильской войны 1967 года, изменившей расстановку сил в регионе, Насер перешел от политики давления на аравийские монархии к установлению союзнических отношений сними, изменил статус Суэцкого канала. А его преемник А. Садат провел разгосударствление экономической собственности и приватизацию многих предприятий, давших фору становлению класса собственников и усилению позиций правящего режима в предпринимательских кругах[12].
Итак, помимо всего прочего, большинство лидеров «классических» военных революций владели счастливым даром избегать тяжелых побочных эффектов своих преобразований. Всячески содействуя подъему национальных экономик, они заключали прочный союз с восходящими социальными силами. Благодаря умелой нейтрализации старых элит им удавалось предотвратить контрреволюцию. Партизанские действия гражданского населения и леворадикальный экстремизм сдерживала объявленная всенародным делом борьба за национальное возрождение.
Разумеется, относительно спокойный приход к власти военных лидеров и мирный процесс запущенных ими общественных трансформаций присущ тем странам, которые были поставлены перед историческим выбором — национально-государственного самосохранения либо порабощения великими державами. Именно при такой постановке проблемы военные руководители могли опереться на массовую поддержку населения и консолидированную помощь своих подчиненных в вооруженных силах. Сложнее обстояло дело в тех случаях, когда такие акции планировались в рамках не деморализованных внешней угрозой плюралистических режимов, с разнонаправленными и активно действующими политическими субъектами — общественными группами интересов, политическими партиями и движениями, каждый из которых имел свою социальную базу в обществе. Сложность заключалась не только в том, чтобы добиться преимуществ над ними, но и в том, чтобы не допустить перехода на сторону тех или иных политических группировок военных частей — ведь при таком раскладе политических сил главную ставку в овладении властью восходящие военные лидеры могли делать только на армию. Исторический опыт показывает, что использование армии в качестве инструмента установления военного режима возможно, если между армией и гражданским обществом воздвигнуты барьеры. Скажем, если в перевороте задействованы части колониальных вооруженных сил, долго находившиеся вдали от средоточия политической жизни в метрополии и не затронутые чуждой агитацией и пропагандой, как это было, например, в Испании в ходе франкистской революции. Или если из ключевых подразделений военного ведомства заблаговременно и методично удаляются все сколько-нибудь неустойчивые в политическом отношении элементы, как это было в преддверии переворота генерала А. Пиночета в Чили.
Иначе строится и технология вхождения во власть военных вождей в тех системах, где значительная часть населения не склонна принять их добровольно. Естественно, что здесь изначально предполагаются силовые методы, которые могут быть довольно разнообразны: гольп — устранение официальных представителей режима силами элитных воинских частей, действие, которое, как правило, включает в себя штурм правительственных зданий и физическую расправу над их обитателями; куартелазо — казарменный переворот, иначе говоря, отход от официальной власти, инициированное отдельным гарнизоном или воинским формированием и поддержанное другими подразделениями вооруженных сил; пронунсиаменто — отказ ключевых военных лидеров в повиновении официальному главе государства и их переход на сторону иных политических сил либо формирование ими собственного правительства — действие, не обязательно сопряженное с кровопролитием, а чаще всего завершающееся депортацией «разжалованного» правителя; телеграфико — оповещение с помощью средств связи инкумбента режима об отказе подчиняться его приказам со стороны ряда командиров армейских подразделений, дислоцированных во внутренних районах страны[13].
Однако даже успешно осуществленная операция по перераспределению власти не гарантирует устойчивости военным режимам. Их легитимация и продление срока исторического существования во многом определяется политической организацией общества и положением в нем армии.
Характерно, что социальные факторы играют значительно меньшую роль в вызревании военных переворотов и революций. Проведенные исследования не обнаружили какой-либо значимой корреляции между военными выступлениями и социальной дезорганизацией. Так, Д. А. Ростоу в 1963 году выдвинул предположение, что военные перевороты обычно следуют за периодами повышенной социальной напряженности[14]. Однако эта гипотеза не нашла подтверждений. М.С.Хадсон установил, что социальные кризисы не оказывают серьезного влияния на поведение военных. В. Р. Томпсон выявил только 29 процентов из всех рассмотренных им случаев военных переворотов XX века, которые косвенным образом были связаны с общественными беспорядками (эта зависимость выражалась либо в усилении склонности военных к перевороту, когда режим оказывался в наиболее уязвимом положении, либо в усиленном давлении на власть из страха перед радикальными социальными движениями, либо в некотором сочувствии к причинам, вызвавшим смуту)[15]. Вместе с тем предрасположенность самих военных к интервенции в политику растет при нарушении их собственных корпоративных интересов — позиционных или ресурсных. К первым относятся автономия, иерархический порядок, дисциплина, функциональная монополия, безопасность, честь и престиж военной профессии, политическая поддержка военной организации. Ко вторым — достаточные государственные расходы на армию, социальная защищенность военнослужащих, кадровая политика в армии, которая создает возможности для карьерного роста, наконец, обеспеченность необходимыми средствами для проведения войсковых учений и боевых операций. При этом часть нештатных ситуаций, которые создают военные, бывает обусловлена не столько корпоративными, сколько секционными интересами, обостряющимися в обстановке внутриорганизационного соперничества[16].
Как можно судить по множественным историческим примерам, военная диктатура относительно легко входила в среду либо с малым количеством невлиятельных, либо с большим количеством раздробленных политических участников[17]. Первый вариант был типичен для слаборазвитых стран Азии и Африки. Второй — для некоторых стран Латинской Америки и Европы. При этом диктатору помогало ущемление армии в ее корпоративных и групповых интересах, которое было допущено гражданскими властями. Один из наиболее успешных переворотов такого рода осуществил в 1936 году в Испании Ф. Франко. После победы республиканцев на муниципальных выборах 1931 года генерал — приверженец авторитарной власти занял выжидательную позицию. Однако по мере того как глава кабинета республиканец М. Асанья зажимал армию (вдвое сократил численность дивизий, отменил повышения в званиях за особые заслуги, закрыл Военную академию в Сарагосе), Франко из нейтрального наблюдателя превращался в противника режима. Ни правительства республиканцев, ни Народный фронт из левых сил, победивший на выборах в кортесы в начале 1936 года, не располагали «блокирующим пакетом акций» в компании политических игроков. (Наряду с политическими объединениями, представленными в структурах власти, в Испании постоянно развивались и множились другие политические организации: консервативные, националистические, фашистские, монархические, карлистские, клерикальные партии, Испанский военный союз, фаланга.)[18] К тому же генерал, контролировавший через свои разведслужбы состояние вооруженных сил, постоянно «закачивал» их надежными ветеранами марокканской войны вместо неустойчивых призывников. Это позволило ему сохранить крепкий ресурс власти. После того как в июле 1936 года Москва приняла решение об оказании военной помощи испанским товарищам, Франко начал быструю переброску войск с Африканского континента на испанскую территорию. В сентябре он уже занял пост верховного главнокомандующего вооруженных сил, а 1 октября — главы государства[19].
Точно так же грызня многочисленных политических партий и деградация4-йреспублики Франции помогли генералу Ш. де Голлю в 1958 году триумфально войти во власть после 12-летнего прозябания не у дел. Пользуясь усталостью французов от бесконечных правительственных кризисов и опираясь на поддержку армии, выбитой из колеи неудачами в Алжире, суровый «Коннетабль» тогда по сути продиктовал ультиматум нации. Вырванные у страны в этих безвыходных обстоятельствах полномочия он направил на резкое изменение государственного строя, фактически превратившее 5-ю республику в избирательную конституционную монархию[20].
С точки зрения временных параметров, в политическом процессе развивающихся стран наибольшие удобства для военных вторжений представляет собой незавершенная либерализация либо осложненная социально-экономическим кризисом, проблемная и не продвинутая демократизация. В первом случае вероятно установление так называемой опекунской демократии — под супервизорством военного аппарата. Во втором — в итоге «обратной волны» демократизации — авторитарного режима с доминирующим положением военных[21].
И наоборот, перед фактом мнимой или подлинно консолидированной власти военные лидеры, как правило, не отваживаются на открытое выступление. Мировая история знает немало примеров, когда армия в нерешительности останавливалась на подступах к перевороту. Так, во время Великой французской революции конца XVIII века французская армия, впечатленная деятельностью Национального собрания и других органов революционной власти, не пошла за генералами-изменниками Дюмурье и Лафайетом. Французскую Вандею породила не армия, а часть крестьянства и дворян. Похожий опыт дала и иранская антишахская революция 1977–1978 годов. Возвратившийся на родину после бегства шаха аятолла Хомейни сразу же создал Временное правительство. С его помощью новый лидер провозглашенной Исламской Республики Иран объединил все значимые общественные группировки: мелких торговцев и кустарей, городскую буржуазию, шиитское духовенство, интеллигенцию[22]. Именно по этой причине иранская армия, натасканная на защиту шахского режима, не двинулась с места для спасения трона.
Во многом по той же причине не сумели взойти на политический Олимп и претенденты на военную диктаторскую власть в России в период между второй и третьей русской революцией. Ловушкой для них оказалась видимая монолитность и репрезентативность власти, которая утвердилась в результате Февральской революции 1917 года. Историками было давно подмечено почти маниакальное стремление к объединению, которое, вопреки политическим разногласиям, проводили в жизнь штурманы будущей бури еще до того, как была сметена монархия. Эту тенденцию воплощали созданный в августе 1915 года «Прогрессивный блок», политическое масонство, пытавшееся играть роль коалиционного комитета и коалиционного форума. Ту же наклонность к поглощению политической разносортицы демонстрировали постоянно разбухавшие общественные организации — Земский и Городской союзы, объединившиеся в1915 году в Земгор. А в 1916 году на повестку дня была поставлена задача создания Союза Союзов, которому предстояло установить централизованное управление практически всеми общественно-политическими объединениями. Эта идея и начала претворяться в жизнь с мая 1916 года, когда подобный союз был образован под вывеской Центрального комитета общественных организаций по продовольственному делу[23]. Тот же более или менее единый фронт власти, несмотря на наличие двух центров (Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства), всеми силами старалась удержать и в послефевральский период «цензовая» демократия. И это невзирая на то, что скороспелая российская демократизация не создала предпосылок для прочного и продуктивного единства! Собственно, сам компромисс между правой и радикальной левой частью послефевральской демократии только и обосновывался обоюдным стремлением выключить армию как фактор политики. Общая забота о предотвращении военной диктатуры позволяла до поры до времени искусно камуфлировать внутренние противоречия. Это единство, пусть даже натужное и иллюзорное, сработало как стоп-кран для частей А.М.Крымова и Л.Г.Корнилова, готовых к вмешательству в политический процесс ради энергичного оздоровления страны и армии и устранения тоталитарной перспективы после падения царизма. Однако российским диктаторам фатально не везло с фоновыми условиями. Противоестественная акселерация всех процессов перехода к демократии в России попросту не оставляла люфта, в который могли бы вклиниться отечественные преторианцы. В свою очередь сам Корнилов, находившийся в плену заблуждений относительно новой власти, до последнего пытался удержаться на ноте сотрудничества с Советом и с походом своих войск на Петроград в конце августа1917 года безнадежно опоздал. «Столбик» демократизации к тому времени уже зашкалило за ту отметку, на которой еще был возможен сбор многочисленных сторонников военной диктатуры в обществе. А провал похода лишний раз подтвердил неоднократно наблюдавшийся в истории обратный эффект от силовых попыток консолидации глубоко дезинтегрированного общества[24]. Несмотря на то что военный режим с отчетливым реформаторским уклоном (который как раз и планировался Корниловым) в России так и не состоялся, все же попробуем представить себе его потенциал. По мнению американского социолога Э. Нордлингера, преторианцы-правители обычно исповедуют идеал сообщества без политики и консенсуса, основанного на командах[25]. Им свойственно отношение к политическим партиям как к нежелательным агентам раскола общества (хотя многие из них сознательно шли на создание «своих» массовых партий, которым вменялась в обязанность поддержка режима «снизу», например, «Испанская фаланга традиционалистов» Франко или деголлевская партия «Объединение французского народа»). Как правило, переоценивая значение силовых факторов во внутренних делах, военные политики редко добиваются рационально-легальной легитимности своей власти. Так, диктатору Парагвая в1954–1989 годах А. Стреснеру приходилось каждые пять лет своего 35-летнего пребывания у власти в день президентских выборов вводить осадное положение[26]. Управленческий стиль преторианцев-правителей характеризует упор на технократическое администрирование: панацеей от всех бед провозглашается поиск единственно правильного с точки зрения менеджмента решения, а его побочные социальные и экономические эффекты зачастую попросту не принимаются во внимание[27]. Кроме того, на примере многих стран, прежде всего Латинской Америки, можно наблюдать рекуррентную (возвратную) модель вмешательства военных: многие удалившиеся на покой диктаторы не раз возвращались в строй, затребованные обстоятельствами и гласом народа.
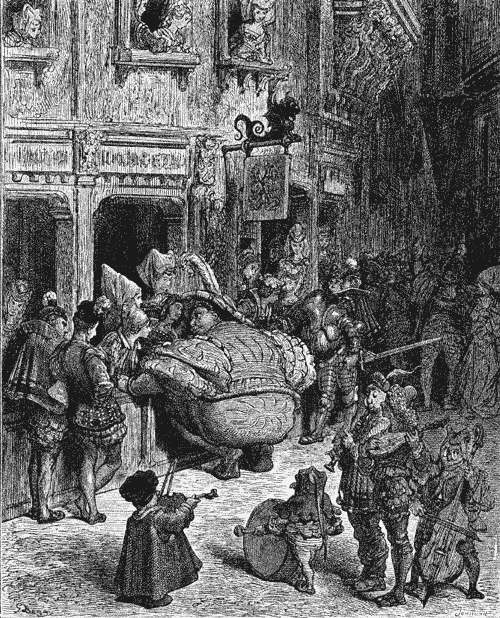
Какими же преимуществами располагали военные режимы, имевшие способность к клонированию себя на разных этапах истории? Прежде всего они ограничивали доступ в высшие эшелоны власти либеральной общественности, поскольку не накопившие опыта государственного управления и дорвавшиеся до руля либералы очень часто обнаруживали предрасположенность к ползучему капитулянтству перед напором экстремистских группировок[28]. Таким образом военные инкумбенты страховали общество от массированных атак со стороны безответственных радикалов. Кроме того, военные лучше, чем многие гражданские политики, противостоят соблазну перейти на обслуживание кланово-корпоративных группировок в политике. Это подтверждает опыт стран Латинской Америки. Многим политикам (включая и отдельных военных диктаторов), пытавшимся подкупить армию щедрыми подачками, а ее верхушку растлить с помощью приобщения к бизнес-элите, довелось испытать эффект бумеранга. Так, например, аргентинскому диктатору Х. Д. Перону, взявшему власть в 1946 году и пытавшемуся закрепить ее в своих руках путем безудержного превознесения армии и коррумпирования ее верхушки, военные в конечном итоге (в 1955 году) отказали в доверии. На тот же отпор вооруженных сил натолкнулись заигрывавшие с армией правители 40–50-х годов в Венесуэле, Перу, Колумбии[29]. Таким образом, в большинстве случаев эгоистические фракционные или индивидуальные интересы военной среды обнаруживают склонность к перетиранию о винты и лопасти институционального устройства, а армия показывает способность подняться над дрязгами корыстных группировок.
Кроме того, многим военным и военизированным режимам, в особенности второй половины XX века, удалось воплотить в жизнь дессарольистский (исп.«дессарольо» — развитие) путь и его продолжение — «экономический неолиберализм»[30]. С учетом высокой эффективности этой политики популярность таких режимов сохранялась в ведущих странах региона и в 90-е годы[31]. Наконец, несмотря на минимизацию входов в политическую систему и периодическое уклонение в полицеизм, лидеры военных режимов в целом не обращали вспять процессов либерализации и демократизации. Этим объясняется простой, почти автоматический переход к демократии после сворачивания военных режимов, которое чаще всего происходило так же просто — в результате поражения военных на выборах. Подобная прямая траектория прослеживается в Аргентине в1983 году, в Бразилии в1985 году, в Парагвае в 1989 году, в Чили в 1990 году после17-летнего правления Пиночета[32]. Как правило, признав свое поражение, военные без боя покидают политическую сцену. Достаточно напомнить о полном достоинства уходе Шарля де Голля в отставку. Признав с солдатской прямотой свое поражение в предотвращении революционных событий мая-июля 1968 года, он посчитал правильным завершить свою карьеру еще до истечения официального срока полномочий. По справедливому мнению С.Хантингтона, военные лучше, нежели гражданские политики, приспособлены к тому, чтобы сдать бразды правления новым лидерам: политические полномочия для них почти всегда остаются вторичными по отношению к основным ролевым функциям защитников[33].
Многих успешных военных лидеров отличала и забота о достойной преемственности курса. Так, Франко еще в 1969 году назначил наследником вакантного испанского престола принца Хуана Карлоса, разглядев в нем качества способного и ответственного политика. Взошедшему на престол в 1975 году после смерти диктатора королю было не так уж и трудно довести до конца замирение нации, поскольку еще раньше армия признала социалистов и коммунистов как участников политического процесса, социалисты признали капитализм, а коммунисты отказались от категорического требования республики и признали монархию[34]. Сам Хуан Карлос скромно оценил свой вклад в развитие нации, сославшись на сделанное его предшественником: «Я унаследовал страну, которая познала 40 лет мира, и на протяжении этих 40 лет сформировался могучий и процветающий средний класс, который практически не существовал в конце войны. В стране с ослабленной экономикой, в стране истощенной никто, ни один король не мог совершить великие дела в короткое время»[35]. Испанский сценарий дает приблизительное представление о том варианте, который в пучке прочих альтернатив потенциально был пригоден и для России. Пригоден, но не характерен. Либерально-демократическая оппозиция в ожесточенной схватке с царизмом и в испуге перед военной диктатурой произвела на свет недоношенную демократию. Российские военные из опасения навредить этому плоду от общественного альянса отступили назад. А запоздалая попытка реванша принесла выигрыш только большевистским экстремистам. И так, промахнув в конце августа 1917 года этот спасительный полустанок и все ускоряя бег, российский паровоз летел вперед к коммуне.
* В данном случае под «военной революцией» понимается не «революция в военном деле», а масштабные социально-экономические преобразования, инициируемые военными. — Примеч. ред.
[1] Trimberger E. K. Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru.
New Brunswick, New Jersey, 1978. P. 2–3.
[2] Huntington S. Political Order in Changing Societes. New Haven, Jale, 1968. P. 194.
[3] Decalo S. Coups and Army Rule in Africa. Studies in Military Style. New Haven and London, 1976. P. 7.
[4] Pye L.W. Armies in the Process of Political Modernization. The Role of the Military in Underdeveloped Countries // Ed. by J. Johnson. Princeton, New Jersey, 1962. P. 76.
[5] Ibid. P. 79–80.
[6] Trimberger E. K. Op. cit. P. 88.
[7] Альтерманн У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 53–54.
[8] Pye L.W. Op. cit. P. 83.
[9] Васильев Л. С. История Востока. Т. 2. М., 1998. С. 221.
[10] Ментер Ш. Кемализм: зарождение, влияние, актуальность. М., 1998. С. 35–36, 60–63; Trimberger E. K. Op. cit. P. 15–16.
[11] Johnson J. The Latin-American Military as a Politically Competing Group in Transitional Society // The Role of the Military. P. 95, 101–102, 200.
[12] Kennedy G. The Military in the Third World. Duckworth, 1974. P. 104–113.
[13] Rustow D. A. World of Nations. Problems of Political Modernization. N.Y.; Washington, 1967. P. 182.
[14] Rustow D. A. The Military in Middle Eastern Society and Politics // The Military in Middle East. S. N. Fisher, ed. Columbus, 1963. P. 11.
[15] Hudson M. C. Conditions of Political Violence and Instability: A Preliminary Test of Three Hypotheses // Sage Professional Papers in Comparative Politics. Vol. 1 / H. Eckstein and T. R. Gurr, ed. Beverly Hills, 1970. P. 281–282; Thompson W. R. The Grievances of Military Coup-Makers. Florida State University, 1973. P. 45.
[16] Ibid. P. 12, 28.
[17] Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven, 1968. Р. 218.
[18] История фашизма в Западной Европе. М., 1978. С. 293–296, 315–316.
[19] Дамс Х. С. Франсиско Франко. Солдат и глава государства. Ростов-на-Дону, 1999. С. 65, 70.
[20] Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1973. С. 323–324.
[21] Huntington S. P. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991. P. 127–139.
[22] Мирский Г. И. Роль армии в политической жизни стран «третьего мира». М., 1989. С. 156, 168.
[23] Новейшая история Отечества. ХХ век: В 2 т. / Под ред. А. Ф. Киселева и Э. М. Щагина. Т. 1. М., 2002. С. 168–169.
[24] Nordlinger E. Soldiers in Politics. Military Coups and Governments. Prentice Hall. New Jersey, 1979. P. 152.
[25] Nordlinger E. Op. сit. P. 29.
[26] Хачатуров К. А. Латиноамериканские уроки для России. М., 1999. С. 44.
[27] Nordlinger E. Op. сit. Р. 119–120.
[28] Trimberger E. K. Op. сit. Р. 19.
[29] Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М., 1979. С. 32–36.
[30] Строганов А. И. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995. С. 249.
[31] Лапшев Г. Е. Президентская республика: латиноамериканский вариант // Латинская Америка. 1994. № 7–8. С. 44.
[32] Хачатуров К. А. Указ. соч. С. 18–88.
[33] Huntington S. The Third Wave. Р. 115.
[34] Ibid. Р. 170.
[35] Пожарская С. П. Воскрешение монархии в Испании: почему это оказалось возможным? // Политическая история на пороге ХХI века: традиции и новации. М., 1995. С. 164.
