Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Жить — значит умирать
Несколько лет назад группа американских ученых во главе с профессором биологии Стэнфордского университета Шрипадом Тульджапуркаром обнародовала прогноз, согласно которому средняя продолжительность жизни в индустриально развитых странах примерно к 2030 году достигнет 100 лет. Прогноз был основан на экстраполяции изменений этого показателя за последние несколько десятилетий.
С тех пор прошло около трети срока, указанного в прогнозе. И уже ясно, что он не сбудется. Рост продолжительности жизни в развитых странах в самом деле продолжается, но скорость его постоянно замедляется. В самых «долгожительских» странах — таких как Япония — средняя продолжительность жизни едва-едва перевалила за 80 лет — и словно бы уперлась в невидимую стену.
Происходящее нетрудно понять, если вспомнить, что впечатляющий прогресс в увеличении продолжительности жизни за последний век с небольшим достигнут исключительно за счет предотвращения преждевременных смертей — сначала младенческих и детских, затем людей среднего возраста. Сегодня смерть от инфекционной болезни, родов или заражения крови после небольшой травмы — редкий эксцесс, а не обычное дело, как это было еще сто лет назад даже в наиболее благополучных странах и социальных слоях. Для жителя развитой страны сегодня невелика и вероятность погибнуть в результате военных действий — и даже самые масштабные и ужасающие теракты не в силах оказать заметное влияние на статистику смертности. Диагноз «злокачественная опухоль» уже перестал быть безусловным смертным приговором, и специалисты утверждают, что в ближайшие полтора-два десятилетия будет достигнута радикальная победа над этим бичом человечества. Одним словом, человечество если не полностью преодолело, то, во всяком случае, взяло под контроль все факторы, сводившие людей в могилу. Все, кроме одного — старости.
А что, собственно, такое старость? В чем она состоит, почему и как возникает?
Теория на износ
Вроде бы все мы знаем: старость — это закономерное ухудшение всех физических возможностей организма с возрастом. Когда человек стареет, у него уменьшается сила мышц, способность выдерживать физические нагрузки, слабеют зрение, слух, память. Волосы утрачивают цвет и часто выпадают вовсе, кожа становится дряблой и морщинистой, кости — хрупкими. Падает способность организма противостоять инфекциям и исправлять полученные повреждения. Мужчины становятся неспособными к половой жизни, женщины — к деторождению.
Причины таких изменений на первый взгляд тоже кажутся очевидными. В самом деле, любое строение, механизм, сколько-нибудь сложно устроенная вещь — хоть платье — со временем ветшает, рвется, рассыхается, разбалтывается, ржавеет или трухлявеет. Если устройство работает и подвергается нагрузкам, оно снашивается еще быстрее. Так что удивляться вроде бы приходится не тому, что люди стареют, а тому, что они делают это так медленно. Никто еще не придумал мотор с гарантированным ресурсом безостановочной работы в 70 с лишним лет, который есть у обычного человеческого сердца.
Аналогия с механическим износом кажется самоочевидной. Из нее естественным образом вытекали и рекомендации для тех, кто хочет жить долго и не старея: умеренность во всех жизненных проявлениях (пище, питье, сексуальной жизни), избегание тяжелых и длительных физических нагрузок и сильных эмоций, размеренный образ жизни и т. д. Предполагалось, что все эти меры, снижая нагрузку на основные «узлы» и «агрегаты» человеческого организма, тем самым замедляют его износ и продлевают срок службы. Набор подобных рекомендаций практически не претерпел изменений с античных времен до наших дней — любой современный медик в ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы прожить долго, посоветует все то же самое. Разве что вместо избегания физических нагрузок сегодняшний врач посоветует практиковать их регулярно, но умеренно.
Не то чтобы подобные советы были совершенно бесполезны, но они опять-таки скорее помогали избегать преждевременной смерти. Соблюдавшие их люди чаще доживали до глубокой старости, чем их менее дисциплинированные сверстники, — но сама старость наступала примерно в те же сроки. Восьмидесятилетний старик мог быть бодрым, подтянутым и сохранять интерес к противоположному полу, но его кости все равно становились хрупкими, хрусталики глаз теряли эластичность, а память слабела.
До поры до времени эту разницу можно было игнорировать, но в XIX веке, с развитием физиологии и патологии, она стала очевидной. С этого времени начинаются поиски специфических механизмов, которые позволили бы объяснить повальное «заболевание старостью». Первую содержательную теорию такого рода выдвинул знаменитый русский биолог, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. По его мнению, старение — результат медленного отравления организма ядами обитающих в его кишечнике бактерий. В дальнейшем причины «заболевания старостью» искали в аутоиммунных реакциях (атаках иммунной системы на некоторые функционально важные белки собственного организма), в истощении запаса гормонов, в неких гипотетических «шлаках», якобы накапливающихся в клетках или в межклеточном пространстве, и т. д. Каждой теории соответствовали практические рекомендации по предотвращению старения — от регулярного употребления простокваши и йогуртов до хирургической пересадки человеку половых желез от молодых особей человекообразных обезьян[1]. Наибольшую популярность получила гипотеза, выдвинутая в 1956 году профессором университета Небраски Денхамом Харманом. Согласно Харману старение есть медленное отравление организма агрессивными формами кислорода — атомарным кислородом, гидроксил-радикалом и перекисями, то есть молекулами, содержащими связь «кислород — кислород». Чересчур активные радикалы повреждают биологические макромолекулы, в том числе белки и нуклеиновые кислоты. И если вместо дефектного белка клетка синтезирует новый, то дефектная хромосома — это уже непоправимо. Это плата многоклеточного организма за использование в своей энергетике чрезвычайно эффективного кислородного окисления.
Помимо простоты, наглядности и неплохого соответствия химическим свойствам рассматриваемых веществ теория Хармана обладала еще одним немаловажным достоинством — она объясняла эмпирический закон Рубнера: средняя продолжительность жизни того или иного вида обратно пропорциональна интенсивности обмена веществ у его представителей. Этот закон легко продемонстрировать, если вспомнить, что у теплокровных существ уровень обмена тем выше, чем мельче само животное. Тогда крупные животные должны жить дольше мелких — и действительно, кошка живет на порядок дольше мыши, а шимпанзе — в разы дольше кошки. Конечно, эта зависимость не абсолютна и при сравнении представителей разных эволюционных групп может и не выполняться.

Например, многие птицы живут гораздо дольше, чем млекопитающие такого же размера, хотя интенсивность обмена веществ у птиц заметно выше. Несоответствия можно найти даже внутри одного зоологического класса: человек, к примеру, живет дольше любого другого млекопитающего, чья продолжительность жизни достоверно известна, включая таких гигантов, как слоны. Однако в пределах одного отряда сравнение вполне корректно. И в самом деле, мышь живет два — два с половиной года, в то время как бобры и крупные дикобразы — до 20. Но при этом еще один представитель отряда грызунов — голый землекоп — живет 26—28 лет, хотя по размерам почти не превосходит мышь. Секрет прост: голый землекоп — единственное млекопитающее[2], полностью отказавшееся от теплокровности. Понятно, что это означает резкое снижение интенсивности обмена веществ. И если именно такое существо вдесятеро превосходит по продолжительности жизни всех животных, близких к нему по происхождению, строению и размеру, — значит, дело не в размере как таковом, а именно в уровне метаболизма. С точки зрения теории Хармана этого и следовало ожидать: чем выше обмен, тем больше кислорода проходит через каждую клетку в единицу времени, тем больше опасных молекул образуется в клетке, тем выше вероятность того, что какая-то из них повредит жизненно важный ген.
Но, пожалуй, еще более важным достоинством теории оксидативного стресса (так принято называть гипотезу Хармана) стало то, что она подсказывала простой и очевидный путь борьбы со старением. В самом деле, средства защиты от повреждающего действия активных форм кислорода давно известны — это вещества-антиоксиданты, принимающие на себя удар вредоносных радикалов. В качестве антиоксидантов могут выступать самые разные соединения, но чаше всего ими служат ненасыщенные (содержащие двойные связи «углерод — углерод») жиры, особенно жирорастворимые витамины А и Е, а также легкоокисляющийся витамин С. Препараты с этими веществами заполонили рынок косметики и парафармацевтических товаров. В основном, конечно, это были кремы и другие наружные средства, призванные защитить кожу (клетки которой действительно сталкиваются с избытком радикалов, порождаемых ультрафиолетом солнца). Однако немалой популярностью пользовались и продолжают пользоваться разного рода внутренние снадобья на тех же веществах — особенно «омолаживающие» биодобавки (БАДы). Оздоровительный эффект этих препаратов, правда, так никогда и не был доказан, но БАДам это и не требуется: они не считаются лекарствами и обязаны пройти только испытания на безопасность.
Совсем недавно результаты этих испытаний были статистически обработаны международной группой ученых во главе с Кристианом Глуудом из Университетского госпиталя Копенгагена. Они свели воедино данные 78 конкретных исследований, в которых приняли участие в общей сложности почти 300 тысяч человек из разных стран. Около 181 тысячи из них в течение длительного времени (в среднем около двух лет) регулярно принимали биодобавки с антиоксидантами, 113 тысяч входили в контрольные группы. Более четверти участников испытаний (80 тысяч) страдали теми или иными хроническими заболеваниями, и эта доля была одинаковой среди принимавших и не принимавших БАДы.
За время испытаний некоторые их участники покинули этот мир. В контрольной группе их доля составила 10,2 %, а среди потребителей «омолаживающих» БАДов — 11,7 %. Разница невелика, но при таких размерах выборки никак не может быть случайной. Причем более высокая смертность наблюдалась как среди хронически больных, так и среди условно здоровых потребителей антиоксидантов.
Популярный пересказ этих данных во многих СМИ вышел под заголовками типа «Смертельная добавка», «Биодобавки провоцируют смерть» и т. д. Возможно, регулярный прием антиоксидантов и в самом деле приводит к каким-то непредвиденным эффектам, увеличивающим риск смерти. Но скорее всего все гораздо проще: злосчастные добавки столь же безвредны, сколь и бесполезны, а повышенная смертность их потребителей обусловлена тем, что в этой группе выше доля тех, кто надеется решить все проблемы со здоровьем при помощи очередной панацеи и потому не склонен следовать рекомендациям врачей. Как бы то ни было, о том, что регулярный прием антиоксидантов может продлить жизнь, говорить уже никак не приходится.
С антиоксидантными препаратами наружного применения таких метаисследований пока не проводили (да и трудно ожидать, что, например, солнцезащитные кремы окажутся совершенно бесполезными), но в целом результаты полувекового опыта антиоксидантной терапии явно не соответствуют ожиданиям: в лучшем случае она способна только устранить или ослабить некоторые внешние признаки старения, да и то лишь на некоторое время. Приверженцы теории оксидативного стресса обычно объясняют это тем, что антиоксиданты либо не достигают тех или иных ключевых тканей, либо быстро разрушаются и выводятся из них. Однако несколько лет назад и эта теоретическая увертка была поставлена под сомнение. Исследователи из лондонского Университетского колледжа во главе с Дэвидом Джемсом генетически модифицировали червей-нематод Caenorhabditis elegans[3]. Трансгенные нематоды стали вырабатывать избыток антиоксидантов в собственных тканях, подавляя в них свободные радикалы, что, однако, не сделало их долго -жителями: «безрадикальные» черви жили ничуть не дольше своих обычных собратьев. Этот результат заставил авторов исследования критически пересмотреть всю историю антиоксидантной терапии — применительно уже не к червям, а к людям. Их вывод: убедительных доказательств того, что употребление антиоксидантов может замедлить или предотвратить старение, не существует.
Тем не менее модель оксидативного стресса по-прежнему остается наиболее популярным теоретическим объяснением феномена старения, а антиоксидантные препараты все так же пользуются широким спросом.
Остановите развитие — я сойду
Вернемся к аналогии между старением живых организмов и износом материальных объектов. Нетрудно заметить, что неживые системы ветшают и изнашиваются, поскольку в них упорядочивающее начало вмешалось только однажды, после чего они были отданы в безраздельную власть энтропии. Если же, скажем, избу регулярно чинить, заменяя прогнившие бревна, выправляя перекосы и крася свежей краской, она может стоять веками. И останется сама собой, даже если в ней уже не будет ни единого первоначального кусочка. Но ведь именно это происходит постоянно с нашим (и любым другим) организмом, все ткани которого постоянно обновляются. Слущивается и вновь нарастает эпителий кожи и слизистых оболочек, постоянно выводятся из крови ветхие эритроциты, место которых занимают вновь созревшие. И даже в тех клетках, чье долголетие равно продолжительности жизни организма (нейроны, Т-лимфоциты, яйцеклетки и т. д.), все время идет замена белков и других специфических молекул. Да, это непрерывное обновление с возрастом постепенно слабеет. Но почему? Аналогия с механическими системами этого объяснить не может.
Может быть, эффективность ремонтных работ в нашем организме падает с возрастом потому, что вместе со всем прочим ветшают и изнашиваются ремонтные инструменты и инструкции по восстановлению? Но тогда почему не стареют, например, бактерии? В их клетках тоже накапливаются поломки и повреждения, порой приводящие к гибели той или иной клетки, но множество ее сестер живет, делится, переживает неблагоприятные условия, не выказывая никаких признаков одряхления даже через пятьдесят тысяч поколений (как это было показано в эксперименте ученых из университета штата Мичиган)? В конце концов, в нашем собственном организме есть клетки, несущие непрерывную эстафету жизни со времен ее возникновения на Земле, — половые. Если им посчастливится, они разовьются в новый организм — и он родится на свет без всяких признаков старости. Некоторые беспозвоночные, способные к вегетативному размножению, могут «начинать жизнь сначала» сотни раз подряд, не старея. Значит, дело явно не в механическом износе.
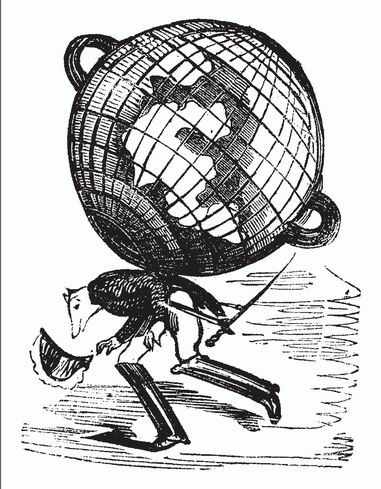
Наконец, всем известно, что скорость износа однотипных механических систем может различаться в несколько раз. Любители старинных авто поддерживают в рабочем состоянии машины, выпущенные на заре автомобилестроения. Запчастей к ним не выпускают уже много лет, останки подавляющего большинства их собратьев давно истлели на автосвалках, но допотопные экипажи развивают ту же скорость и мощность, что и век назад. Между тем среди миллиардов людей, чьи даты рождения и смерти надежно документированы, нет ни одного, кто прожил бы хотя бы 120 лет — что, как мы теперь знаем, составляет всего полтора «гарантийных срока» здорового человеческого организма. Похоже, пределы человеческой жизни обозначены явно жестче, чем сроки службы техники.
Еще в 1825 году служащий английской страховой компании Бенджамин Гомпертц, разрабатывая методику расчета страховых премий и взносов, вывел простой закон, названный его именем: вероятность смерти человека в определенный период времени растет с возрастом по экспоненте. Иными словами, если человеку N лет от роду, то вероятность того, что он умрет, скажем, в течение ближайшего года, пропорциональна АN, где А — некая постоянная величина. Если на основании этого закона рассчитать, какая часть подчиняющейся ему популяции доживет до того или иного возраста, получится картина, удивительно напоминающая распределение продолжительности жизни в современном цивилизованном обществе: четыре пятых популяции доживают до 75—80, один-два процента — до 100 и никто — до 120.
Все это наводит на мысль, что старость и смерть суть такие же закономерные и определенные во времени этапы развития нашего организма, как детство, юность или зрелость. Впервые это предположение высказал Альфред Рассел Уоллес — ученый, разделивший с Дарвином честь создания теории естественного отбора. Зафиксированная лишь в частном письме, идея Уоллеса осталась неизвестной научному сообществу. Но в 1881 году другой великий дарвинист — Август Вейсман (ничего не знавший о письме Уоллеса и пришедший к той же гипотезе самостоятельно) изложил ее уже в развернутом виде в публичной лекции. Правда, под влиянием обрушившейся на него критики он в дальнейшем отказался если не от самой идеи, то от ее публичного обсуждения.
Сама по себе идея, что индивидуальное развитие живого организма может включать в себя запрограммированное самоуничтожение, не казалась такой уж невероятной. Еще до возникновения научной биологии человечеству были известны виды со строго отмеренным сроком жизни. Взрослая поденка живет несколько часов — ровно столько, сколько надо для оплодотворения и откладки яиц. Обыкновенный богомол умирает в середине осени, и даже если выращивать его в инсектарии, где ему неоткуда узнать о наступлении рокового сезона, он станет вялым, потускнеет, потеряет интерес к еде и еще до конца октября умрет. У многих видов лососей каждое поколение гибнет немедленно после нереста.
Но гибель отнерестившейся горбуши выглядит совсем не так, как смерть человека от старости, — ее организм разрушается быстро и, что называется, «по всем швам», с одновременным появлением множества очагов распада в разных тканях. Ничего похожего на медленное угасание, постепенное ослабление жизненных функций — то есть собственно на старение — у таких видов не наблюдается.
Непонятным был и эволюционный механизм возникновения такой программы. Вейсман утверждал, что изъятие чересчур зажившихся особей идет на пользу виду. Но какую пользу может принести виду искусственное устранение наиболее долгоживущих (и, следовательно, наиболее приспособленных) особей? С другой стороны, эволюционисты ХХ века твердо уяснили, что естественный отбор — не сознательный селекционер, он не интересуется абстрактной «пользой для вида», а поддерживает те генетические варианты, которые повышают вероятность выживания и размножения своих носителей «здесь и сейчас». Как мог такой процесс сформировать программу самоликвидации? И даже если бы такая программа каким-то образом однажды возникла — как она могла уцелеть? Ведь любая мутация, нарушающая ее работу, давала бы своим обладателям явные преимущества — и рано или поздно такие мутанты полностью вытеснили бы носителей самоубийственной программы!
В 1950-е годы знаменитый английский биолог (и тоже впоследствии нобелевский лауреат) Питер Медавар, раскритиковав в пух и прах гипотезу «запрограммированной смерти», предложил свою интерпретацию старения человека и подобных ему существ. Согласно его теории старение — это продолжение нормальных процессов развития, не останавливающихся и после того, как организм достигнет максимальной зрелости. В самом деле, в любой живой ткани одновременно идут процессы отмирания старых клеток и созревания новых. В юности второй процесс преобладает над первым — и ткань растет, увеличивается в размерах. К зрелому возрасту созидание и разрушение уравновешивают друг друга, и рост прекращается. Но что если постепенное (и, несомненно, генетически запрограммированное) смещение равновесия в сторону разрушения на этом не остановится? Прямые полевые исследования зоологов показали, что у диких животных в природе вероятность дожить до возраста, в котором наступают старческие изменения, ничтожна. Значит, у естественного отбора нет никаких оснований создавать какие-то специальные «тормоза»» для остановки развития организма в его высшей точке: преимуществами от такого приобретения смогла бы воспользоваться лишь ничтожная часть популяции.
В последующие десятилетия теория Медавара получила некоторые косвенные подтверждения. В частности, в январе 2003 года в Южно-Иллинойском университете умерла мышь, прожившая почти пять лет — вдвое больше предельной продолжительности жизни мыши. Она была носительницей редкой мутации, делавшей ее ткани нечувствительными к важнейшему регулятору индивидуального развития — гормону роста. Примерно в те же годы группа американских исследователей изучала эволюционный ответ популяции рыбок-гуппи, долгое время обитавшей в изолированном водоеме, на внезапное появление в нем хищников. Как и предполагали ученые, половая зрелость у особей этой популяции стала наступать быстрее и при меньших размерах. Но неожиданным оказалось то, что продолжительность жизни у таких «скороспелых» рыбок (измеренная, естественно, в отсутствие хищников) оказалась гораздо ниже, чем у исходной, медленно взрослеющей формы. Однако если старение — это всего лишь продолжение взросления, то так и должно быть.
Но почему исходная форма гуппи вообще старела — ведь им не грозила преждевременная смерть? Почему в природе стареют слоны, киты и другие животные, давно вышедшие из-под пресса хищников и имевшие достаточно эволюционного времени, чтобы выработать какие-нибудь тормоза для чересчур ретивых механизмов развития?
Теломерная интерлюдия
Однако вскоре после обнародования теории Медавара внимание исследователей процессов старения привлек сюжет из совсем иной области биологии. Еще в 1961 году американский биолог Леонард Хайфлик обнаружил удивительную вещь: клетки животных (за исключением половых, раковых и, как выяснилось позже, стволовых) могут делиться лишь ограниченное число раз. Для клеток человека это число, названное «пределом Хайфлика», составляет около 50 делений. Причем это оказалось свойством не целостного организма, а самой клетки — культура ткани, изолированная от любых управляющих сигналов, размножалась только до известного предела, который наступал тем быстрее, чем старше был организм, от которого брались исходные клетки. Но откуда клетка может знать, сколько раз она уже поделилась?

Через десять лет после открытия Хайфлика советский молекулярный биолог Алексей Оловников предложил ответ на этот вопрос. Делению клетки должно предшествовать удвоение ее ДНК. Это делает специальный фермент ДНК-полимераза, молекула которого имеет довольно большую длину — около 10 нанометров. Оловников предположил, что узнающий и каталитический центры находятся на разных концах молекулы. Когда первый, как локомотив, доходит до конца цепочки ДНК, второй, как последний вагон поезда, остается довольно далеко от него и не может скопировать последний участок, примерно равный длине молекулы фермента. Если же узнающий центр находится сзади, то не копируется начало цепочки.
Эти «отстригаемые» при каждом удвоении кусочки Оловников назвал теломерами, т. е. концевыми частями. Они невелики и не несут никакой содержательной информации, служа только счетчиком числа делений. Но сразу за последней теломерой идет какой-то жизненно важный участок, неудвоение которого приводит к гибели клетки. Вот вам и «предел Хайфлика», он же генетический механизм старения.
Уже в конце 1970-х американская исследовательница Элизабет Блэкберн обнаружила на концах хромосом одноклеточного существа трихомены бессмысленные повторяющиеся последовательности (TTAGGG)n, укорачивавшиеся при каждом делении на один «период». А в 1985 году аспирантка Блэкберн — Кэрол Грейдер идентифицировала теломеразу — специальный фермент, способный пришивать к концу цепочки ДНК новые теломеры, обеспечивая бессмертие половым (и, к сожалению, раковым) клеткам. Так было доказано существование молекулярного механизма, вычисленного Оловниковым, как говорится, «на кончике пера»[4].
В первые годы после открытия теломер и теломеразы исследователям казалось, что это и есть ключ к проблеме старения. Число статей по этой тематике в 1980—1990-х годах измерялось десятками тысяч. Однако по мере накопления фактов появлялось все больше сомнений в том, что теломерный «счетчик» вообще имеет какое-либо отношение к старению организма.
Во-первых, довольно быстро выяснилось, что молодость или старость организма не определяются ни тем, сколько циклов деления уже прошли его клетки, ни тем, на сколько делений они еще способны. Раковые клетки бессмертны и вечно молоды[5], и это никак не связано с возрастом организма. Вечно молодыми остаются и стволовые клетки — с возрастом их число постепенно уменьшается, но даже у столетнего старика остается некоторое количество таких клеток, способных к неограниченному делению. С другой стороны, многие важнейшие клетки нашего тела прекращают делиться в самом начале нашей жизни. Например, подавляющее большинство наших нейронов полностью созревают годам к 6—8 и больше никогда уже не делятся. Мы проходим половое созревание, взрослеем, проживаем жизнь, стареем с теми же самыми нейронами, с какими пошли в школу. (При этом нервные клетки тоже стареют — но этот процесс начинается намного позже их последнего деления.) Те В-лимфоциты, которые хранят память о перенесенной нами в детстве кори или ветрянке, тоже проживают вместе с нами всю жизнь, за время которой могут ни разу не вступить в деление. Но если знакомый вирус вновь — хоть через полвека после первой встречи — попадает в наш организм, «помнящие» его клетки начинают делиться в бешеном темпе, и никакой предел Хайфлика их не останавливает.
Все это указывает на то, что предел Хайфлика — рубеж не старости клетки, а ее зрелости, пригодности к исполнению своих обязанностей в организме. А обеспечивающий соблюдение этого предела теломерный механизм — не таймер старения, а инструмент поддержания целостности многоклеточного организма, предохранитель, предотвращающий самовольное размножение. Изучение его, несомненно, позволит ученым узнать много важного и интересного о том, как устроено наше тело и как оно работает, — но вряд ли продвинет нас хоть на шаг к пониманию того, как и почему оно стареет.
Тем не менее во многих работах (как правило, тех, где изучаются не механизмы старения, а зависимость этого процесса от тех или иных факторов) укорочение теломер до сих пор рассматривается как некий показатель старения и даже «объективный индикатор истинного физиологического возраста». Трудно сказать, связано ли это с научной модой, междисциплинарными барьерами или поверхностным восприятием научной литературы. Но в любом случае это имеет под собой не больше оснований, чем попытка определить возраст города по числу университетских дипломов и научных степеней у его жителей.

«Надо из цепочки исключить звено...»
Когда волна теломерной эйфории схлынула, исследователям старения пришлось возвращаться к прежним концепциям — которые к этому времени тоже изрядно померкли. Несколько десятилетий безуспешной антиоксидантной терапии сильно подорвали доверие к теории Хармана. Теория Медавара подкупала своим изяществом, но не указывала никаких практических средств избежать или хотя бы замедлить старение: даже для того, чтобы сказать, возможно ли это в принципе, нужно было сначала расшифровать весь сложнейший многоуровневый механизм регуляции индивидуального развития. О теории генетически запрограммированного старения чаще всего не вспоминали вовсе: в эволюционной теории к этому времени возобладали социобиологические модели, основанные на представлении об «эгоистичном гене» и отрицающие какие бы то ни было эволюционные механизмы, кроме отбора индивидуальных генов.
Однако как раз в последние десятилетия ХХ века феномен запрограммированной смерти вновь напомнил о себе совсем в другой области — в биологии клетки. Ученым давно было известно, что клетки многоклеточных организмов способны к самому настоящему самоубийству. Это происходит, когда клетки выполнили свои функции и более не нужны (как, например, клетки хвоста головастика, превращающегося в лягушонка, или клетки основания черешка листа перед листопадом), когда они оказались в несвойственной им ткани, когда они заражены вирусом или их генетический аппарат получил тяжелые повреждения, которые сама клетка не может починить, и в целом ряде других случаев. Это явление получило название апоптоза.
В середине 1980-х американские клеточные биологи разобрались в механизмах апоптоза. Процедура клеточного самоубийства оказалась настолько изощренной, что по сравнению с ней даже харакири выглядит эвтаназией. В ходе апоптоза активизируются особые ферменты с красноречивым названием «казнящие каспазы», рубящие в мелкую лапшу все белки и нуклеиновые кислоты в клетке. Смысл этого самоиссечения понятен, если вспомнить, что причиной апоптоза может оказаться заражение вирусом или грубые нарушения в геноме: вирусные или мутантные гены и потенциально опасные измененные белки не должны выйти за пределы обреченной клетки.
Иными словами, апоптоз представляет собой не патологию, не сбой в работе каких-то биохимических систем, а специализированный механизм самоликвидации, встроенный в каждую клетку и активируемый при определенных обстоятельствах. Дальнейшие исследования показали, что, хотя в организме действительно существуют специальные химические сигналы, запускающие апоптоз в получившей их клетке, дело может обойтись и без них. Причиной апоптоза может послужить, наоборот, прекращение поступления определенных сигнальных молекул от клеток-соседей, как бы подтверждающих, что данная клетка находится на своем месте и занята полезным делом. Или множественные (но в принципе не смертельные) повреждения ДНК, с которыми сама клетка не может справиться, но о которых за пределами ее никто не знает. Клетка многоклеточного организма словно бы только и ищет повода, чтобы покончить с собой, и ее, как заправского ипохондрика, нужно все время уговаривать продолжать жить.

Впрочем, пока речь шла о клетках многоклеточных существ, особых поводов для тревоги не было: логично было предположить, что система апоптоза — это специфическое приспособление многоклеточных организмов против излишней самостоятельности и самовольных действий составляющих их клеток. Однако через некоторое время механизмы клеточного самоубийства, подобные апоптозу, были обнаружены и у бактерий. И если эволюционный смысл самоликвидации бактерии, зараженной фагом, еще более или менее понятен (уничтожая себя, она пресекает распространение заразы и тем спасает другие клетки в колонии — как правило, представляющие собой ее точные генетические копии), то зачем кончает с собой микроб, отравленный антибиотиком или облученный ультрафиолетом? Тем не менее опыты показывали: бактерии-мутанты, у которых выведена из строя биохимическая система самоуничтожения, выдерживают куда более высокие дозы ядов или облучения, чем их нормальные собратья. Иными словами, нормальная бактерия обычно погибает не от непосредственного воздействия того или иного повреждающего агента, а в результате срабатывания механизма самоликвидации, запускаемого всякий раз, как неполадки во внутриклеточном хозяйстве превысят некоторый пороговый уровень.
Какое отношение имеет эта странная особенность биологии бактерий к нашему старению? Известный российский биохимик Владимир Скулачев предположил, что имеет. Согласно выдвинутой им гипотезе старение — это такое же запрограммированное самоуничтожение биологической системы, как апоптоз или смерть отнерестившегося лосося, только не стремительное, а растянутое на многие годы и десятилетия. Достаточно допустить это — и окажется, что идеи медленного кислородного отравления и генетической программы умирания вовсе не противоречат друг другу.
Представим себе, что в живых системах постоянно присутствуют как активные формы кислорода, так и мощная эшелонированная система защиты от них. Однако с течением лет эта защита, повинуясь генетическим командам, постепенно ослабляется. Число поломок, измененных и покалеченных молекул все увеличивается, и все чаще несущие их клетки совершают апоптоз. Получается именно то, что мы видим в стареющем организме: смертность клеток во всех тканях все увеличивается и не компенсируется пополнением, ткани редеют, их возможности слабеют и т. д. До тех пор, пока очередная поломка не окажется для организма роковой.
Но зачем нужно обрекать на смерть вполне исправный организм? Тут мы пока можем только гадать. Есть, например, такая версия: даже в апогее своей прочности антиоксидантная защита генома все-таки не абсолютна. И все время, пока организм живет, в его клетках — в том числе и в половых — накапливаются мутации. Как они проявят себя у будущих потомков — неизвестно. Но опыт генетической борьбы с вредителями и расчеты на моделях показывают, что даже относительно небольшое число носителей летальных мутаций при определенных условиях может распространить их так, что через несколько поколений это приведет к резкому сокращению всей популяции или даже ее полному вымиранию. Высокоприспособленные (а иначе бы они не жили так долго), неограниченно долго живущие особи идеально подходят на роль источника таких мутаций[6]. С другой стороны, таких особей заведомо очень мало (поскольку подавляющее большинство не доживает до такого возраста по внешним причинам), и их выход из строя практически не скажется на жизнеспособности популяции в целом. Вот эволюция и позаботилась о своевременном устранении тех, кто выработал свой ресурс генетической надежности...
Правда, такие рассуждения не объясняют, какие эволюционные силы могли создать подобный генетический механизм — может, и выгодный виду в целом, но оставляющий в явном проигрыше своих носителей. Пока что теория Скулачева прямо противоречит мейнстриму эволюционной теории. Зато она хорошо объясняет и согласует друг с другом целый ряд известных порознь фактов и эмпирических закономерностей. С ее позиций понятны и закон Гомпертца (так проявляет себя генетическая программа старения), и закон Рубнера (если орудие самоубийства организма — оксидативное повреждение, то его скорость должна прямо зависеть от интенсивности обмена), и то, почему антиоксидантная терапия не дала эффекта: она могла бы сработать против случайных поломок, но не против целостной генетической программы.
Помимо всего прочего, в свете теории Скулачева становится понятным странный факт, давно и многократно отмеченный исследователями в разных странах: самым мощным фактором риска преждевременной смерти в развитых странах оказывается... одиночество. По расчетам американских эпидемиологов, вклад этого фактора в сокращение ожидаемой продолжительности жизни американских мужчин составляет 3500 суток, то есть почти десять лет. При этом специальные исследования показывают: дело не только в том, что одинокие люди ведут более нездоровый образ жизни или остаются без помощи в острых состояниях — одиночество губительно и само по себе. Причем критичным оказывается даже не объективная интенсивность контактов с другими людьми, а именно субъективное ощущение собственной ненужности и отсутствия внимания со стороны окружающих. Иными словами, человеку, словно клетке многоклеточного организма, жизненно необходимы постоянные сигналы, подтверждающие его востребованность: дефицит таких сигналов ускоряет постепенное самоуничтожение организма, а их обилие, наоборот, замедляет его.
Но какие практические меры для борьбы со старением следуют из этой теории? Сам ее автор полон оптимизма: если, мол, наше старение — результат работы специальной генетической программы, так ее можно и остановить. Надо только нащупать и сломать ключевое звено в той цепочке биохимических процессов, которая заставляет нас стареть, — скажем, вывести из строя ген, кодирующий какой-нибудь сигнальный белок, или сделать клетки нечувствительными к нему. Однако в его собственных опытах мыши, получавшие защитный препарат, избавились от характерных старческих заболеваний — но средняя продолжительность их жизни была практически такой же, как и в контрольной группе. Видимо, программа старения (если она вообще существует) умеет добиваться своего, обходя поставленные исследователями блоки и находя новые орудия убийства взамен сломанных. С такими сложными и целенаправленными программами современная функциональная генетика работать не умеет — она делает лишь первые шаги, учась манипулировать работой отдельных генов.
Что ж, придется немного подождать. А до тех пор пока наука не найдет способ отключить программу старения, нам остается только любить друг друга и стараться быть нужными обществу.

[1] Последний метод даже нашел свое отражение в художественной литературе — в рассказе Артура Конан Дойла «Профессор на четвереньках» и повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»; характерно, что оба писателя — врачи по первой профессии.
[2] Не считая его ближайшего родственника — капского землекопа.
[3] Эти крошечные (около миллиметра длиной) существа в последние десятилетия стали любимым объектом экспериментальной геронтологии: весь их жизненный цикл от откладки яйца до смерти от старости вышедшего из него червя занимает несколько суток.
[4] В 2009 году Элизабет Блэкберн и Кэрол Грейдер была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Работы обеих исследовательниц безусловно достойны этой награды, но нельзя не удивиться тому, что в списке лауреатов нет ни Алексея Оловникова, ни Леонарда Хайфлика. По той же логике за вытаскивание репки в известной сказке следовало бы наградить только мышку.
[5] В процессе злокачественного перерождения (малигнизации) клетка начинает производить теломеразу, обеспечивающую постоянную «надставку» утрачиваемых при делении теломер.
[6] Особенно самцы, которым накопленный опыт и уже захваченные ресурсы могут позволить вообще монополизировать спаривание с самками, не допуская к нему молодых соперников.
