Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Своя святыня ближе к телу
Панченко А. А. Иван и Яков — необычные святые из болотистой местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 448 с.
Сюжет, с которым знакомит нас антрополог и фольклорист из Санкт-Петербурга Александр Панченко, на первый взгляд кажется сугубо региональной (из Новгородской губернии) диковиной, однако выводы исследователя касаются менталитета всех наших соотечественников. Это обусловлено тем, что предлагаемая вниманию читателя работа относится к разряду междисциплинарных, соответственно автор прибегает к методам исследования, свойственным культурной антропологии и фольклористике, религиоведению и истории.
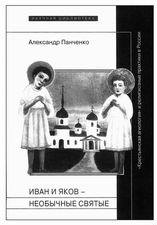 Тезис, с которого начинает автор, довольно резок, если не сказать полемичен: и официальное, и народное православие суть крайне далекие от жизни абстракции, возникшие в ходе предпринятых властной элитой попыток дать определение норме и тому, что ей противостоит. Подлинная религиозная жизнь — это сложная мозаика текстов, артефактов и коллективных и индивидуальных практик, как правило, региональных, вписанных в годовой земледельческий цикл и локальный ландшафт. На общенациональном уровне они нередко остаются непризнанными или замалчиваются, однако, несмотря на это, поразительно жизнеспособны.
Тезис, с которого начинает автор, довольно резок, если не сказать полемичен: и официальное, и народное православие суть крайне далекие от жизни абстракции, возникшие в ходе предпринятых властной элитой попыток дать определение норме и тому, что ей противостоит. Подлинная религиозная жизнь — это сложная мозаика текстов, артефактов и коллективных и индивидуальных практик, как правило, региональных, вписанных в годовой земледельческий цикл и локальный ландшафт. На общенациональном уровне они нередко остаются непризнанными или замалчиваются, однако, несмотря на это, поразительно жизнеспособны.
Автор начинает рассказ с культа Ивана и Якова, чьи мощи, по легенде, почивают под спудом в церкви села Менюша Новгородской области, которые, согласно первым житиями и устным рассказам, во времена Ивана Грозного обитали неподалеку — в селе Прихон. Два брата (старшему было восемь, младшему — пять), дети местного крестьянина, подсмотрели, как их отец резал и свежевал барана, а потом решили разыграть увиденную сценку в лицах. В итоге старший зарезал младшего, затем, испугавшись содеянного, спрятался в печи за дровами, а когда мать разожгла огонь, задохнулся и сгорел.
Строго говоря, мы даже не располагаем сведениями об обстоятельствах и самом факте их канонизации, хотя имеется сообщение об освидетельствовании мощей в конце XVII века, а в XIX веке братья попали в месяцеслов. Для причисления к лику святых персонажи кажутся совершенно неподходящими: как отмечает автор, предание об отроках противоречит агиографическим канонам хотя бы потому, что повествует не о жизни братьев, а об их гибели, зато отлично подходит для баллады или трагического анекдота.
Панченко, выявляя в текстах «житий» ряд анахронизмов, предполагает, что появление почитаемой могилы на Менюшской пустоши произошло не раньше середины XVII века. Сама же их история, как показывают его разыскания, относится к категории бродячих сюжетов. Она известна с III века нашей эры: так, по преданию, погибли дети Макария, жреца храма Диониса в Митилене, который убил чужеземца, оставившего ему на хранение свое имущество.
Александр Панченко весьма предусмотрительно оговаривает во введении, что имеет смысл рассуждать лишь о потенциальном сакральном смысле того или иного сюжета. Для того чтобы он стал таковым, нужны какие-то дополнительные условия и факторы — психологические, социальные и т. д.
Это, впрочем, не мешает Александру Панченко в целях выявления общей семантики сравнивать житие менюшских святых с сюжетами из Священного Писания и греческими мифами, то есть с историями Агамемнона и Ифигении, Каина и Авеля, Авраама и Исаака. Так исследование петербургского фольклориста и антрополога попадает в контекст работ французского философа Рене Жирара. Последний полагал, что эти мифы закрепляют итог эволюции архаических обществ: от неуправляемого насилия внутри группы («жертвенный кризис») к ее объединению в акте агрессии, направленном на жертву отпущения («учредительное насилие»), и затем — к замене последней закланием животного или даже каким-то обрядом, не предполагающим пролития крови.
Панченко классифицирует историю Ивана и Якова и ей подобные как эксцесс, обратную трансформацию модели Жирара: вместо замены человеческого жертвоприношения на заклание животного или даже какой-то бескровный ритуал налицо регресс к «жертвенному кризису».
Тем не менее в средневековой Европе сюжеты о гибели невинных детей или подростков (главным образом принцев и принцесс, погибших от рук заговорщиков) очень характерны для преданий, обосновывающих появление многих святых-покровителей и сакральных мест. «Вряд ли стоит думать, что французские или русские крестьяне в Средние века и Новое время испытывали потребность в воображаемом "учредительном насилии" для избавления от агрессии и поддержания социальной солидарности», — пишет исследователь. Мы не можем не похвалить автора за осторожность.
Однако очень уж интригующе выглядят приведенные в его книге многочисленные свидетельства этнографов о распространенном в некоторых районах Русского Севера, Карелии и Поволжья обычае приносить в жертву быков или баранов (главным образом в Ильин день). В некоторых местах часть жертвенного мяса даже приносили в церковь. Обычай этот можно считать заимствованным у аборигенов края, однако специалист по фольклору и этнографии угро-финских народов Феликс Ойнас, на которого ссылается Панченко, считает, что последние заимствовали его ... у русских. Как знать, возможно, и в Новгородском крае, как и в соседних губерниях, некогда существовал «бараний праздник», а предание об Иване и Якове и было тем «воображаемым актом учредительного насилия», которое напоминало о заместительном смысле жертвоприношений?
Впрочем, сам Панченко вынужден признать, что для верующих балладные ужасы жития Ивана и Якова второстепенны. К глубокому разочарованию поклонников и противников теории Рене Жирара, многие паломники могут ее и не знать совсем. И даже в преданиях, записанных от местных жителей, обстоятельства их гибели — далеко не самый устойчивый элемент повествования.
Для местных жителей куда важнее то, что происходило потом. По преданию, охотники, ходившие по лесу близ Менюши, заблудились в лесу и вышли к неизвестному ранее озеру, в котором плавали два гроба с телами отроков. После того как их удалось выловить и вернуть на Медведский погост, отроки явились местным жителям во сне и повелели похоронить их на пустоши, где раньше был Менюшский монастырь, и возвести там часовню. Начались чудесные исцеления.
Заключительная часть истории куда типичнее для Русского Севера, чем ее начало. Иван и Яков попадают в ряд «святых без житий» (выражение С. А. Штыркова), известных главным образом своими чудесами уже после смерти. Обычно повествование о безымянных святых начинается с эпизода находки неопознанного тела (оно само выходит из-под земли или приплывает по реке), которое не подверглось тлению. После этого возле тела начинаются чудесные исцеления. Являясь кому-то из местных жителей во сне, покойник называет свое имя, благодаря чему удается что-то узнать о его жизни, дает указания, что делать с телом, и начинает исцелять страждущих и карать маловерных.
По большому счету, Панченко обращается к анализу материала, который уже рассматривался в работах многих исследователей (Т. А. Бернштам, С. А. Штырков, А. С. Лавров, Ив Левин, Е. А. Рыжова и многие другие). На наш взгляд, результат получается весьма интересным. Приятно видеть, как наука фольклористика подает признаки жизни, то есть как-то обновляется.
Панченко довольно убедительно пересматривает предложенное в начале XX века этнографом Дмитрием Зелениным истолкование народной классификации умерших. С легкой руки классика считалось, что покойников восточные славяне подразделяли на «родителей», умерших в положенное время от старости, и «заложных», не проживших на земле положенный срок (самоубийц, утопленников и т. д.), а потому беспокойных, опасных и вредоносных.
Александр Панченко справедливо указывает, что в записанных в XIX веке вятскими фольклористами диалектологических материалах встречается и выражение «заложные родители», что означает «умершие без отпевания», «те, кого не поминают». Данное значение, по убеждению автора, было более распространенным и более важным для крестьянской деревни.
И к культу безымянных святых оно имеет самое прямое отношение. Неопознанное тело — это ничейный покойник, с которым не поддерживают связь потомки, вследствие чего он может попытаться нарушить границу миров со своей стороны. Согласно приведенным Панченко материалам в некоторых районах России считалось, что «заложные родители» могут уводить в лес скот или даже проклятых детей.
Неопознанный мертвец становится всеобщим. Более того, его почитание приносит своего рода магическую прибыль. Вокруг тела разворачивались практики, которые в работе Панченко обозначены как «религиозное потребление», хотя, возможно, более правильным было бы назвать это потребление «магическим». Целебными и чудотворными становятся трава на его могиле, взятые оттуда песок, воды источника, забившего там, где он останавливался (в случае Ивана и Якова — воды озера, где нашли их останки), и т. д. Для людей, проживающих рядом с подобными святыми местами, такие «мелкие» детали важнее всего. Точка зрения чужаков их мало интересует.
Как правило, «взаимоотношения» «святых без житий» с официальной церковью складывались непросто. Последняя, мирясь с их почитанием в определенной местности, не допускала «общерусского прославления», запрещала переносить мощи в церкви, изымала иконы, закрывала часовни над их могилой, скрывала места захоронения и почитания при перестройке храма и т. д. Чаще всего отказ в канонизации обосновывался неподобающим состоянием мощей, их тленностью.
После революции советская власть взяла на вооружение практику освидетельствования мощей как средство для борьбы с религией как таковой. Вскрывая гробницы святых и демонстрируя «трудящимся» их разложившиеся останки, она надеялась поколебать веру в «телесное нетление» святых. Разложившимся останкам мнимых чудотворцев новая власть в конце концов попыталась противопоставить триумф науки — нетленного Ленина. Однако никакого действия эта пропагандистская комбинация не возымела. Подлинное состояние мощей нисколько не поколебало народной веры.
Думается, что теория «религиозного потребления» это полностью объясняет. Не забота о спасении души объясняла преданность крестьян своим странным святым. Их интересовал престиж их малой родины, исцеление от болезней, сохранность скота и безопасность детей. Более того, осквернение могил пришлось очень кстати в лихую годину — им удалось объяснить все те бедствия, которые после революции обрушились на Россию и ее народ.
Панченко заканчивает свою книгу, высказывая интересную гипотезу. Суть ее в том, что ученые порой принимают за архаику и вечные архетипы те элементы традиции, которые представляют собой ее ответ на исторически конкретные вызовы, болезненные, а то и катастрофические изменения в жизни конкретного общества.
Как правило, исследователи имеют дело с фольклором, который уже записан, в то время как от традиционного уклада жизни его носителей ничего не осталось. Устные рассказы о святынях, связанных с именами Ивана и Якова, — несколько иной случай. В нашем распоряжении — не только записи фольклористов, но и архивы КГБ: описание безуспешных попыток, предпринятых этой организацией для искоренения культа Ивана и Якова в 60-е годы прошлого века, пожалуй, одно из самых интересных мест в книге.
О том, что на советскую эпоху пришелся подъем народного христианства, писали не раз. Когда священников расстреливали и ссылали, религиозные книги изымали и уничтожали, храмы разрушали и использовали в других целях, устная либо рукописная передача религиозных знаний становилась едва ли не единственно возможной, личные религиозные практики заменяли коллективные, а магия теснила религию.
Однако Панченко повествует нам не о частичном возрождении язычества, а о появлении новых рассказов о каре, постигшей тех, кто пытался осквернить святыни, связанные с именами Ивана и Якова.
Как бы ни стремился автор уйти от широких обобщений, они напрашиваются сами собой. Не так уж важно, искореняет ли центральная власть подобные культы осознанно, считая их мракобесием, или же, не имея о них ни малейшего понятия, искренне верит в неразрывность и прочность духовных скреп, соединяющих ее с народом, понимаемым мистически и абстрактно. Пока локальные сообщества или даже определенные социальные слои по всей России видят в подобных необычных святых своих единственных заступников, вера в них неискоренима.
