Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Бритые и бородатые
Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
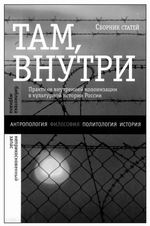 С идеей «внутренней колонизации» как особенности российской истории Александр Эткинд выступил в начале 2000-х годов. Наиболее систематично она была сформулирована в статье «Бремя бритого человека»[1]. Поскольку высказанная тогда гипотеза не нашла сколько-нибудь широкого отклика в научном сообществе, десятилетием позднее он предпринял новую попытку ее популяризации. В 2010 году он выступил инициатором международной конференции, целью которой было обсудить возможности осмысления истории России сквозь призму внутренней колонизации. Плодом этой конференции и стала рецензируемая книга. Впрочем, назвать ее сборником материалов не поворачивается язык. Поскольку тогдашние докладчики переработали свои выступления в полноценные статьи, получился солидный, выверенный и снабженный впечатляющим аппаратом труд. (Один только указатель имен занимает 24 страницы, набранные убористым шрифтом.) Правда, коллективной монографией его тоже не назовешь — по той прежде всего причине, что не все участники сборника разделяют теоретическую позицию Александра Эткинда. Одни позволяют себе дистанцироваться от выражения «внутренняя колонизация», обсуждая как его возможные плюсы, так и минусы (Дирк Уффельманн), другие согласны принять эту объяснительную модель только при условии ее дополнения другими моделями (Марина Могильнер), а Джейн Бёрбанк и вовсе отмежевывается от данного подхода, предпочитая ему «имперскую» парадигму.
С идеей «внутренней колонизации» как особенности российской истории Александр Эткинд выступил в начале 2000-х годов. Наиболее систематично она была сформулирована в статье «Бремя бритого человека»[1]. Поскольку высказанная тогда гипотеза не нашла сколько-нибудь широкого отклика в научном сообществе, десятилетием позднее он предпринял новую попытку ее популяризации. В 2010 году он выступил инициатором международной конференции, целью которой было обсудить возможности осмысления истории России сквозь призму внутренней колонизации. Плодом этой конференции и стала рецензируемая книга. Впрочем, назвать ее сборником материалов не поворачивается язык. Поскольку тогдашние докладчики переработали свои выступления в полноценные статьи, получился солидный, выверенный и снабженный впечатляющим аппаратом труд. (Один только указатель имен занимает 24 страницы, набранные убористым шрифтом.) Правда, коллективной монографией его тоже не назовешь — по той прежде всего причине, что не все участники сборника разделяют теоретическую позицию Александра Эткинда. Одни позволяют себе дистанцироваться от выражения «внутренняя колонизация», обсуждая как его возможные плюсы, так и минусы (Дирк Уффельманн), другие согласны принять эту объяснительную модель только при условии ее дополнения другими моделями (Марина Могильнер), а Джейн Бёрбанк и вовсе отмежевывается от данного подхода, предпочитая ему «имперскую» парадигму.
Такие книги в англоязычном культурном ареале называют thought provoking. Они побуждают к дискуссиям независимо от того, согласны ли их участники с тем, что в этих книгах утверждается. Поскольку я принадлежу скорее к числу скептиков, чем адептов теоретического предприятия Александра Эткинда, начну с разбора предложенной им концепции. Ее суть, отвлекаясь он нюансов, можно свести к следующим трем утверждениям.
Утверждение первое. Культурная дистанция, отделявшая в Российской империи властвующих от подвластных, была сопоставима с культурной дистанцией, которая отделяла жителей европейских метрополий (скажем, британцев и французов) от обитателей их колоний. Цивилизирующее бремя возлагалось в России на представителя образованного класса (с петровских времен — брившего подбородок); ему предстояло просветить темного (и неизменно бородатого) русского крестьянина.
Утверждение второе. Отношения между правителями и подданными в российском случае строятся по колониальной модели. А именно, (а) решения по поводу обустройства жизни «народа» принимаются без его согласия; (б) «народ» выступает не только как пассивный объект управления, но и как экзотический объект изучения.
Отсюда третье утверждение: применимость к российскому случаю предложенного Эдвардом Саидом концепта ориентализма. Только теперь предметом «экзотизирующего» разглядывания (т. е. предметом отчуждения и восхищения одновременно) выступают не обитатели заморских колоний, а люди, живущие внутри одной и той же страны.
Итак, глубокая культурная дистанция между господствующими и подчиненными с одной стороны, репрессивность методов управления и «ориентализм» в обращении носителей культурно-символической власти с подвластным населением с другой стороны — вот черты, позволяющие смотреть на российскую историю как на историю «внутренней колонизации».
В какой мере эти тезисы выдерживают критику? Начнем с тезиса о культурной дистанции как важнейшей характеристике того, что Эткинд называет «колониальной ситуацией».
Взаимному восприятию элит и масс в Российской империи в самом деле было свойственно глубокое отчуждение. Представители элит в России XIX столетия порой чувствовали себя иностранцами в собственной стране (о чем свидетельствуют многочисленные высказывания русских авторов от Чаадаева до Герцена и Тургенева). Проекты российских политических и культурных верхов по вестернизации России воспринимаются низами как навязывание им чуждых образцов. Не случайно в российской интеллектуальной среде появляются такие феномены, как славянофильство и народничество. Их адепты настаивают, что перенос на российскую почву институтов, возникших за границей, разрушает органику русской жизни.
Однако, строго говоря, культурный разрыв между элитами и массами свойственен всем досовременным, «домодерным» обществам. Иностранцами в собственной стране были аристократы и в Англии, и во Франции, и в любой другой европейской стране до тех пор, пока сословно-династические государства не превратились в «национальные». Высшие сословия вплоть до конца XVIII столетия представляли собой особую группу, если угодно — особую человеческую расу. Они иначе одевались, иначе ели, придерживались иных норм поведения и даже говорили на ином языке (иногда в буквальном смысле), чем простолюдины. При дворе Фридриха II, так же как при дворе Екатерины II, говорили по-французски и следили за утонченностью манер, неведомых грубому пейзану. Специфика России по сравнению с ее западными соседями заключалась не в том, что культурная дистанция между верхами и низами была здесь больше, чем в Европе, а в том, что там она быстрее сокращалась. Происходило это в силу развития капитализма и сопутствующих ему институтов образования и средств массовой информации. Россия же в ту пору, когда западноевропейские страны стремительно двигались по пути капиталистической индустриализации (или, в другой терминологии, модернизации), оставалась аграрной страной и абсолютной монархией. Ее основное население составляли неграмотные и бесправные крестьяне (треть российских подданных состояла в крепостной зависимости, формально до 1861-го, а по существу — вплоть до 1883 года). Отсюда и культурный разрыв между образованным классом и «народом», столь болезненно переживавшийся русской интеллигенцией, и распространение в ее среде радикальных антиправительственных («антигосударственных») настроений. Отсюда и восприятие российской власти как чуждой чаяниям «народа». Отсюда, наконец, и такой своеобразный идеологический феномен, как народничество, с его идеализацией русского крестьянства. Кстати, если народничеству непросто подыскать аналоги в западноевропейской культурной истории[2], то прямой аналог славянофильства очевиден. Это немецкий романтизм первой трети XIX века. Культ органической жизни, противопоставлявшиеся механической цивилизации, явно был навеян политическим и экономическим отставанием тогдашней Германии от ее западных соседей.
Таким образом, отмеченные особенности России XIX столетия можно объяснить, не отсылая к некоей присущей российской власти колониальной модели управления собственным населением. Это, впрочем, не единственное возражение, которое вызывает предложенная Александром Эткиндом и развиваемая его единомышленниками гипотеза.
На мой взгляд, представление о российской истории как истории «внутренней колонизации» сводит многообразие агентов социального действия к противостоянию двух искусственных сущностей: колонизирующей власти с одной стороны и колонизируемого народа — с другой. Хотелось бы все же разглядеть за этими конструктами действительных акторов. Кто выступает субъектом «внутренней колонизации» России? Если такой субъект — власти, то власти какого уровня? Если такой субъект — элиты, то о каких конкретно элитных группах идет речь? Если о политических элитах, то, опять-таки, идет ли речь о членах царского правительства и его советниках или обо всех членах высшего сословия, хотя бы и не допущенных к принятию решений? (Не говоря уже о том, что внутри каждой из этих групп существовали серьезные идеологические разногласия. Сперанский — совсем не Аракчеев, а Витте — не Плеве.) Если же имеются в виду культурные элиты, то они еще более разнородны в идейном отношении.
Столь же много неясностей порождает и вопрос об объекте «внутренней колонизации». По прочтении книги остается непонятным, кого, собственно, «колонизировала» российская имперская власть — этнически и религиозно чуждые группы («инородцев» и «иноверцев»)? Русских староверов и прочих религиозных диссидентов (раскольников и сектантов)? Русское крестьянство в целом?
Наконец, гипотеза внутренней колонизации меня смущает еще и потому, что она приглашает мыслить историю России под знаком континуума. В такой перспективе большевистский эксперимент есть не более чем очередной извив колониалистской линии. Так сказать, от Петра и Екатерины к Ленину и Сталину. Мало того: коль скоро постсоветский период авторы считают возможным рассматривать как «постколониальный», Путин начинает казаться замыкающей фигурой в этом искусственном пантеоне. В результате вместо анализа реальных людей в конкретных исторических обстоятельствах мы начинаем повсюду усматривать действие трансысторической культурной матрицы.
Надо полагать, составители и редакторы сборника не раз сталкивались с критикой, а потому постарались отвести от себя возможные упреки, заявив, что «внутренняя колонизация» — это не строгое научное понятие, а метафора. И их интересует не столько истинность предложенной метафоры, сколько ее эвристичность. Ее способность послужить прибавлению знания.
С этой оговоркой чтение книги из головной боли можно попробовать превратить в удовольствие. Львиная доля из вошедших в сборник текстов содержит нечто обогащающее — от нетривиальных, пусть сколь угодно спорных мыслей до аналитического реферирования неизвестных или малоизвестных источников. Аппарат, которым снабжены статьи, сам по себе представляет увлекательное чтиво. Это ссылки, по преимуществу комментируемые, на публикации в журналах полутора вековой давности, на труды западных социально-культурных антропологов, работающих в русле postcolonial studies, на обширную русскоязычную и переводную литературу по истории империй и национальных государств, а также по теории и истории литературы и киноведению. Поскольку в сборнике целых двадцать пять статей, рассказать сколько-нибудь внятно обо всех или дать обзор всего содержания книги не представляется возможным. Поэтому я ограничусь несколькими комментариями, сгруппировав их по следующим пунктам.
Пункт первый — это содержащиеся в книге мысли, которые, на мой взгляд, несут с собой методологическое обогащение современной гуманитарной науки.
Поскольку многие исследователи невольно эссенциализируют категории «Запада» и «Востока», им приходится относить Россию либо к одному, либо к другому (либо подчеркивать то, что она «не определилась» в своем «цивилизационном выборе»). В результате в осмыслении имперской (а заодно и советской) России последняя предстает или частью первого мира (несущего третьему миру свет цивилизации), или частью третьего — «варварского» и экзотического мира. Специфика России (и вообще того пространства, которое в годы холодной войны было вторым миром) полностью исчезает, эту специфику просто игнорируют. Стоит ли говорить, что в данном случае имеет место та самая процедура, которая описана Саидом под именем «ориентализма»? Понятно также, что в случае если такой взгляд проецируется на Россию российскими наблюдателями, то перед нами не что иное, как самоориентализация[3].
Примером того, как можно избежать подобных аберраций исследовательского воображения, является статья Марины Могильнер. Ее предмет — антропология российского еврейства на рубеже XIX—XX столетий. Евреи в работе Могильнер выступают не только как объект, но и как субъект взгляда. Дело в том, что в период, когда расовый дискурс получил распространение в европейской антропологической науке (а именно во второй половине XIX столетия), ученые из еврейской среды (медики, биологи) стали активно осваивать этот дискурс, в том числе используя троп «еврейская раса». Западноевропейские евреи надеялись тем самым компенсировать амбивалентность своего положения в обществе. Вполне возможно, что обращение на самих себя расовых категорий было своеобразной попыткой еврейских ученых ответить на вызов научного расизма и антисемитизма.
Что касается дискуссий на еврейскую тему, которые велись в кругах российских антропологов того времени, то из их подробного разбора Мариной Могильнер можно извлечь по меньшей мере четыре вывода. Во-первых, российские дискуссии ничем принципиальным не отличались от европейских; Россия, следовательно, никоим образом не была аномалией, она была «нормальной страной». Во-вторых, не был чем-то уникальным и так называемый еврейский вопрос; происхождение этого «вопроса» следует искать в «общеевропейских процессах модернизации, национализации и империализма» (с. 405). В-третьих, Российское государство накануне Первой мировой войны не выработало единой идеологической стратегии в отношении антропологической науки. Оно колебалось в том, какую версию последней поддерживать — «колониальную», «национализирующую» или третью, «синтезирующую», которая позволила бы собрать имперское целое на новых основаниях. И, наконец, последний, самый нетривиальный вывод данного исследования. Он заключается в том, что, хотя в российской антропологии той поры были представлены и колониалисты, и националисты, наибольшим влиянием все же обладала «либеральная антропология имперского разнообразия» (с. 382).
Со статьей Могильнер перекликается текст Кевина Платта, который привлекает внимание к общности исторического опыта России и Западной Европы. При этом его предмет лежит совсем в другом времени и в другом месте. Это постсоветская Рига, а еще точнее, ее центральная площадь, где некогда стоял памятник Петру I. История этого памятника послужила отправной точкой размышлений американского историка культуры. Монумент был воздвигнут в 1910 году в ознаменование двухсотлетия входа в город русских войск. Строительство памятника, между прочим, велось на частные пожертвования горожан — русских, латышей, остзейских немцев и т. д. Пятью годами позже, во время войны, он был демонтирован и отправлен в Петербург, но до места назначения не добрался, так как судно, на которое его погрузили, было потоплено вражеским кораблем. Перипетии дальнейшего времени помешали восстановлению памятника[4]. В 1970-х рижский горисполком принял решение завершить работы по реконструкции утраченной скульптуры к 1990 году. Но тут грянула перестройка, и идея заглохла. Как бы то ни было, в конце 1990-х, то есть уже в постсоветский период, один латвийский бизнесмен предложил за свой счет провести все работы по восстановлению памятника — в любом удобном месте в центре города. Власти отвергли подарок щедрого рижанина (и после долгих препирательств бизнесмену пришлось поместить металлического Петра во дворе своего офиса). Почему? Потому что подобного рода памятники актуализируют версию истории, не укладывающуюся в русло официального нарратива. Согласно трактовке, принятой сегодняшним латвийским государством и разделяемой большинством латышей, выход Латвии из состава СССР был (а) концом оккупации и (б) «возвращением в Европу». Но о возвращении куда, собственно, идет речь, если историческую пленку отмотать назад не до 18 ноября 1918 года, а еще на несколько столетий? В отличие от стран Азии и Африки, колонизированных первым миром, который «может действительно приносить дары (пусть и сомнительные) современного развития» (с. 143), Прибалтика являлась колонией Российской империи, а потом и Советского Союза и, стало быть, «получила дар модерности» и «дар мировой культуры» не благодаря причастности к общеевропейской истории, а из рук завоевателя» (с. 144).
Сложности с определением «истинной» национальной идентичности испытывают не только жители современной Латвии (и латыши, и русские). Проблемой «оккупации» 1940 года дело не исчерпывается — необходимо осмысление более глубоких исторических пластов. Где находится «настоящая» Латвия — «в волшебном кругу европейской истории, которая дает особое право на универсальные институты современной демократии» (с. 147), или вне этого круга? Автор предлагает не ломать голову над подобными (заведомо неразрешимыми) вопросами, а вместо этого обратиться к проблематике региона, который «был провинцией и в европейской истории, и в Российской империи» (там же). Но тезис, отстаиваемый Платтом, не сводится к этой достаточно очевидной констатации. Автор проблематизирует сами категории «провинции» и «провинциальности», этих деривативов понятий «центра» и «периферии». В самом деле, пытаясь установить местоположение центра (по отношению к которому все остальное будет провинцией), мы обнаруживаем, что предмет поиска постоянно от нас ускользает. Если в случае Прибалтики движение в «Европу» приводит в Польшу или Германию, то в случае Польши и Германии оно идет еще дальше на — разумеется, конструируемый — «Запад». Чистого Запада как воплощения «европейской модерности» найти не удастся, ибо его не существует. «Подобно матрешке, идентичность европейских обществ зависит от бесконечной системы градаций между западным "центром" и восточной "периферией". При этом в центре матрешки ничего нет» (с. 148).
Пункт второй — яркие и запоминающиеся исследовательские ходы, достойные дальнейшего развития. К числу таких ходов принадлежит мысль о неопределенности границ между внутренним и внешним и, соответственно, о принципиальной открытости вопроса о том, что вообще следует считать колонией в случае Российской империи. К этой мысли на разном материале обращаются многие авторы сборника. Майкл Ходарковский, в частности, сопоставляет российский опыт управления территорией империи с морскими империями Европы (помимо Британской и Французской это Испанская, Португальская, Бельгийская, а также, в течение короткого промежутка времени, Германская). В ходе этого сопоставления обнаруживается масса любопытных вещей. Во-первых, российские власти категорически не принимали лексики «метрополии» и «колоний», но при этом многие завоеванные территории управлялись Министерством иностранных дел. Возникает своего рода парадокс. С одной стороны, Петербург категорически отказывался считать Российское государство колониальным. С другой стороны, при МИДе (а также при военном ведомстве) существовал Азиатский департамент, который «мало чем отличался от британского Colonial Office, французского Arab bureau или германского Kolonialamt» (с. 109). К сожалению, автор не предложил своей разгадки этого ребуса и никак не соотнесся с уже опубликованными работами на этот счет. Я имею в виду заочную полемику Вилларда Сандерленда и Анатолия Ремнева в сборнике Imperium inter pares, вышедшем в 2010 году[5]. Здесь читателю предлагалось два противоположных ответа на вопрос о том, было ли возможным появление в Российской империи министерства колоний.
В статье Кёхея Норимацу тема воображаемого характера и подвижности национальной границы поднимается совсем в ином ключе. Автор исследует кавказские тексты русского романтизма (Бестужев-Марлинский, Пушкин и Лермонтов). В роли «другого», который служит русским авторам первых десятилетий XIX века зеркалом для того, чтобы разглядеть существо «русскости», выступает, во-первых, Европа, а во-вторых, недавно покоренный Кавказ. Оба этих «других» имеют конститутивное значение для русской национальной идентичности. Не случайно В. Г. Белинский, говоря об отношении русских к Европе и европейцам, отмечает «подражательность» в русском поведении. Если «француз везде француз», то «русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец». Симптоматично, однако, что эту черту Белинский истолковывает как достоинство русского национального характера. Русские, говорит он, всегда приспосабливаются к обычаям тех народов, среди которых им приходится жить — будь то в Европе или на Кавказе. То, что П. Я. Чаадаев в «Философических письмах» описывал как отрицательное свойство русских (и что, кстати, тот же Петр Яковлевич в «Апологии сумасшедшего» истолковал прямо противоположным образом), Белинский однозначно рассматривает в положительном ключе. Норимацу полагает, что «неопределенность границы с Европой, которая рассматривается как недостаток, компенсируется неопределенностью границы с Кавказом, которая видится в положительном свете. В отличие от подражания Европе, подражание Кавказу никаким комплексом неполноценности не сопровождается» (с. 300). В этой связи показательны параллели с Японией. Японские элиты эпохи императора Мэйдзи крайне болезненно переживали отсталость своей страны. Модернизация Японии, предпринятая в последнюю треть XIX столетия, была в полном смысле слова ее самоколонизацией. Японские правители с определенного момента колонизировали «институты, культуру, быт и более всего менталитет народа», добровольно подчинившись логике, навязанной европейскими державами (с. 301).
Интерес пытливого читателя вызовут, как мне кажется, статьи историко-культурного плана. Выделю две из них. Это статья Марии Майофис о рецепции индоевропейской теории в российской ориенталистике конца XVIII — начала XIX века и статья Валерии Соболь о варяжском мифе в российской историографии того же периода.
Ценность первой из упомянутых работ мне видится прежде всего в том, что она привлекает внимание к проблематичности ориентализма как концепта. Критики Саида еще в 1980-е годы показали, что слухи, будто западное востоковедение всегда больно ориентализмом, сильно преувеличены. Майофис вносит свою лепту в эту критику (хотя подобной цели она эксплицитно не ставит). Автор отправляется от наблюдения Эткинда, показавшего, что британские и русские колонисты, несмотря на различие в опытах колонизации, оставили после себя сходные путевые заметки. Майофис задается целью проследить истоки данного сходства. Оно лежит в индоевропейской теории, под влиянием которой российское востоковедение находилось с самого начала XIX столетия. Основной постулат данной теории — общие корни «Востока» и «Запада», единство человеческой цивилизации поверх установившихся культурно-политических (прежде всего конфессиональных) границ. Кстати, создатель индоевропейской теории Уильям Джонс был, мягко говоря, не совсем корректно представлен Саидом в его экспозиции европейского востоковедения. Если верить Саиду, английский ученый лишь систематизировал, сопоставлял и классифицировал, а значит «приручал» Восток, «тем самым превратив его в отрасль европейского знания», тогда как Джонс, как показывает Майофис, «как раз был склонен говорить о своеобразии каждой из азиатских культур и посвящал им отдельные подробные выступления, которые превращались позже в объемные статьи» (с. 219). Свою реабилитацию ориенталистики как отрасли знания автор проводит на российском материале. Российское востоковедение (равно как и европейское, частью которого оно выступало) отнюдь не сводилось к попыткам интеллектуальной колонизации Востока. Майофис рассказывает читателю о некоторых значимых фигурах российской ориенталистики рубежа XVIII—XIX столетий. Ее экспозиция начинается с находившегося в 1780-х годах на русской службе британского медика Матвея Гутри и заканчивается этнографом-любителем Вадимом Пассеком (1830-е годы). Благодаря тому обстоятельству, что российские ориенталисты усвоили основоположения индоевропейской теории, они описывали «Восток» (будь то Китай, Кавказ или Сибирь) вдумчиво и уважительно. Любопытно, что востоковедение для русских фольклористов времен министерства С. С. Уварова было средством доказательства правоты национально-консервативной идеологии. Недаром Пассек водил дружбу с С. П. Шевыревым и М. П. Погодиным. Не исключено, что симпатия, с какой русский этнограф описывал нравы и обычаи китайцев, не в последнюю очередь была мотивирована желанием подчеркнуть их умение уберечь национальные традиции от «чужеземных влияний» (с. 237).
В статье Валерии Соболь анализируется миф о призвании варягов с точки зрения его функционирования как одного из базовых нарративов русской истории и национальной идентичности в имперский период. Этот миф позволяет описать начало российской государственности в категориях внутренней колонизации, полагает автор. «Чужие» приглашены на Русь для того, чтобы править «своими» — в результате радикально проблематизируется сама граница между «чужим» и «своим», «внутренним» и «внешним». Весьма показателен разброс в оценках варяжского призвания в русской историографии XVIII — первой половины XIX века: от «завоевания» (Г.-Ф. Миллер) до добровольного принятия власти по приглашению местных племен (Н. М. Карамзин). Столь глубокие различия в оценках обусловлены различием в идеологических позициях. В глазах монархистов-государственников (от Карамзина до Погодина) варяги — законные наследники, взявшие власть над страной, раздираемой междоусобицами, в то время как в оптике сторонников ограничения монархии (А. Н. Радищев) варяги — завоеватели, узурпировавшие права «суверенного народа» (с. 187). Раскрыть богатейший символический потенциал варяжского мифа Соболь берется на материале трех текстов екатерининской эпохи. Это пьеса самой Екатерины «Подражание Шакеспиру, историческое представление без сохранения театральных обыкновенных правил, из жизни Рюрика», трагедия Княжнина «Вадим Новгородский» и повесть Карамзина «Остров Борнгольм».
Пункт третий касается моментов, которые мне представляются недоработками, а подчас и явными ошибками. На странице 219 Эдвард Саид назван «британским историком». Мало того что Саид по гражданству американец — по специальности он литературовед. Историки его, кстати, либо игнорировали, либо ловили на огромном множестве неточностей и натяжек.
Дирк Уффельман в своем тщательно выверенном обзоре источников, прямо или косвенно относящихся к идее «внутренней колонизации», обсуждает среди прочего концепцию «внутреннего колониализма» Майкла Хечтера. О возможности применимости понятия «внутренний колониализм» к российскому случаю Уффельман говорит в вопросительной форме (оставляя вопрос открытым), но при этом почему-то утверждает, что российский исследователь Сибири Анатолий Ремнев «уже принял его (упомянутый концепт. — В. М.) на вооружение». Между тем из приводимой цитаты подобного утверждения не следует. Ремнев пишет лишь о том, что у нее (концепции «внутреннего колониализма») «видимо, есть если не научное, то политическое будущее». Словом, в этом пассаже Ремнев скорее сомневается в научном будущем упомянутой теории, чем предсказывает его. Это во-первых. Во-вторых, перечитав упомянутую работу отечественного сибиреведа, я не нашел никаких свидетельств того, что последний «принял на вооружение» концепт «внутреннего колониализма». Напротив, я убедился в том, что Ремнев относился к этой концепции с изрядной долей настороженности, а употребляемую Лениным категорию «колония в экономическом смысле» находил «неясной по смыслу».
В статье Юлии Градсковой на странице 669 речь заходит о марийском и башкирском народах как объектах «российской колонизации» и последующей «советской модернизации». При этом остается непонятным ни содержание используемых понятий, ни то, что позволяет автору отличать одно («колонизацию») от другого («модернизации»). Правда, в одном месте (на той же странице) автор как будто намекает на собственную критичность по отношению к одному из затронутых явлений, утверждая, что «методы и результаты советских практик модернизации были весьма спорны», однако никак не разъясняет, что имеется в виду, ограничиваясь ссылкой. В ссылке же (под номером 25) нет ничего, кроме указания на одну англоязычную работу, посвященную религии и политике ...в Центральной Азии[6].
Я бы не стал придираться к подобным мелочам, если бы речь действительно шла о мелочах. Однако, на мой взгляд, в случае с текстом Градсковой мы имеем дело не с мелкими недоработками, которые легко исправить. Боюсь, что перед нами манифестация своеобразного феномена. Это механическое пользование академическими клише. В каждой институализированной области знания есть набор стереотипов, усвоение которых является необходимым элементом научной социализации. Пройдя эту процедуру, молодые ученые начинают, что называется, «производить тексты», не слишком задумываясь о содержании употребляемых слов. Главное, чтобы слова были правильными. (У меня впечатление, что postcolonial studies и gender studies этим поветрием затронуты особенно.)
В заключение позволю себе вернуться к вопросу, поднятому в начале этих заметок. Речь идет о корректности рассмотрения советского периода как «колониального» (и, соответственно, постсоветского — как «постколониального»). Отдавая должное эрудиции и интеллектуальной рафинированности авторов, статьи которых выполнены в этом ключе, я все же не могу избавиться от ощущения выморочности их теоретического предприятия. С метафоры, конечно, спрос невелик. И коль скоро мы договорились, что «внутренняя колонизация» — всего лишь метафора, стоит ли предъявлять к ней чрезмерные претензии? Но какие в принципе требования к ней допустимо предъявлять? Где лежат границы ее применимости? Или она растяжима вообще до бесконечности? Назвать крестьян эпохи сталинской коллективизации «советскими индейцами», наверное, очень эффектный ход. Но куда отсюда можно двинуться дальше (если не подменять серьезное исследование играми в остроумие)? Данное сравнение, правда, принадлежит автору, для этой книги не писавшего, но на фундаменте сходной метафорики построена статья Дэна Хили: принудительный труд в ГУЛАГе нам предлагают считать проявлением внутреннего колониализма (пардон, внутренней колонизации). Сколько ни ломаю голову, не понимаю, зачем аппарат НКВД нужно рассматривать как колонизаторов, а его жертв — как колонизированных? Название статьи Ильи Калинина «Угнетенные должны говорить» прямо отсылает к хрестоматийной работе Гайятри Спивак. Но речь в ней идет о вещах, которые, на мой взгляд, ничего общего ни с колониализмом, ни с колонизацией не имеют: о рабкорах 1920-х годов. Предмет исследования российского литературоведа — механизмы формирования «советской субъективности», и можно не сомневаться, что, за вычетом нескольких отсылок к работам из джентльменского набора постколониалиста, оно могло бы вписаться в совсем другой методологический контекст.
Короче говоря, мне думается, что Джейн Бёрбанк была глубоко права, когда отметила, что теория внутренней колонизации (равно как и теория модернизации, гражданского общества и т. д.) «легко переводится на язык "западной" научной традиции — может быть, слишком легко для понимания нюансов ее применимости к российской истории» (с. 353).
[1] См.: ЭткиндА. М. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // Ab imperio. 2002. № 1. С. 265—298. Ранее та же гипотеза высказывалась по меньшей мере в двух работах автора. См.: Эткинд А. М. Фуко и тезис внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 50—73; Эткинд А. М. Секты, литература и революция. М.: НЛО, 1998.
[2] Хотя пропаганда европейских христианских социалистов среди бедняков во многом напоминает «хождение в народ» русских интеллигентов.
[3] А. М. Эткинд был одним из первых в ряду авторов, обративших внимание на экзотизацию второго мира в оптике наблюдателей из первого мира. Его высказывания на сей счет перекликаются с мыслями Лари Вульфа по поводу того, как на «Западе» конструировали «Восток». См.: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: НЛО, 2003.
[4] В 1934 г. его достали со дна эстонские водолазы, а позднее рижские власти вьгкутгили монумент у Эстонии, «принимая во внимание историческую ценность упомянутого памятника» (с. 136). Ценность последнего, кстати, состояла хотя бы в том, что он был спроектирован профессором Берлинской академии архитектуры Густавом Шмидтом-Касселем.
[5] Ремнев А. В. Российская власть в Сибири и на Дальнем Востоке: колониализм без министерства колоний — русский «Sonderweg»? // Imperium inter pares: Роль трансфертов в российской империи / под ред. М. Ауста, Р. Вильпиус, А. Миллера. М.: НЛО, 2010. С. 150—181; Сандерленд В. Министерство Азиатской России: никогда не существовавшее, но имевшее для этого все шансы колониальное ведомство // Там же. С. 105—149.
[6] KhalidA. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 2007.
