Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Интимный дневник
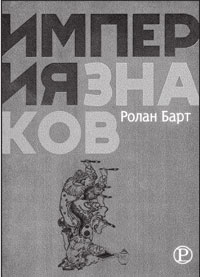 Ролан Барт. Империя знаков / Пер. с франц.
Ролан Барт. Империя знаков / Пер. с франц.
Я. Г. Бражниковой. М.: Праксис, 2004. 144 с.
Книга путевых заметок, иллюстрированный
путеводитель по Японии, культурологическое
эссе, документальный роман, философская
лирика в прозе — вот неполный перечень
жанров, ни один из которых не годится для
адекватной характеристики этого сочинения.
Впрочем, есть ведь особый жанр «нежанрового кино». Например, «Интимный дневник»
Питера Гринуэя. Не будет преувеличением
сказать, что это фильм о Японии, снятый
в жанре интимного дневника. Или: интимный дневник, облаченный в форму фильма
о Японии. Книга Барта —
тоже интимный дневник.
Вовсе не потому, что в ней
есть факсимиле бартовских заметок, из которых становится ясно, что
он с кем-то «встречался».
(«Лексика свидания»,
план прохода к некой чайной комнате…) А скорее
потому, что Япония Барта — это не «карта» и не
«энциклопедия», это не
объект знания или отстраненного туристического
взгляда. Это скорее телесный, аудиотактильный
феномен, это нечто холодное и потому эротичное,
но не на западный манер.
На Западе эротика горячая, то, что называется hot,
вызывающая, возбуждающая, чрезмерная,
изобильная, навязывающая себя, подавляющая, истеричная. В Японии «…сексуальность
присутствует в сексе, а не где-либо еще; в Соединенных Штатах наоборот — сексуальность повсюду, но только не в самом сексе» (с.
43). На Западе эротика окружает человека
плотным кольцом, практически не оставляя
места для свободной игры воображения, разве только для животной, спазматической разрядки. Тот простой факт, что люди занимаются сексом, здесь превращается в миф, в грезу
наяву, в назойливый образ, так что когда дело
доходит до самого секса, он не вызывает ничего, кроме раздражения и разочарования.
Здесь нет места увлечению, вовлеченности в
игру, в приключение, нет реального ощущения своего тела в пространстве, в котором
встречаются также и другие тела, а есть только фантазматические инвестиции, либидинальные проекции и симптоматические замещения, есть, другими словами, только мысли
о сексе, но нет самого секса.
«Автор никогда и ни в каком смысле не
стремился фотографировать Японию» (с. 12).
Япония не является чем-то, из чего можно
извлечь смысл, зафиксировав на пленке или
на письме отношение наблюдающего взгляда
и наблюдаемого объекта. Барт описывает
свою встречу с Японией дзенским словом сатори — событие, которое прерывает смысл,
опустошает субъекта и его речь: «…из этой пустоты исходят те черты, при помощи которых
Дзен, избавляясь от всякого смысла, описывает сады, жесты, дома, букеты, лица, жестокость»
(там же). Субъект такого
письма — не более чем пустая оболочка речи, субъект истекает, растворяется
в «…раздробленном, прерывистом, растолченном
до пустоты языке» (с. 14).
Язык тела на Западе крайне беден, в нем нет означающих, а есть одни междометия — истерические
жесты, позы, непосредственно манифестирующие
внутреннюю сущность человека. В Японии тело само по себе является текстом, оно «…существует,
раскрывается, действует,
отдается без истерии, без
нарциссизма, но повинуясь чистому эротическому движению, хотя и
тонко скрываемому. В общении задействован
отнюдь не голос… а все тело… [которое разворачивает] свой собственный рассказ» (с. 18).
Вот почему Барт называет Японию «империей знаков» — потому что здесь люди и вещи
не навязывают свой смысл, не говорят всем
своим видом «я есть то-то и то-то», но вежливо дают прочитать и одновременно написать
себя как книгу.
Эротика японской еды. Японское блюдо — не готовый продукт, его смысл не содержится в рецепте, предшествующем приготовлению. Это текст, в создании которого
участвуют и повар, и клиент. Субстанции
здесь не столько режутся или крошатся, чтобы затем быть равномерно смешанными или сплавленными в однородную массу, сколько
разделяются на множество фрагментов-означающих наподобие сгустков краски на палитре, которые клиент в произвольном порядке
извлекает палочками, напоминающими
кисть художника-каллиграфа: «…все дело поглощения состоит в компоновке; собирая щепотки, вы сами таким образом творите то, что
едите» (с. 20). Вот почему японской еде присущи свежесть и живость: она как бы пишется легкими, воздушными мазками; это светлая, разреженная материя, менее всего
напоминающая тяжелые слипшиеся комья,
стремящиеся как можно скорее донести свою
рассчитанную в килокалориях истину до желудка. «Целиком зримая (мыслимая, обусловленная, подвластная взгляду, в том числе
взгляду художника и графика), пища выявляет отсутствие глубины: съедобная субстанция
лишена сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром… [Оно] отмечено лишь отправной точкой (то самое блюдо, полное
разноцветных продуктов); исходя из этой
точки, оно теряет различия между моментами
и составляющими, оно лишается центра, становясь похожим на бесконечный текст»
(с. 33–34). В этом смысле идеальным японским блюдом является чай: нечто пустое, бессодержательное, но при этом различающееся
тончайшими оттенками цвета и вкуса, нечто
абсолютно некалорийное, над чем, однако,
совершается невероятно сложный, стремящийся к бесконечности ритуал.
Пустота. Если верить Барту, в Японии
пустота (му) встречается на каждом шагу. Например, Токио: это такой город, центр которого пуст. Кроме того, это еще и город, лишенный очевидного для нас, европейцев,
смысла — топографической определенности.
В Токио есть условные письменные «адреса»,
известные почтальону, но нет координат —
названий улиц, номеров домов, по которым
можно найти нужное место. «Здесь… освоение жилого пространства не опирается ни на
какую абстракцию… Этот город может быть
познан лишь этнографически: в нем надо
ориентироваться не посредством книги или
адреса, но ходьбой, взглядом, привычкой
и опытом» (с. 51). Пустота окружает и проникает в предметы, нарисованные или расположенные в интерьере, отчего они становятся
легкими, невесомыми, как бы разреженными. Дарят японцы друг другу опять же пустоту — что-нибудь маленькое и незначительное, завернутое в роскошную многослойную
упаковку. То же можно сказать о японской
вежливости. Западная невежливость основана на особой мифологии “личности”. Быть
вежливым на Западе — значит обращаться не
к подлинному человеку, а к его презренной
социальной оболочке. Японская вежливость,
с тщательным соблюдением кодов, четкой
графикой жестов, «есть своего рода упражнение в пустоте» (с. 84).
Хокку. «Похоже, хокку предоставляет
Западу права, в которых ему отказывает его
собственная литература… Вы имеете право, говорит хокку, быть пустым, кратким, банальным… у вас есть право самим обосновать
(и исходя из вас самих) ваш собственный закон; ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, высвободит смысл, вы будете глубоким; малыми средствами вы достигнете
полноты письма» (с. 88). Этот западный миф
о хокку возникает в силу того, что на Западе
все считается осмысленным, наполненным
живительной влагой смысла, а молчание рассматривается как знак глубокомысленности.
В смысл надо уметь проникать, считается на
Западе. В том числе и в глубинный смысл хокку. Напротив, путь Дзен — это «путь преграждения смысла: схватывание значения, а именно парадигма, становится невозможной»
(с. 93). Дзен, литературным ответвлением которого является искусство хокку, — это мощная практика приостановки языка, задержки
внутреннего говорения, конституирующего
нашу личность. Цель хокку не в том, чтобы
быть лаконичным, т. е. сократить означающее,
не уменьшая объема означаемого, но, напротив, в том, чтобы установить точное соответствие между двумя сторонами семантического
отношения. Вещь, выраженная в предельно
краткой и пустой форме, — это мимолетное
событие-пылинка, ничтожный фрагмент мира, а не субстанция, подлежащая развернутому
родо-видовому комментарию. Хокку ничего не
означает, не описывает и не определяет. Оно
сводится в конце концов к одному лишь чистому указанию. «Вот это, вот как, вот так,
говорит хокку. Или же еще лучше: так! <…>
Смысл здесь лишь вспышка, световая прорезь… однако вспышка хокку ничего не освещает, не выявляет; она подобна фотографической вспышке, когда фотографируют очень
старательно (в японском духе), забыв, однако,
зарядить аппарат пленкой» (с. 108).
Легкое, воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, прохладное, сквозистое, живое, светлое, разреженное, пустое,
несуществующее — все эти слова годятся,
за неимением лучшего, для указания на способ бытия того, что пишется, а не строится,
производится или мыслится. В Японии пишется буквально все: город, магазин, театр,
вежливость, сады, жестокость, жест, еда, стихотворение, лицо, тело… «…Японское тело
доводит свою индивидуальность до предела
(подобно дзенскому учителю, который придумывает нелепый, сбивающий с толку ответ
на серьезный и банальный вопрос ученика),
однако эту индивидуальность не стоит понимать в западном смысле: она свободна от всякой истерии, она не стремится превратить
индивида в обособленное тело, отличное от
прочих тел и охваченное этой нездоровой
страстью выгодно представить себя, охватившей весь Запад. Здесь индивидуальность —
это не ограда, не театр, не преодоление и не
победа; она — лишь отличие, которое, не предоставляя никому привилегий, преломляется
от тела к телу. Вот почему красота не воспринимается здесь на западный манер — как непостижимое своеобразие: она вновь возникает здесь и там, пробегая от одного различия
к другому, встроенная в великую синтагму
тел» (с. 127–128). На Западе тело предельно
натурализовано, оно всячески рекламируется
как от начала и до конца «естественный» объект. Это тело существует в среде, состоящей
из субстанций различной консистенции, да
и само оно, как бурдюк, наполнено комьями
и сгустками вещества. Оно поглощает, мочится, испражняется, истекает слезами, потом и
слюной, сморкается, кровоточит, рожает. Будучи «естественным» и потому обыденным,
такое тело не обладает сексуальной привлекательностью. Чтобы стать объектом желания,
тело должно избавиться от «вредных привычек», залечить зловонные дыры в зубах, перестать потеть, сделать менструальные кровотечения невидимыми и неощутимыми, быть
всегда гладко выбритым, отполированным
и непроницаемым для инфекции. Идеальное
тело безупречно замкнуто, словно обтянуто
защитной пленкой. Реальное тело, которое
стремится примерить на себя образ тела идеального, которое стремится быть зрелищным,
приковывать взгляды, вызывать зависть
и восхищение, — такое тело можно назвать
истерическим. Зловонная и кровоточащая реальность истерического тела становится его
тщательно скрываемой тайной, имеющей самое непосредственное отношение к аутентичной индивидуальности, к «личности» носителя. Отречение от индивидуальности во имя
сексапильности было бы, в сущности, неплохим вариантом для западного человека.
В том-то и дело, что такое отречение всегда
временно, и рано или поздно «реальность»
прорывается наружу, взрывая защитную
пленку изнутри. «Личность» не может просто
оставаться в тени, она стремится присвоить
идеальное тело, как бы проступить на его
гладкой поверхности. Именно в таком истерическом отыгрывании и заключена сущность западного эротизма. Другими словами,
тело западного человека, даже будучи совершенным с точки зрения внешней, физической формы, никогда не бывает идеальным
до конца. В жестах, в мимике, в речи неизбежно прорывается грязное, зловонное, отвратительное нутро, которое мы гордо называем своим «Я». И вот умение подавить
«личность», не дать ей проступить на белоснежной поверхности тела-письма как раз
и составляет главную черту японца, выгодно
отличающую его от западного человека.
Истеричной и навязчивой женственности
Барт безоговорочно предпочитает холодную,
сдержанную мужественность.
