Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Другая жизнь старой деревни
С конца семидесятых годов среди моих друзей и приятелей стала витать мечта
о «домике в деревне». Мне трудно сейчас определить, чем было вызвано это желание сугубо городских жителей приобрести не пригородную дачу, не садоводческий участок, а именно дом в «настоящей» деревне, о которой они знали разве
что по произведениям любимых тогда многими писателей-деревенщиков. Проза
ли Абрамова, Белова, Шукшина была тому причиной, потребность ли отдохновения от шума и суеты большого города или возможность на время укрыться от давящей «системы», а быть может, глубоко загнанное, но неистребленное желание
владеть хоть какой-то недвижимой собственностью — но нас неодолимо притягивала тихая и «простая» деревенская жизнь. Помню, мы мрачно шутили: разразится третья мировая — отсидимся в деревне.
Приобрести дом в советские времена, не выписавшись из своей городской
квартиры, было практически невозможно. Тем не менее покупка, как правило,
сопровождалась формальным актом: продавец давал покупателю расписку, будто
взял у него в долг такую-то сумму денег (равную стоимости дома). Такие расписки нигде не заверялись, поэтому переход собственности к новому владельцу основывался исключительно на, так сказать, неписаном праве. Самое удивительное, что в девяностые годы оно приобрело силу писаного: по подобной расписке
в местной администрации можно было получить соответствующую справку и затем юридически закрепить право собственности в районном БТИ.
Дома приобретались, как правило, в тех деревнях, которые в шестидесятыхсемидесятых годах были объявлены «неперспективными». Работающих жителей
переселяли из них в головные усадьбы укрупненных колхозов и совхозов, а оставшиеся пенсионеры либо доживали свой век в родных домах, либо на зиму перебирались к детям. В восьмидесятых-девяностых годах опустевшие дома стали заселяться новыми жильцами — горожанами. Наследники тоже использовали их
как дачи. Деревни стали вновь оживать — но только на весенне-летний сезон.
* * *
Я впервые приехала в такую деревню Новгородской области летом 1991 года. Было в ней тогда 16 домов и ни одного постоянно живущего местного жителя.
Но некоторое запустение и малолюдность пейзажа делали ее в моих глазах даже
более привлекательной. Хотя половина участков летом зарастала травой, все же
хозяева если и не жили, то хоть изредка наведывались в каждый дом. Круглый год
в деревне жила всего одна семья — питерские пенсионеры-геологи. По-настоящему заброшенным был только один дом — именно его я, полюбив эти места
сразу и всем сердцем, «купила» и потихоньку начала приводить в порядок.
Першутино находится в восьми километрах от асфальтированного шоссе, ведущего в районный центр и к железнодорожной станции. У шоссе — деревня Миголощи с магазином, почтой, медпунктом и сельсоветом. Дороги между окрестными деревнями и шоссе каждый год размывались водами карстовых озер, и это стало одной из непосредственных причин запустения деревень. В 1992 году нашу дорогу
вдруг отремонтировали, покрыв ее гравием. Совхоз тогда уже дышал на ладан,
и большой пользы эта дорога ему принести не успела, зато сильно облегчила жизнь
нам, летним жителям. Теперь можно было не тащиться с тяжеленным рюкзаком
за плечами (а везли мы с собой из города все, вплоть до хлеба), а взять машину на
станции и доехать прямо до дома. С середины девяностых к нам начали ездить автолавки: сначала предприимчивые частники на легковушках, а лет через пять-шесть
— большой фургон от коопторга, почему-то с надписью «Почта» на борту.
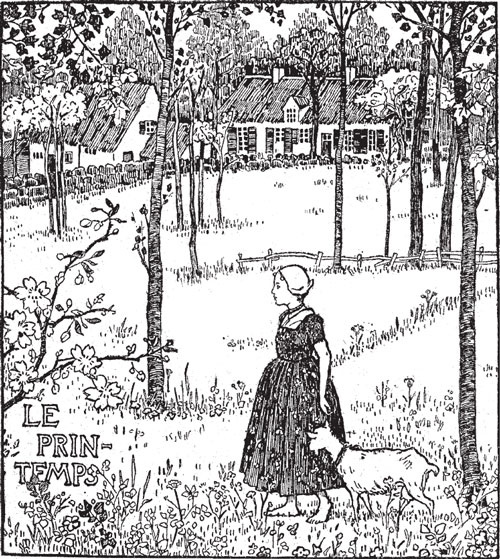
С середины девяностых наша деревня начала расти. За последние восемь лет
в ней построили четыре новых дома. Это уже не деревенские избы, как наши, а настоящие дачи, поскольку строили их жители близлежащего города Боровичи и поселка городского типа Хвойная. Владельцы старых домов теперь наезжают почаще — занимаются обустройством своих участков. Последние годы в деревне зимуют
уже две-три семьи, да и летом она выглядит гораздо оживленней, чем 10 лет назад.
По опыту своих знакомых знаю, что похожие процессы идут в Псковской, Вологодской, Тверской областях: деревни, обреченные на вымирание и уже оплаканные
нашими писателями и публицистами, обретают новую — хотя и совсем иную — жизнь.
* * *
Летних обитателей наших деревень делят на «местных» и «дачников». Если дом
наследственный и им владел, скажем, еще покойный дед, то ты местный, пусть
даже родился в городе (в 1992-м таких домов в нашей деревне было шесть, теперь
один продали). Если же дом куплен пришлым человеком, то его хозяин — дачник. Поэтому дачниками считалась даже упомянутая семья питерских пенсионеров, хотя они жили в деревне круглый год и первыми в округе юридически оформили покупку.
Местные приезжали к нам из Миголощей по весне на тракторах или летом
с косами: вокруг нашей деревни оставались небольшие островки полей, в первой
половине девяностых они еще засевались кормовыми культурами, а затем были отданы бывшим работникам совхоза под сенокосы. К августу до нашей деревни добредало стадо, и коровы разгуливали по улицам и неогороженным участкам. Помню свой ужас, когда в первое свое, еще «гостевое», лето спустилась в подпол
и обнаружила там корову (дверь подпола открывают в солнечные дни для просушки). Впрочем, корова моего вопля испугалась не меньше и с громким мычанием
немедленно выбралась наружу, оставив на земляном полу лепешку на память.
Местных можно было попросить перепахать трактором участок (в начале девяностых — за бутылку, «твердую валюту» в то дефицитное, талонное время, позже — за небольшие деньги). У проезжающих мимо деревни лесников покупали
дрова. Деревенских нанимали на строительство, ремонт, колку дров. А еще они
по весне или осенью совершали набеги на наши дома: почти каждый год пара домов оказывалась обворованной.
В нашем сообществе «дачников» сложился некий образ местного населения:
поля забросили, хозяйство развалили, работы нет, вот и воруют и, конечно же,
пьют. Я тоже разделяла общее мнение, пока не оказалась в 2003 году в ставших
уже родными местах не как «дачница», а как социолог-исследователь[1].
* * *
Миголощи мне никогда не нравились, особенно в сравнении с Першутино. Наша небольшая деревня вся в горках и впадинках, окружена лесом и небольшими
полями-опушками, так что, стоя на каком-нибудь пригорке, ты не умозрительно
понимаешь, что земля круглая, и кажется, шагнешь вперед — и ощутишь под ногами ее движение…
Миголощи, напротив, кажутся плоскими и скучными. Расположена деревня
у шоссе на равнинном участке. По другую сторону шоссе — плоскость большого
поля, где раньше сеяли кукурузу, а теперь местные жители сажают картошку.
И даже обрамляющий селение и поле сосновый лес не скрашивает этого невыразительного плоского вида. Несколько улучшила картину недавно отремонтированная каменная, 1812 года, церковь (на самом деле Миголощи — село, но иначе
как деревней их не называют). Ее свежие бело-голубые краски, особенно в солнечный день, оживляют пейзаж.
Но, судя по тому, что моим коллегам Миголощи вполне приглянулись, моя
неприязнь к ним во многом объяснялась личным опытом. Мне не однажды
приходилось топать туда пешком, а когда пройдешь девять километров по гравийной дороге, да без намека на тень, и выйдешь на унылую, пустую и пыльную площадь перед магазином, где негде присесть и передохнуть, а обратно
предстоит плестись с наполненным рюкзаком, то неброская деревня вряд ли
покажется тебе привлекательной. Впрочем, бывала я там только по крайней
необходимости.
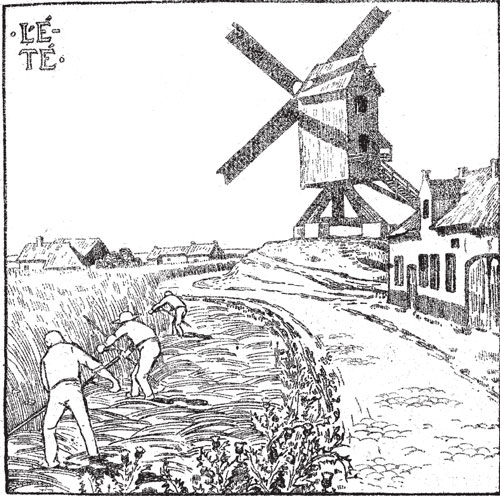
В общем, ехала я туда без всякого энтузиазма. Хотелось в родные першутинские стены, а предстояло снимать дом у незнакомых людей. Но все же наличие
дома в Першутино отчасти облегчало мне «вход в поле», делая меня в какой-то
мере «своей» для здешних жителей. (Вскоре выяснилось, что невестка нашей хозяйки школьная учительница Татьяна и ее старшая сестра Надежда, агроном, родились и выросли в купленном мною першутинском доме.)
Изо дня в день мы с коллегами осваивали деревню и окрестности, знакомились с людьми, и постепенно мое первоначальное впечатление о ней стало меняться. Обнаружилось, что сразу за околицей — замечательной красоты озеро,
и там же равнинный пейзаж сменяется живописными холмами. На одном из таких холмов, все в соснах, раскинулось сельское кладбище с часовней. Вообще сосна здесь главное дерево, и в борах, окружающих деревню, невольно вспоминается пастернаковское: «И так неистовы на синем разбеги огненных стволов».
Но главное, что деревня стала постепенно обретать лицо, я знакомилась с новыми людьми, и за каждым из них была целая жизнь, история села.
* * *
История эта типична для северо-западного Нечерноземья. До 1965 года в Миголощах был колхоз им. Жданова, затем его объединили с пятью другими колхозами и преобразовали в совхоз «Ждановский». Через год, правда, зачем-то разделили
его на два совхоза. Лет десять укрупненный, по профилю животноводческий, совхоз существовал без особых изменений: дирекция и сельсовет находились в Миголощах, но фермы оставались в основном на прежних местах.
Все эти укрупнения, разукрупнения, преобразования имели целью поднять
производительность сельского хозяйства. Однако к желаемым результатам это не
привело: массовый отток сельского населения в города (и в первую очередь из
Нечерноземья) с началом кампании по паспортизации в 1960-х годах — широко
известный факт. В 1962 году в Хвойнинском районе насчитывалось 2 358 крестьянских дворов, в которых было 2 530 человек трудоспособного (допенсионного)
возраста. В 1974-м дворов уже 1 422, а трудоспособных – 1 433 человека[2]. То есть
за 12 лет трудоспособное сельское население района уменьшилось почти вдвое.
Можно взглянуть на этот процесс и «изнутри». Сестры Надя и Таня, выросшие в
Першутино, два первых класса закончили в соседней деревне Опарино, где была начальная школа. Затем их отправили в Миголощи, в интернат при восьмилетке. Учились там дети не только из деревень Миголощского сельсовета, но и из двух соседних
совхозов. Когда Таня в 1974 году пришла в третий класс, в нем было пять учеников —
т. е. всего пять детей 1964–1965 годов рождения на два с половиной десятка деревень![3]
В том же 1974 году за подъем сельского хозяйства взялись всерьез: была принята Государственная программа развития Нечерноземья, начатая, по обычаю,
с большой помпой. В села Нечерноземья из других регионов стали направлять молодых специалистов, которые с энтузиазмом отправлялись осваивать очередную
«целину». В 1977 году была учреждена даже медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР», которую успели получить 25 тысяч человек. В 1980-х годах в развитие названной программы приняли еще одну — «Дороги Нечерноземья», рассчитанную на 1986–1992 годы. (Не ей ли мы, першутинцы, обязаны новой дорогой?)
Совхоз «Ждановский» разделил судьбу всех хозяйств, охваченных Программой.
В семидесятые годы значительные средства стали вкладываться в строительство
крупных производственных комплексов; один из них к 1978 году возвели и в Миголощах, переведя туда скот со всех ферм, разбросанных по землям совхоза. У работников совхоза из других деревень выбор был невелик: либо каждый день по бездорожью добираться до Миголощей, либо туда переселиться. Большинство выбрали
последнее, среди них и родители Тани и Нади, тракторист и доярка. В конце восьмидесятых першутинский дом они продали (я купила его позднее, уже из вторых рук).
Таким образом Миголощи стали интенсивно расти, а население окрестных
и дальних деревень — еще интенсивнее редеть. Расцвет совхоза и, соответственно, его головной усадьбы приходится на восьмидесятые годы. Таня вспоминает, как на ее глазах за несколько лет выросли новые улицы, застроенные в основном
двухквартирными домами. На деревенской «площади» поднялись каменные здания магазина, совхозной столовой, двухэтажный 16-квартирный дом. Однако на
социальную сферу, как всегда, денег не хватило: комплексную школу-сад достроили лишь в первой половине девяностых, а проект нового клуба так и остался на
бумаге. (Сейчас, когда деревянное здание клуба закрыли за ветхостью, клуб потеснил детский сад, заняв в нем пару комнат, а массовые мероприятия, в том числе дискотеки, проводятся в спортивном зале школы. В бывшей совхозной столовой — частный магазин.)
Активная идеологическая кампания, интенсивное строительство, достаточно
высокие заработки сделали свое дело: в восьмидесятые годы в Нечерноземье не
только едут молодые специалисты из других регионов, но и своя молодежь возвращается в родные совхозы после армии и учебы. Миголощи не были исключением. Об энтузиазме тех лет, о том, что работать в совхозе в то время было почетно, я слышала не раз. Один из бывших трактористов с горечью вспоминает
об упущенных возможностях: мог прямо из армии поступить в военное училище,
и учеба давалась — так нет, вернулся (то, что армия в девяностых годах стала деградировать и многие военные были вынуждены уволиться, при этом как-то не
принимается во внимание).
Возвращению способствовала и система совхозных стипендиатов: молодые
люди получали льготы при поступлении и повышенную стипендию, но после учебы обязаны были вернуться в совхоз. Совхозными стипендиатками стали и сестры
Надя с Таней, закончившие одна — сельхозтехникум, другая — культпросветучилище в Новгороде. Почти все одноклассники сестер после учебы вернулись в совхоз.
В восьмидесятые годы в совхозной столовой играли много свадеб. Дети тогдашних
молодоженов сейчас составляют в деревенской школе самые наполненные классы.
Последний жилой дом совхоз построил в 1993-м, в него и въехала Таня
с семьей. В результате перемен девяностых годов совхозное хозяйство лишилось
государственной поддержки и стало потихоньку разваливаться: год за годом идет
сокращение посевных площадей, поголовья скота, растет долг по заработной
плате. До боли знакомая картина.
Часть работников бывшего совхоза (теперь превратившегося в кооператив),
из тех, что поэнергичней, увольняются, не дожидаясь полного развала. Восемь
человек продержались «до последнего» — всех их вместе с оставшимся скотом перевели этой весной в соседнее, пока еще живое хозяйство. В основном это женщины, для которых рынок труда в деревне крайне ограничен: школа, магазин,
почта, администрация. Мужчинам легче: они идут работать лесниками, в дорожное и коммунальное хозяйства райцентра.
Но зарплаты, конечно, невелики, поэтому приходится подрабатывать. Танин
муж устроился водителем школьного автобуса, но основной его заработок (строительство бань, домов и проч.) приходится на лето. Поэтому, когда осенью не успели к сроку отремонтировать школьный автобус, он только радовался. В деревне уже сложились неформальные строительные бригады, и тем, кто долго
раздумывал, держась за совхозную работу, теперь уже непросто в них вклиниться.
Некоторым удалось — в счет задолженности по зарплате — заполучить совхозную технику, теперь они подрабатывают на ней: кому дров привезут, кому поле вспашут. Кое-кто приторговывает спиртом, а вот самогон на продажу не варят
(разве что для себя).
Несколько лет назад появился еще один вид заработка: сбор ягод и грибов.
В деревне, помимо коопторга, образовалось уже несколько пунктов по их
приемке. Приемщицы, нанятые заезжими предпринимателями, работают
на дому, вывешивая объявления с ценами у магазина. Собирательством занимается почти вся деревня, часто целыми семьями. Кто сколько собрал ягод
и сколько выручил за день — обязательная тема разговора даже при короткой
встрече.
А что же «крестьянский» труд и подсобные хозяйства? (Я, кстати, с удивлением узнала, что хозяйство — это живность, огороды же хозяйством у здешнего населения не считаются.) Так вот, «хозяйство» — коров, овец, коз, свиней и птицу —
держат далеко не все, зато вся деревня сажает и продает картофель. Поголовье же
скота неуклонно снижается: без поддержки совхоза его содержать невыгодно.
В совхозе/кооперативе можно было дешево (а иногда и бесплатно) приобретать
корма и — пока существовала свиноферма — поросят. Кстати, именно поэтому
увольнявшиеся не забирали свои паи: пока ты пайщик хозяйства, имеешь право
на эти льготы. Да и участок под сенокос или картошку получишь не у черта на куличках. Теперь же, когда хозяйство окончательно развалилось, все приходится покупать по рыночной цене. Разводить поросят стало невыгодно: хорошо, если выручишь затраченные деньги, а работа и вовсе пропадет. В 1996 году
на 221 крестьянское хозяйство района приходилось 94 коровы, в 2002-м на 183 хозяйства — всего 48. В самих Миголощах в этом году осталось около 20 коров
на 130 хозяйств. Среди держателей живности совсем нет молодежи и почти нет
пожилых: последним тяжело, первые не видят в этом смысла.

В деревне пьют, в том числе и женщины. Хотя совсем спившихся не так уж
много. Знаю несколько человек «завязавших». Знаю теперь, и кто «наведывался» в наши дома. Есть там такое спившееся семейство, которое называют «Василята», — звучит ласково, не правда ли? Двух старших братьев недавно посадили, но подрастает младший, который чуть ли не с гордостью рассказывал
нам о «подвигах» старших и буднично, без стеснения — о пьянстве матери
и смерти отца.
Деревня уменьшается: старики умирают, кое-кто из молодых уезжает, и почти никто не рожает. В 1996 году на 150 хозяйств в Миголощах было 407 жителей,
в 2002-м хозяйств осталось 132, а жителей — 349. Но это по официальным данным, учитывающим зарегистрированных. Реально, по свидетельству местного
фельдшера, в деревне проживает 304 человека: кое-кто, не выписываясь, перебрался в более благополучные места района или к родственникам.
Поколение «восьмидесятников», энтузиасты развития Нечерноземья, вряд
ли покинут Миголощи: им поздно начинать новую жизнь. Но своих детей даже
самые ярые патриоты родных мест, такие как Таня с Надей, настраивают на отъезд и делают для этого все, что могут. В деревне для молодежи нет перспектив ни
с работой, ни с жильем (существующие дома не вмещают больше одной семьи).
Из молодежи сейчас возвращаются в основном неудачники, т. е. те, кто по тем
или иным причинам не смог нигде устроиться. Для подрастающего поколения
родная деревня — это место, куда они будут приезжать на отдых.
«Коллективной» жизни восьмидесятых деревне уже не вернуть. Сейчас в Миголощах около 20 домов используются выходцами из этой деревни как дачные.
Это количество будет со временем только расти. Деревенская повседневность постепенно меняется. Отдельная и очень интересная тема: как и под влиянием каких образцов происходят эти перемены. Не дело социолога давать оценки событиям и явлениям — мы должны лишь фиксировать и описывать происходящие
процессы, — но, право, я не вижу причин петь отходную русской деревне: она не
умирает, она меняется. И славу богу, ведь мы живем уже в XXI веке.
[1] Проект «Вдали от городов. Жизнь восточноевропейского села. Деревенские жизненные миры
в России, Эстонии и Болгарии», 2002–2005 годы, поддержан фондом Deutsche
Forschungsgesellschaft, проводится Центром независимых социологических исследований
(Санкт-Петербург) и Магдебургским университетом. Проект предусматривает сравнительное
исследование трансформационных процессов в постсоциалистической деревне.
[2] Иванов А. Н. Очерки по краеведению Хвойнинского района. П. Хвойная, 1997.
[3] На сегодняшний день только 13 из этих деревень имеют постоянных жителей, причем за
исключением двух, расположенных у шоссе, на каждую приходится одно-два, редко три
хозяйства.
