Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Патока педагогики
Фаусек Ю.И. Русская учительница. Воспоминания Монтессори-педагога. Кн.1; Сороков Д.Г. Русская учительница. Семейные истории и метод научной педагогики Юлии Фаусек. Кн.2 – М.: ФОРУМ, 2010.
Анализ жизненного пути Юлии Фаусек[1], талантливого учителя, бестужевки (выпускницы знаменитых Бестужевских курсов), ученого-зоолога, одной из первых русских женщин, получивших доступ к академической кафедре, вероятно, поможет прояснить наши представления о поколении, которое сформировалось в России в особой атмосфере рубежа XIX—XX столетий. Оно выстояло в Первую мировую, пережило две революции, Гражданскую, голод, сталинские репрессии, Отечественную войну, блокаду. Это возможность представить тот сгусток талантов, тот концентрированный избыток культурных сил, расходование которых дало в будущем долгий и устойчивый эффект, несмотря на плановое уничтожение. Среди личных знакомых и друзей семьи Юлии Фаусек числятся цареубийцы Андрей Желябов и Александр Ульянов, писатель Вс. Гаршин, физиологи Н. И. Сеченов и Н. Е. Введенский, химик Д. И. Менделеев, зоологи С. М. Герценштейн и К. С. Мережковский (брат писателя Д. С. Мережковского), Н. П. Вагнер — писатель, сказочник («Сказки Кота-мурлыки»), романист, знакомый Чехова, психолог и спиритист (занимался вместе с Бутлеровым, но последний научно исследовал медиумизм, а Вагнер больше фантазировал). Перечень разнообразен и далеко не полон. Биография каждого из них по насыщенности пережитого — исторический роман или захватывающая новелла.
Это о них сказал Мандельштам в 1922 году — «потерпевшие крушение выходцы девятнадцатого века». Про них, про эту среду, окружение, про саму Юлию Фаусек и ее педагогику.
Учительство — это один из возможных способов «согреть телеологическим теплом», «гуманизировать» иррациональность очередного виража истории, очередной петли. Не сразу проступивший тяжелый бред XX века укрощался рациональным энциклопедизмом всех тех, кого «новый исторический материк» поглотил позднее без разбора. Это они, «энциклопедисты», совершили прорыв, пробили брешь в истории и науке. И все поголовно учительствовали. Учительствовали органично, естественно и просто, щедро делясь избытком личных запасов, которыми наградила природа.
Тогда же — в конце 1910-х — в 1920-е годы — возникли совсем точечные очаги работы с маленькими детьми, готовившие их к взрослой жизни в разрушенном мире. В Европе к тому времени существовало всего две системы дошкольного воспитания — фребелевская и монтессорианская. И та и другая предполагали «штучное» свободное воспитание, наблюдение за каждым ребенком и создание условий для его развития. Фридрих Фребель, философ, романтик, последователь идей Песталоцци, еще в 1820-х придумал школы, специальный «детский сад» — и обучал «детских садовниц» выращивать маленьких творцов. А к 1826 году сложилась его главная книга «Воспитание человека», в которой он упорядочил свой опыт. Суть фребелевской авторской методики заключалась в том, что дети в игре и через игру осваивали необходимые навыки, чтобы стать людьми, способными прежде всего к творчеству. По замыслу Фребеля деятельное участие в занятиях принимали семьи. Родители вместе с хорошо подготовленными воспитателями в условиях «детского рая» должны были помочь раскрыться ребенку. К середине XIX века существовало несколько таких заведений для младшего возраста[2]. В России последовательниц немецкого опыта называли «фребеличками».
Имя Марии Монтессори громко зазвучало позднее. К своей философии и концепции «детского дома» в прямом и переносном смысле она пришла в 1900-х через психиатрию, антропологию, изучение гигиены, через работу с больными, умственно отсталыми детьми. Воспитание по Монтессори должно происходить в двух системах координат. С одной стороны, это последовательные занятия с учениками, а с другой — не менее последовательная научная школа, лабораторная площадка, где учитель и ребенок постоянно исследуют свои объекты, где дети записывают наблюдения, а воспитатели изучают их поведение, психику, динамику сенсорного развития, контролируют себя и подопечных, постоянно экспериментируют. Результатом становится правильно регулируемая свобода. Взрослый в этой системе — не руководитель, а только помощник. Каждый ребенок развивается сам, выбирая свой ритм.
Педагогические опыты, войны и реформы
В 1920-е годы, когда был поставлен основной диагноз «тотальное крушение» — цивилизации, культуры, истории[3], — на короткое время все эти педагогические пробы легализовались и в России, получили официальный статус, а «фребелички» и «монтессорианки» могли открыто полемизировать. Никогда еще «детсадовские войны» не обретали столь острый характер. Правда, битвы между фребелевской партией и партией сторонников метода Монтессори были несмертельными. И те и другие могли жить. А вот «на смерть» убивали, уничтожали и разгоняли целые учреждения, которые не вписывались в жесткие рамки советского воспитания, позднее — в 1930-е. В 1920-е масштабы склок носили относительно цивилизованный характер. Количественный перевес оставался на стороне «фребеличек», может быть, потому что немецкий образовательный вариант органичнее воспринимался в России. Московско-питерские сторонники Монтессори — А. П. Выгодская, А. А. Перроте, Т. Л. Сухотина, В. В. Таубман — оставались в меньшинстве. Среди них Юлия Фаусек, наверное, была самой последовательной и стойкой.
В мае 1918 года Юлия Ивановна Фаусек открыла в Петрограде первый детский сад, работавший по системе Монтессори. Его посещали 200 детей в возрасте от одного года до девяти лет.
Чуть больше десяти лет она преподавала в Институте дошкольного воспитания и Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена, занималась с детьми, читала лекции по педагогике Монтессори в петроградском Дошкольном институте, писала и публиковала статьи и книги[4].
Как прошли эти годы? Почти в полном одиночестве. Единомышленников было слишком мало. А те, что были поначалу, к середине 1920-х отошли в сторону. Травили Фаусек постоянно. Сначала чужие, а потом свои, вчерашние друзья и соратники, устраивая провокации и мелкие подделки документов. Проверки, комиссии душили работу, а кульминация травли пришлась на 1925—1926 годы, когда в феврале на трехдневной московской конференции было организовано настоящее судилище над монтессорианками. Окончательный разгром был отсрочен благодаря заступничеству Крупской. Она знала Юлию Фаусек, поддерживала ее практику, ей нравились идеи Монтессори: «Система игрушек Монтессори и направлена к тому, чтобы не словами, а подбором игрушек приучить самых маленьких детей к наблюдению и к упражнению своих внешних чувств»[5].
Но защита оказалась слабой, и в 1931 году группы Фаусек расформировали. Решающую роль сыграли педагогические взгляды Юлии Ивановны, она считала политизацию воспитательной работы с дошкольниками недопустимой. А воцарявшаяся государственная система стремилась идеологизировать все вокруг — в том числе и систему воспитания маленьких детей, в которых хотели видеть будущих строителей коммунизма. Кроме того, примат коллективного воспитания и организация обучения по жесткой дисциплинарной модели пришли в явное противоречие с представлениями Монтессори-педагогики о роли свободного выбора занятий в воспитании, об индивидуальном темпе и индивидуальной траектории развития каждого ребенка.
С момента закрытия Монтессори-групп Фаусек больше не работала с детьми. Она сосредоточилась на разработке обучающих дидактических материалов и их пропаганде. Только в этом она еще могла сохранить верность идеям Монтессори[6].
Но... события развернулись стремительно. Понижение по службе. Сначала Юлия Фаусек — профессор, потом доцент, потом просто преподаватель, потом — безработица, почти «волчий билет». Она просила помощи у коллег покойного мужа, бывших подчиненных. Ей либо отказывали, либо давали какой-нибудь совсем ничтожный заработок. Уничтожение дела всей ее жизни завершилось закономерным приговором времени: «Фаусек — фигура трагическая, а это не жанр советской педагогики»[7].
«Чувство ожидания необыкновенного жило во мне довольно долго... но мало-помалу оно уменьшалось. и, наконец, исчезло совсем, уступив место другому чувству — тоже ожидания, но не радостного, а тоскливого: какое огорчение <...> подстерегает меня... чтобы вызреть в реальную беду?»[8] Эта запись сделана Юлией Фаусек незадолго до смерти в блокадном Ленинграде. Далее — сухой перечень, калькуляция бед, несчастий, одно тяжелее другого. Итог: «Время слишком изобретательно на несчастья. Плакать давно уже не могу — нет слез. И по-прежнему трудно вспоминать и писать о горе».
1924-й — смерть брата — и последний год относительно спокойной работы Юлии Фаусек, когда она еще могла много и плодотворно писать, публиковаться, путешествовать. Весна, осень, ранняя зима — она посетила все ведущие школы Монтессори в Европе, в Амстердаме подружилась с Эйнштейном (проговорили взахлеб несколько дней подряд). Полезные встречи, конференции, доклады, выступления. Подъем и невероятный прилив сил чувствовала Фаусек во время командировок. А в России сгущались тучи. В связи с реформой вузов на основе постановлений III Всероссийского съезда по дошкольному воспитанию (15—21 октября 1924 года) о коммунистической дошкольной педагогике начался пересмотр работниками кафедр своих прежних позиций. 13 октября на конференции ПИДО[9] принято решение создать комиссию по реорганизации в духе системы коммунистического воспитания детских садов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым к детским садам как базам практики студентов дошкольного факультета. В отсутствие Ю. И. Фаусек первыми «дрогнули» и начали «сдавать» самые ближние, соратники, доверенные лица. В. В. Таубман продолжила «пересмотры» и приспособления системы Монтессори к марксистской педагогике, что после возвращения Фаусек привело к внутренней войне группировок. Но силы были неравны. За короткий срок война была проиграна. В двадцатую годовщину смерти мужа Юлия Фаусек потеряла все.
В апреле 1930-го полным ходом началась реформа высшего и среднего образования, предписывавшая полную перекройку вузовского сектора. Дополнительные учреждения — узкопрофильные вузы, созданные на базе институтов, — переходили в прямое подчинение отраслевых промышленных объединений, что означало перепрофилирование образования. В целом выстраивалась «вертикаль», в которой каждое низшее звено подчинялось высшему, и дошкольное воспитание, встраиваясь в новую систему, приобретало жесткого партийно-производственного заказчика. Реформа предполагала полную реорганизацию всех детских очагов, прежде всего опытных площадок и классов Монтессори, их «слияний» и «поглощений», замены старого преподавательского состава.
Фаусек ушла со всех должностей в ЛГПИ и вскоре уволилась совсем. С 1931 года зарабатывала вязанием шапок, штопаньем и вышивкой белья. Начала записывать, припоминать пережитое, увидев в этом «средство от депрессии».
Семейная история
История Юлии Фаусек — это история в том числе и трех семейных гнезд — родительского дома, своего собственного и семьи брата Николая Андрусова. История «родоплеменных» связей, переплетений. Дети, племянники. Продолжения не последовало, потому что двадцатый век разорил все гнезда, разметав их, немногих выживших обитателей, по свету.
С чего все начиналось? Было детство в приморском городе. Сначала в Одессе, потом в Керчи. Детство очень короткое, но «стилистически» совершенно «гриновское»: «алые паруса», созвездия, легенды про путешественников и дальние страны, диковинные книжки на разных языках, клады и культовые вещицы. Все это «богатство» привозил, возвращаясь из плаванья, обожаемый отец — моряк капитан Иван Андрусов, судоводитель от Бога, любимец адмирала Нахимова. После тяжелого ранения в Крымскую войну при обороне Севастополя он ушел в отставку и поступил на службу вольнонаемным штурманом в Русском обществе пароходства и торговли. Ранние годы Юлии Андрусовой — это постоянное ожидание отца. Однажды, осенью 1870 года, он не вернулся. Во время бури его пароход разбился у берегов Анапы. Гибель отца детству положила конец. Именно тогда у ребенка возникло стойкое ощущение: надо всегда держать оборону своего места.
Место отца в какой-то мере занял старший брат — Николай Иванович Андрусов, «ученый-романтик», страстно увлеченный наукой, настоящий демократ. Его короткий послужной список: геолог, палеонтолог, один из основоположников палеоэкологии, пионер русской палеогеографии и палеоокеанографии, членкор Петербургской академии наук (1910). Действительный член Петербургской (1914) и Российской (1917) академий наук. Он буквально фонтанировал новыми идеями. Они становились импульсом для развития целых отраслей и разделов науки. Его жизнь — и детективный, и приключенческий, и любовный роман. Учился в Новороссийском университете, где в 1870-х преподавали Сеченов, Мечников. Участвовал в студенческих волнениях, собирал подписи против увольнения Мечникова, за что получил клеймо «политически неблагонадежного». Блестяще защитил диссертацию, участвовал в нескольких экспедициях, во время которых сделал несколько важнейших открытий, имевших поворотное значение для науки. Так, он раскрыл загадку нефти, объяснив ее животное происхождение. Николай Андрусов создал научную школу, и не одну. Он умел убеждать и покорять, умел находить общий язык с самыми разными людьми, умел разговаривать просто и ясно, располагая к себе и вызывая доверие, и поэтому в поездках нередко добывал редкую, ценную и малодоступную информацию. Николая Андрусова любили многие. Сильный, выносливый, он научился выживать, находить выход из самых безнадежных обстоятельств, делился энергией со всеми, кто оказывался рядом. До конца жизни он остался романтиком: «...Наука — это та область, где, может быть, более чем в какой-либо области человеческих отношений проявляется чувство единства и братства. Бывают и тут войны: проливаются чернила, по свойственной человеку слабости наносятся тяжелые раны самолюбию, но в этой войне, может быть, меньше, чем где бы то ни было, играют роль национальности, и перед общими интересами науки исчезают границы государств.»[10]. Такое прекрасное донкихотство, очень характерное для стилистики 1920-х.
***
15 января 1910 года произошла трагедия — покончил с собой старший сын Юлии Всеволод. Она пережила острое психическое расстройство, но все же нашла в себе силы вернуться к жизни. Младшие дети, трое сыновей и дочь, подрастали. А вот муж Виктор Андреевич Фаусек, блестящий зоолог, энтомолог, профессор Женского медицинского института, директор Высших женских курсов, так и не смог пережить гибели сына. Через полгода он скончался и был похоронен на Волковом кладбище рядом с Всеволодом.
Виктор и Юлия Фаусек — родственные натуры. Оба — «художники» в своем деле, в преподавании. Особое эстетическое чутье делало Виктора своим в среде артистической, литературной. В тогдашней компании свободно уживались писатели и ученые (Плещеев, Чехов, Ладыженский, старший Мережковский). Труды Фаусека по вопросам биологической эволюции, по эмбриологии беспозвоночных, по истории зоологии — захватывающее чтение даже для непрофессионалов. Он собственноручно переписал и выверил несколько сотен статей, заложив основы естественно-научной серии.
Все они, и Андрусовы, и Фаусеки, и люди их круга, были буквально одержимы наукой. Спустя годы Юлия Ивановна вспоминала молодой кружок, где познакомилась с будущим мужем: «...Горячие споры. И среди них всегда спокойное, дельное, иногда с оттенком юмора, замечание Фаусека». После этой фразы — точное замечание: «Юмор по отношению ко многим фактам российской действительности — изобретение, по-видимому, чисто национальное, вызванное необходимостью. Так часто он имеет значение дезинфицирующего средства для души, очищающего в ней место для творческой работы. Казалось, Фаусек был положительно старше нас всех — не годами, а подлинным знанием... того, как на самом деле устроена жизнь. И отсюда спокойная уверенность и органическое отвращение к компромиссам»[11].
Творческая и научная одаренность родителей передалась детям. Все они окончили лучшие гимназии Петербурга, получили университетское образование. Погибли все. Средний сын Владимир заразился энцефалитом во время экспедиции в Среднюю Азию.
Участь Николая, наверное, — одна из самых тяжелых, но неотличимая от других судеб, раздробленных машиной репрессий.
Николай Викторович более других походил на отца красотой, удачливостью, размахом, одаренностью. «Майский жук»[12], он окончил знаменитую гимназию Карла Мая и уже в школе навсегда увлекся авиацией. Взлет его карьеры — стремительный: после Гражданской войны с 1925-го — Академия воздушного флота, Московский авиационный институт, участник обществ Авиахим и Осоавиахим, за плечами около десятка опубликованных книг, серии статей. 20 декабря 1937 года арестован в связи с репрессиями против создателей реактивной техники — ведущих сотрудников РНИИ — НИИ-3 (Реактивного института), детища М. Н. Тухачевского. 15 марта 1938 года обвинен в шпионаже, расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (спецобъект НКВД, располагавшийся на бывшей даче Ягоды)[13]. До последнего, умирая от голода в блокадном Ленинграде, Юлия Ивановна Фаусек надеялась, что сын вернется.
Вот и все. Ее личная маленькая крепость — тот самый детский сад, на входе в который значилось имя Марии Монтессори. Он возник как крохотный и хрупкий живой островок, вопреки гибели ближних, наперекор потерям, горю и хаосу Гражданской. Вошло в привычку снова и снова строить на выжженной земле «с нуля». Но после разгрома в 1930-м Юлия Ивановна словно бы и перестала существовать совсем. Умерла в блокадном Ленинграде в феврале 1942-го. Дочь, накопив средства на фанерный гроб и машину, в марте похоронила Юлию Ивановну в траншее братской могилы Волкова кладбища. Вероятно, в 1945-м именно она передала в Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина рукописи матери, 19 тетрадок с воспоминаниями[14]. О ней самой и о детских педагогических затеях 1920-х скоро забыли.
Сквозь призму издательского бизнеса
Только полвека спустя ураган 1990-х вдруг стал охотно возвращать имена, прерванные традиции, высасывая их питательное вещество, быстро насыщаясь, отбрасывая шелуху и сухие шкурки.
В 1990—2000-е начинается «вторая жизнь» монтессорианства, как, впрочем, и других несоветских педагогических практик. Юлия Фаусек вернулась из небытия как персонаж легендарный, полумифический, приспосабливаемый к новым условиям. Благо сохранилось ее наследие, книжки, пособия, дидактический материал, но самое лакомое — ее записки. Но. педагогика — занятие штучное, полностью зависящее от личности наставника, и как бы мы ни грезили о конвейерности и технологиях, все равно уникальный опыт преподавания, если таковой имеется, с трудом повторяется и почти никогда не подлежит тиражированию.
Интересно, что именно и каким образом возвращали, восстанавливали за последние 15—20 лет, как обращались с утраченным. Посмотрим внимательно, с какими «упаковками» документов, фактов, свидетельств мы имеем дело.
Показателен двухтомник «Русская учительница»[15]. Сразу бросаются в глаза странности составления. Издание представлено читателю как «дилогия». Авторы неоднократно на этом настаивают, следовательно, ожидают восприятия двух разделов, двух книг взаимосвязанно, что предполагает возможность содержательного и структурного соотнесения их между собой. Однако складывается ощущение, что здесь мы имеем дело с подменой: на самом деле вместо двух книг получилась одна, содержание которой под разными «вывесками» дублируется от раздела к разделу, переходит из одной части в другую. Разумеется, автор имеет право составлять свои новые сочинения из собственных старых текстов, опубликованных ранее, вполне законно может перепечатывать, комбинируя их, тасуя и справедливо надеясь, что в других сочетаниях они обретут дополнительную ценность[16]. Но удивительно, когда одни и те же фрагменты републикуются параллельно в разных частях «дилогии». Совпадения прямые, буквальные и косвенные охватывают тридцать процентов двухтомника.
При внимательном разглядывании обнаруживается, что это «близнецы», для имитации их внешнего несходства «одетые» по-разному. В них одна и та же основа — «Воспоминания Юлии Фаусек», несколько опубликованных и архивных материалов.
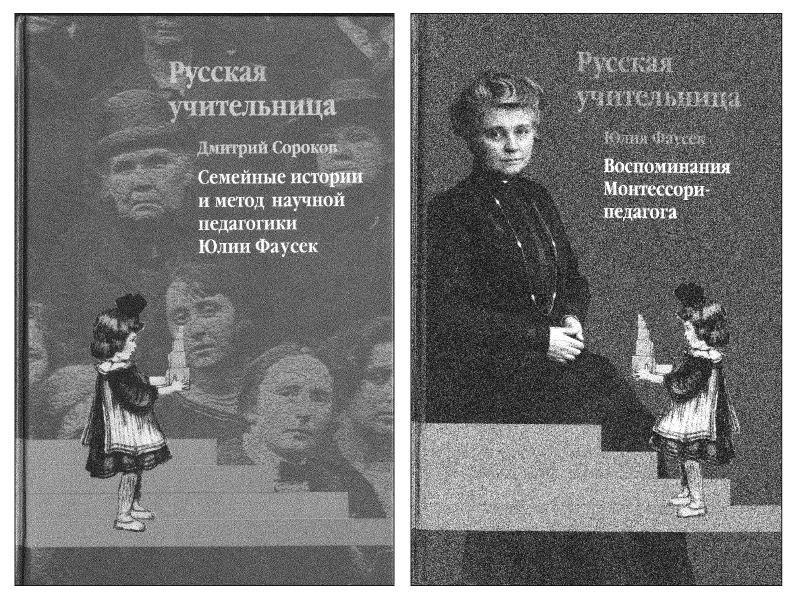
Меню второго «тома-близнеца», если не считать описания личной «монтессориады» Дмитрия Сорокова и его помощников, предлагает читателю то же самое блюдо, но с другим гарниром и пищевыми добавками. Читатель растерян. Не потому, что под видом изобилия на самом деле ему предложен довольно скудный продукт. Это не так. Все-таки работа с архивным материалом, независимо от степени его доступности и упорядоченности, всегда требует некоторой дисциплины и усидчивости, поэтому вызывает уважение признание составителей в том, что им понадобилось 18 лет, чтобы собрать весь исторический корпус. Подготовка издания заняла свыше двух лет. Но читатель все равно недоумевает. Одни и те же факты поданы дважды, но в разных посудинах. Почему? Разгадка, вероятно, в том, что Дмитрию Сорокову и его команде понадобилось продемонстрировать, а главное, смешать возможности разных методов — биографического, феноменологического. Какого еще? Составители сначала осторожно, потом все более настойчиво поясняют и словно бы гипнотизируют читателя, упоминая на всякий случай и про «магию цифр»[17]: «Во второй части даем обобщение научно-методических работ Юлии Ивановны... а также делаем попытку реконструкции и описания (от лица героини) научно-методического вклада Ю. И. Фаусек. В третьей части, используя в качестве основного психологического и центрального литературного приема идентификацию, мы пишем от лица Ю. И. Фаусек. Реализуя биографический метод исследования, производим попытку реконструкции значимых для развития ее личности событий и выборов, выстраиваем причинно-следственные связи и выявляем их влияние». Авторы только вскользь проговариваются, чуть приоткрывая карты, слегка обнаруживают свои намерения. Дальше — больше. «Хотелось бы также надеяться, что исповедальный прием, подчеркнутый нами в процессе литературной обработки и монтажа объемнейших рукописных и архивных материалов... позволит осветить те грани натуры героини, которые <...> в силу особенностей... не могли проявиться ни в изданных работах, ни в рукописях».
Послесловие составителей короче, но конспективно повторяет предисловие, финал дублирует начало, но слаще, паточней, обнаженней: «Мы задействовали язык монтажа. Но в процессе монтажа мы — всегда за Юлию Ивановну». Еще отчетливей эти манипуляции с историческим материалом обоснованы в установочном тексте, открывающем «вход» во вторую книгу. Детализация касается методологического аппарата, взятого Дмитрием Сороковым напрокат из других областей гуманитарного знания: «Двухтомник о жизненном пути Юлии Ивановны Андрусовой-Фаусек... автор рассматривает не как беллетристическое произведение, а как научное исследование феноменологического толка (sic! — Е. П.). Оно опирается на принципы гуманитарной методологии в науке и имеет соответствующий научный аппарат: научную проблему, цель, исследовательские вопросы, объект, центральный предмет, центральный метод, научную новизну, теоретическую и практическую значимость». Читатель вправе задать вопрос Дмитрию Сорокову: «Уважаемый автор, сейчас Вы с кем разговариваете?»
Второй «близнец» построен причудливей и более «фантазийно» по сравнению с первым. Эта научная фантазийность объясняется тем, что в первой серии автор-составитель и его группа поддержки чувствовали себя отчасти робко и поэтому старались, как могли, представить своего героя, его тексты, аккуратно вмешиваясь и призывая в помощники весь арсенал орудий — реконструкцию, реставрацию, монтаж и коллаж. В следующих сериях автор уже перестал стесняться какими-либо ограничениями, делая в высшей степени невинное, словно бы оправдательное, признание в «рамочном» тексте: «Автор, монтируя рукописные и архивные материалы в контексте документальной реконструкции событий или создавая свой собственный текст в контексте реконструкции художественной, пытался выявить мотивацию подлинно нравственных выборов героини и уникальную траекторию ее жизненного пути, проходящего между Сциллой ситуативности и Харибдой надситуативности» (sic! — Е. П.). Беда в том, что во втором томе голос публикатора-реконструктора слышнее, сливается и временами заглушает голос персонажа. Последний документ, завершающий дилогию, называется «Письмо русской учительницы к неравнодушному коллеге» подписан тремя авторами — Юлией Фаусек и «прочитавшими ее письмо в апреле 2010 года Екатериной Сороковой и Дмитрием Сороковым». Вот такой художественный прием.
Что получилось в результате? Благие намерения, паточная смазь, глянцевая беллетристика, манипулирующая историей. За этим стоят немалые деньги, действительно долгий срок работы, репутации. Дмитрий Сороков — уважаемый человек, кандидат психологических наук, профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета психологического консультирования МГППУ. Педагогический стаж 24 года; с середины 1980-х — активный участник общественно-педагогических движений «Педагогика сотрудничества», «Творческий союз учителей»; редактор-составитель хрестоматии «Школы сотрудничества» (2000). Один из организаторов процесса возрождения Монтессори-педагогики в России (с 1990), ее историк и теоретик. Неоднократный лауреат конкурсов «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования. Резюме Дмитрия Сорокова, следуя правилу двухтомника, опубликовано дважды без изменений в конце каждой книги-близнеца. Что ж? Так лучше запоминаются сведения об авторе, «популярном педагоге». А еще Дмитрий Сороков получил диплом конкурса Фонда отечественного образования на лучшую книгу. Этой лучшей книгой 2010 года оказалась «Русская учительница», и вышла она в издательстве «Форум», существующем на рынке более 10 лет и выпускающем учебники и учебные пособия по всем «рыночным направлениям», включая психологию, культуру, дизайн, медицину, политику, технику, историю и все остальное. Продукция на любой вкус — и для физиков и для лириков. «Русская учительница» вполне встроилась в этот издательский бизнес. Дмитрий Сороков как один из любимых авторов заодно с «Русской учительницей» незаметно сделал еще одну книжицу в том же 2010 году — «Работа с научной информацией: написание и защита квалификационных работ по психологии». Все вместе — это уже не «близнецы», а «тройняшки», поскольку «учебное пособие» — логичное продолжение и завершение того странного ВАКовско-фрейдистского стиля, что оформляет «ритуальное» авторское присутствие в дилогии и трактует принципы работы с источниками. Такая ниша.
К слову, о нише. На самом деле повествование о замечательной Юлии Фау-сек, вопреки благородным намерениям ее воскресителей, сегодня выпадает из локального монтессорианского контекста. В первую очередь тема воспитания по системе Монтессори и обсуждение ключевых фигур попадает под юрисдикцию виртуального ведомства, ответственного за историко-культурологические интерпретации детской проблематики. «Детство, отрочество, юность» сегодня — это, безусловно, рейтинговая модная тема, подтвержденная системой грантовых приоритетов — как у нас, так и в Европе/Америке[18]. Особенно «советское» вспоминают с наслаждением и грустью, со страхом и отвращением. «Советским» занимаются теперь «новые археологи», раскапывают и рассказывают о своих находках историки, искусствоведы, культурологи, журналисты[19]. Вот политика. Официальная жизнь. А вот повседневная. Советская повседневность — вкусный кусок для многих, она теперь неопасна и легко разбирается на сувениры. Внутри советской повседневности есть особая территория — советское детство. Только за последние 3—5 лет в университетах, исследовательских центрах и СМИ состоялось 238 круглых столов, посвященных детской теме в разных ее обличьях — чтению, воспитанию и образованию. Научная фетишизация детской темы — чем-то сродни бизнесу: хорошо продается, есть заказчики, исполнители, покупатели. В этом секторе сложились, как положено, свои правила и «ценовая политика». «Семиотики» и «антропологи» расставили акценты, задали векторы и подходы. В результате «раскрутка» темы приобрела вполне ожидаемый литературоцентри-ческий подход. Такой идеологический ракурс оправдан и объясним — структура и практика детского чтения, его традиции — действительно один из важнейших ключей к описанию. Важнейший, но не единственный.
Исследователи, как правило, либо совсем не замечают, либо поверхностно и вскользь упоминают предысторию «модели советского детства» как она сложилась в ранние 1930-е и закреплялась все последующие годы. Корни глубже. Обкатка происходила раньше, заготовки апробировались еще в полемике 1910-х, в тех самых «детсадовских» войнах, когда схватились между собой «альтернативщицы» — фребелички и монтессорианки. И не только они. Позднее, когда начались уже нешуточные погромы, конференции и съезды, предание анафеме педологов и прочих, схема уничтожения уже была отработана и место для советских прививок, поглощений и слияний, бригадных и проектных работ, производственного и идеологического воспитания — пустыня для всех начинаний — было уже расчищено. Наши и американские семиотики наверняка знают об этом. Но их привлекают крупные сюжеты: интернационализм, патриотизм, глобализм советского детства. Интересно другое: как в среде тех же самых «альтернативщиков» — вчерашних соратников Фаусек по монтессорианству — выковывались самые ярые гонители и советские педагогические активисты. Технологии использования, «применения», «приспособления», «переупаковки» старого дореволюционного или нерусского в российское советское, технологии «предательства», в конце концов, — человеческого и профессионального[20].
Имеются в виду многочисленные растерянные попытки издательского бизнеса собрать историю образовательной «отрасли». Она не поддается. Ускользает. Рассыпается. Очевидно, не найден язык описания, а главное, не известны, не освоены формы сборки. Отсюда в этом отсутствующем сюжете поразительным образом рифмуются проекты, казалось бы, несопоставимые, даже полярные: глянцевая ре-конструкторская дилогия про Юлию Фаусек, российскую монтессориаду и не менее глянцевые «Хроники образовательной политики: 1991—2011» Бориса Старцева[21]. Внешне ничем не похожие, за исключением блестящих леденцовых игрушечных обложек, они неожиданно совпадают методологически — и в том и в другом случае авторы отсутствие истории маскируют и подменяют занимательностью, реконструкцией, беллетристическим кокетством, монтируя газетно-журнальные репортажи, обозрения официального верхнего среза событий 1991—2011-го по искусственному хронологическому принципу. Эдакая литературная игра с источниками.
Результат в обоих случаях примерно один и тот же: перед глазами читателя мелькают картинки, по усам течет, а в рот не попадает. Нынешняя продукция — исторический гламур: приятна на ощупь, балует глаз. В ней всерьез хороши фотографические вкладки. В них — убедительность и сила подлинных документов. Подлиннику не нужны реконструкторская бутафория, гарнир симулякров. Подлинник не нуждается в подпорках и сам постоит за себя.
И последнее. Название дилогии — «Русская учительница» — в соответствии с законами и правилами отечественной семиотики отсылает нас к национальному «учительскому канону», сложившемуся в русском культурном сознании и обиходе, в бытовой и образовательной практике XIX—XX веков. В структуру канона входят такие обязательные составляющие, как «миссия учителя», обычно преподавателя словесности или родственных гуманитарных дисциплин; центральная воспитательная роль и воздействие на дальнейшую судьбу учеников; «магнетизм» и стойкая «харизма», ореол мученичества и гонения или, наоборот, преодоление трудностей и заслуженное признание. Исключительный «учителецентризм», канонизация педагога особенно закреплена в публицистике начиная с 1930-х годов[22], и «Русская учительница»-2010 — нечаянно продолжает линию, обозначенную в свое время повестью Николая Шкляра «Народная учительница» (1939; 1950) — советской педагогической агиографии, ставшей своего рода классикой жанра. «Народная учительница» — про талантливую Юлию Михайловну Савельеву, «в годы реакции боровшуюся за народную школу, за свет и знания для народных масс, а затем — после Великого Октября — ставшую активной участницей социалистического строительства».
«Учительский канон», «канонизация учителя» как одной из центральных фигур российско-советского и постсоветского культурного универсума — это константа национальной мифологии. Она сохраняется при всех реформах и сменах идеологических, образовательных парадигм. И защитники канона, и их оппоненты, на самом деле сами того не подозревая, находятся внутри одного и того же круга, замкнутого прочной и неколебимой национальной традицией.
[1] Фаусек Ю. И. Русская учительница. Воспоминания Монтессори-педагога. Кн. 1. М.: Форум, 2010. 384 с.; Сороков Д. Г. Русская учительница. Семейные истории и метод научной педагогики Юлии Фаусек. Кн. 2. М.: Форум, 2010. 384 с.
[2] Коджаспирова Г. М. История образования и педагогической мысли. М., 2003. С. 90.
[3] Блок А. А. Крушение гуманизма. 1921.
[4] «Детский сад Монтессори. Опыты и наблюдения», «Обучение грамоте и развитие речи по Монтессори», «Обучение счету по Монтессори», «Значение рисования в школе Монтессори» и другие.
[5] Крупская Н. К. К вопросу о социалистической школе (1920—1925) // Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в десяти томах. Т. 2. Общие вопросы педагогики. Организация народного образования в СССР. М., 1958. С. 10—15.
[6] 90 лет Монтессори-педагогике в России // Дошкольное образование. 2008, № 10, http://dob.1september.ru/article.php?ID=200801009; Хилтунен Е. Юлия, или Первая весна итальянской школы в России // Дошкольное образование. 2007, № 3, http://dob.1september.ru/2007/03/17.htm
[7] Фаусек Ю. И. Указ. соч. С. 291.
[8] Сороков Д. Г. Указ. соч. С. 258.
[9] Педагогический институт дошкольного образования.
[10] Сороков Д. Г. Указ. соч.С. 10, 12, 184—185.
[11] Сороков Д Г. Указ. соч. С. 13, 15, 197.
[12] Бывшие учащиеся петербургской школы Карла Мая на протяжении всей жизни называли себя «майскими жуками».
[13] Сороков Д. Г. Указ. соч. С. 16.
[14] Там же. С. 15.
[15] Фаусек Ю. И. Указ. соч.; Сороков Д. Г. Указ. соч.
[16] Сороков Д. Г. Вслед за Юлией Фаусек (опыт реконструкции психолого-педагогических основ Монтессори-педагогики в России) // М. В. Богуславский, Д. Г. Сороков. Юлия Фаусек: Тридцать лет по методу Монтессори. М.,1994.
[17] 2010 — Год учителя; 2007 — 100-летие Монтессори-педагогики; 2008 — 95 лет российской Монтессори-педагогике, 145 лет — со дня рождения Ю. И. Фаусек. 2007/2008 — 18 лет возрождения отечественного монтессорианства. Ложка, то бишь книжка «Русская учительница...», как раз пришлась к обеду.
[18] Бокова В. Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола. М.: Ломоносовъ, 2011; Дрейкурс Р., Золц В. Манифест счастливого детства: Основные идеи разумного воспитания. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2011; Епархиалки: воспоминания воспитанниц женских епархиальных училищ / сост. О. Д. Попова. М.: Новое литературное обозрение, 2011; Иванов А. Е. Мир российского студенчества. Конец XIX — начало XX века. М.: Новый хронограф, 2010; Ямбург Е. А. Школа и ее окрестности. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011; Феофанов А. М. Студенчество Московского университета XVIII — первой четверти XIX века. М.: Православный Свято-Тихоновский богословский ин-т, 2011.
[19] Пенская Е. Н. «Мурзилка» и мы // Литература. Журнал для учителей словесности. 2011, № 17 (декабрь). C. 48—52, lit.1September.ru
[20] На фоне глянцевой «науки» для потребителей интеллектуального гламура одно из исключений — спокойное и основательное исследование фактов, архивных материалов: Красовицкая Т. Ю. Модернизация российского образовательного пространства. От Столыпина к Сталину (конец XIX века — 1920-е годы). М.: Новый хронограф, 2011.
[21] См. рецензию в этом номере ОЗ.
[22] Печерникова И. А. Учительница-орденоносец Т. И. Бабайкина. Горький, 1939; Голленгер Г. Ю., Тумаровская А. И. Воспитанница Наталья Николаевна Годоснидская. М., 1939; Дзюбинский С. Н. Народный учитель. Повесть об учителях Ю. Ф. и Н. М. Головиных. М., 1939; Петров H. A. Личный пример учителя. М., 1939; Бессонов Ю. Две жизни. Жизнь и педагогическая работа А. Д. Обуховской. М., 1937; Евдокимов И. Учительница Н. В. Покровская. М., 1937; Козлина М. Многолетний опыт учителя математики В. В. Андрианова. М., 1937; Шкляр Н. Г. Большая жизнь. Повесть о жизни и работе народной учительницы Ю. М. Савельевой. М., 1939; Яковлев A. C. Народный учитель К. И. Муравьева. М., 1939; См. также: Белова Н. А. Повседневная жизнь советских учителей. Автореф. дисс. ... к. и. н. Специальность 07.00.07 (этнография, этнология и антропология). М., 2011.
