Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
«Ядро Европы»
Мысли о европейской идентичности[*]
Что наиболее глубинным образом сплачивает Европу? Легче указать необходимые (хотя и недостаточные) условия, которые могут обеспечить ее прочное —
в том числе и политическое — объединение. Успех валютного союза переключил
общие интересы европейских стран в экономическую плоскость, где такое единство проявляется зримо, ибо относится к легко уловимым (и даже исчислимым)
материям. Однако стремление к оптимальному соотношению «цена — производительность» — свойственное, кстати, не какому-то одному региону, а всему мировому рынку — само по себе еще не создает ценностей, которые жители Европы
могли бы признать специфически европейскими. Между тем правило «собственность есть ответственность» — и к тому же, в условиях конкуренции, ответственность не всегда приятная, — как будто не для европейцев писано: о нем в Европе
совсем перестали вспоминать, попросту аккумулируя расходы на систему социального обеспечения в виде бюджетных дефицитов, которые в настоящее время
европейские страны уже не могут себе позволить. Тем временем «пакт о стабильности», обязывающий правительства к умеренности, превратился в подлинный
критерий способности Европы быть Европой. Но такая Европа, которая должна
только подсчитывать прибыли и убытки, утрачивает основу, позволяющую быть
сплоченным сообществом, и — если уже нет излишков для перераспределения —
она не может предложить членам этого сообщества никаких компенсаций. К тому же, с чисто экономической точки зрения, объединение Германии оказалось
невыгодной инвестицией и вызвало перебои в работе мотора ее экономического
могущества. Сказать, что расширение на Восток поправило экономические дела
Европы, будет чересчур смелым и необоснованным тезисом — да и в политическом отношении (что беспощадно вскрыла иракская война) чаемой идиллии
из него не получилось.
Зерна раскола
Дело в том, что и в сфере «общих ценностей» расширенного союза соперничают
между собой столь различные приоритеты, что приходится опасаться за их действенность. «Приданое» в виде с трудом завоеванных и в итоге просто-напросто
оккупированных национальных идентичностей, которое «новая Европа» приносит «старой», плохо вяжется с историческими завоеваниями последней и активизирует консервативно-националистические зерна раскола, в том числе и в старой
Европе. «Никогда больше стопятидесятилетней[1] европейской гражданской войне» стало одним из лозунгов, на котором был основан пафос Римских договоров,
сплотивших воедино победителей и побежденных Второй мировой войны. Даже
если готовность к миру — гарантировавшемуся холодной войной — была не абсолютной, то во всяком случае она «связала» немцев таким альянсом, который,
несомненно, нейтрализовал возможности проявления их воинственности в отношении соседей. И никто не хлопотал о европейской интеграции столь старательно, как сами западные немцы, что стало для них формой деятельного искупления — немцы стремились к объединению сильнее, чем к членству в НАТО,
которое хотя и обеспечивало необходимую защиту, и сделало возможным послевоенное экономическое чудо, но не могло успокоить мук совести. Двойная травма, состоящая в вине за войну и за Холокост, объединилась в комплекс обязательной самоцензуры, который можно было «снять» лишь в каком-то единстве
Европы более высокого порядка. За мир и спокойствие можно было заплатить
даже разделением Германии.
Мирное сближение двух германских государств могло способствовать падению Берлинской стены, взрыву Советской империи изнутри даже эффективнее,
чем демонстративно отвергаемая гонка вооружений: с эпохи Вилли Брандта таким был один из главных постулатов германской «восточной политики», которая
при разряжении накопленной с давних времен взрывчатки требовала чрезвычайной осторожности. И вот, после того как достигнутое превзошло всяческие ожидания, предстояло еще обнаружить, что часы в освобожденных странах идут «не
так». Повсюду, где к власти пришли бывшие диссиденты, они ставили борьбу за
права человека и гражданина — вплоть до тираноубийства — выше заповедей
коллективного обеспечения мира, и для этого, в процессе присоединения
к Европейскому сообществу, смирились с новым его расколом. Ведь даже правительства к югу от «старой» Европы Рамсфельда[2] оказались согласными с правительствами «новой» Европы в том, что войну можно вести и без благословения
международного права, и такая война может быть даже необходимой и справедливой. Поэтому англо-американский односторонний подход к Ираку породил
события, парализовавшие Европу и уготовавшие странам — противникам иракской войны, Франции и Германии, неожиданные коалиции: с Россией и —
на надлежащем расстоянии — с Китаем.
После известного исхода войны дискуссия о том, кто на самом деле оказался в
изоляции, вроде бы решена; и это лишь усиливает сомнения относительно того,
как из Евросоюза вообще может получиться сила, чей голос будет иметь вес. Слишком большой, чтобы быть в политическом отношении безмолвствующей массой,
Евросоюз остается чересчур разнородным, чтобы его вес что-то значил на чаше весов мировой политики. «Ум расширяет кругозор человека, но парализует волю,
действие животворит, но ограничивает», — вот как об этом сказано в «Годах учения
Вильгельма Мейстера». То, что европейцы находят новый мировой порядок Буша
«ограниченным», не служит им компенсацией за то, что «ум» [Sinn] Европы не желает конденсироваться в политический здравый смысл [Gemeinsinn]. Конституционный Конвент Жискар д’Эстена в Брюсселе досягает не дальше, чем позволяет
ему его расплывчатый статус, зависящий от реальной конституции Европы. Но ведь если наименьший общий знаменатель Европы не может быть экономикой, а
наибольший — культура — в лучшем случае витает в небесах торжественных речей,
то на чем же должно зиждиться европейское единство?

С Европой у каждого дело обстоит так же, как у Блаженного Августина с понятием времени: пока его не спрашивают, что оно такое, он вроде бы это знает;
но стоит лишь его спросить — и он не в силах ответить. При этом ответ мог бы
звучать и просто: Европа — это факт, становящийся таковым из-за того, что его
создают. С хорошо понятным швейцарцу добавлением: из-за того, что к нему
стремятся. Сомнений Европа не вызывает лишь как сообщество единых воспоминаний и единого опыта — с той особенностью, что таким воспоминаниям суждено было достаточно основательно нас разделить, а уж потом — объединить,
а такой опыт был опытом противоречий, казавшихся непреодолимыми. И всетаки их преодолели, но не те, кто на это рассчитывал, а уставшие противники.
Для меня — как для европейца из Швейцарии — немецко-французское примирение остается куда более ошеломляющим чудом, чем конец холодной войны. Ядро
старой Европы представляет собой бывшую трещину [Ri.], превратившуюся в основу [Grundri.] подлинно новой Европы. Среди полей исторических битв — от Брюсселя через Люксембург до Страсбурга — столицы Евросоюза расположены подобно
скобкам над раной, которая больше никогда не должна открыться. Это ядро Европы
научилось заключать мир с самим собой a toute prix[3]: ведь цена, которая была за него
уплачена, остается непреходящим обязательством Европы по отношению к Европе.
Основное достижение
Хотелось бы, чтобы это исцеление послужило образцом и побудило засыпать рвы
и срыть стены на (во многих смыслах широко открытой) восточной границе
Европы. Но поскольку желания здесь бессильны, прочность ядра Европы — являющаяся ее идеальным «acquis communautaire»[4] — невозможно упразднить
по чьему-то желанию. То, что на Западе было достигнуто цивилизацией нравственной политики, должно оставаться неотчуждаемым приобретением. В пограничном же случае — которого не может пожелать себе ни один европеец — рекомендуется отступление в то русло, где уникальная историческая воля вызвала
широкомасштабное преодоление национального идиотизма, выраженного в поговорке right or wrong, my country[5]. Это исцеление остается основным (отнюдь не
неколебимым) достижением Европы, устремленной в будущее. Следы железного
занавеса все еще выглядят устрашающе, хотя бесчеловечные пограничные укрепления и обветшали. То, что нанесенные тоталитаризмом раны остаются инфицированными, доказывается распространением националистско-популистской
реакции по обе стороны преодоленной границы. С наступлением оттепели в отношениях между прежними блоками исчезает анестезия, посредством которой
те, кто следовал логике этих блоков, были насильственно обездвижены, а их национализм пропал из виду — теперь они требуют свои права «назад». И если исторически справедливо и должно быть справедливым с позиций культуры то, что
Европа живет за счет своих противоречий, то верно, что с непреодолимым противоречием политическая Европа жить не может и должна избегать его еще
и институциональным образом. Поскольку столь дорогой ценой досталось то,
что позволяет европейцам преодолевать раздоры друг с другом и внутренние
междоусобицы, оно должно сохраняться и в дееспособном союзе государств.
Во многих отношениях сегодняшний европейский процесс подобен процессу, который Швейцария пережила между Венским конгрессом (1818) и 1848 годом. Двадцать две строптивые общины, каждая из которых сама по себе была политически неустойчивой и едва ли одна обошлась без изменений в политическом
устройстве, после долгих дискуссий договорились улаживать свои — впрочем,
всегда определимые еще и «по-европейски» — разногласия через конфедерацию.
Новые власти конфедерации осознавали то, что им придется сразу и управлять
государственно-правовым устройством, состоящим сплошь из меньшинств,
и осуществлять глубинное примирение этих меньшинств. У Евросоюза нет двух
преимуществ, какие тогда способствовали объединительному процессу в Швейцарии: властно-политической незначительности и обязательства внешнеполитического нейтралитета. Такой global player[6], как Евросоюз, не может спрятаться;
но, будучи умудренным собственными противоречиями, он должен будет выработать у себя особую чувствительность к противоречиям у других. И если Евросоюз не «учится побеждать» у США, то это потому, что ему приходится задумываться над ценой победы. «Еще одна такая победа, и я погиб», — сказал античный
царь Пирр; европейцы тоже заплатили за свои победы столь дорого, что они уже
не готовы «одерживать» мнимо окончательную. Их опыт говорит им, что «война
против терроризма» сегодня порождает больше врагов, нежели ей под силу преодолеть, и тем самым ее саму следует отнести к тому злу, за искоренение которого она берется. Крестовые походы прошлого отправлялись из Европы, и поэтому
она не должна к ним стремиться. Но даже для того, чтобы им противодействовать, ей еще понадобятся солдаты: радикальный пацифизм — совсем не то, что
гарантия мира. Единство Швейцарии в XIX веке с большей эффективностью было достигнуто ее армией, нежели патриотической риторикой; а вот внешнюю политику Европы будет олицетворять Йошка Фишер, чья биография служит залогом того, что «другую сторону» всегда будут выслушивать, а максима «много врагов — много чести» отслужила свое в качестве девиза для Европы.
Сообщество судьбы
И сплачивает, и разделяет Европу, по существу, одно и то же: общая память и шаг
за шагом приобретенная привычка избегать пагубных привычек. Европа есть то,
чем Европа станет. Это не Abendland[7] и не колыбель цивилизации, у нее нет монополии на науку, просвещение и модернизацию. Ее идентичность отнюдь не
должна искать для себя обоснований где-либо помимо опыта, ибо каждый, кто
«забронировал» Европу исключительно для себя, неизбежно становится жертвой
той ослепляющей гордыни, из-за которой в XIX веке Европа полагала, будто она
представляет весь мир, и стремилась к господству. Ее границы не должны быть
иными, нежели те, на которые она непреднамеренно наталкивается, цивилизуя
саму себя. Да и на эти границы она не должна реагировать болезненно, но —
впервые в своей истории — рассматривать их с общеевропейских позиций.
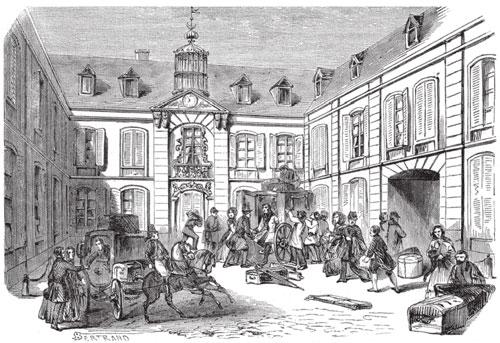
Поэтому немногословный пафос общеевропейскому проекту не противопоказан. Отчего же европейцам не позволить себе столько же радости, сколько
ощущают швейцарцы от собственного разнообразия? Федерация под названием
Европа — не только нечто новое в универсуме истории человечества; то, что такая федерация в истории человечества никогда не существовала, остается источником осторожности и раздумий не в меньшей степени, чем вдохновения. Европа в своей организации должна быть такой же находчивой, как и сама жизнь, каковую современная биология понимает уже не как целенаправленный процесс, не как естественный эквивалент священной истории, но как patchwork[8], как
ежедневные поиски равновесия в некоей подвижной нише; своего рода продолжение игры в вопросы и ответы относительно сразу и угрожающей, и занимающейся собственным спасением «глобализованной» окружающей среды. Поэтому
все европейские органы — голова и конечности, «Брюссель» и старые национальные государства — превращаются в органы обработки разумной информации о самих себе. Такой Европе не нужно беспокоиться о своей идентичности
уже потому, что эта идентичность мыслима только как продукт политической
экологии, обращенной внутрь, и может отказываться от — всегда скверной —
пропаганды идентичности. Европа вправе быть довольной фактическими свидетельствами своей мирной жизни — это тоже историческая новость первого
порядка.
Говоря мелодраматически, Европа — сообщество судьбы. Античные стоики
знали понятие amor fati, «любовь к судьбе»; такая любовь никогда не была удобной, но от этого она ни в коей мере не становилась бездеятельной. Чтобы построить Европу, ее не обязательно любить. Но можно.
[*] Adolf Muschg, “‘Kerneuropa’: Gedanken zur Europaischen Identitat,” Neue Zurcher Zeitung
(May 31 2003).
© Copyright Neue Zurcher Zeitung 2003.
Перевод с немецкого Бориса Скуратова.
[1] От наполеоновских войн до конца Второй мировой войны. — Здесь и далее примеч. перев.
[2] Имеются в виду правительства Италии, Испании и Греции, поддержавшие
англо-американскую интервенцию в Ираке.
[3] Любой ценой (франц.).
[4] Совместно нажитое имущество (франц.).
[5] Права она или не права, но это моя страна (англ.).
[6] Игрок в мировом масштабе (англ.).
[7] Немецкое поэтическое обозначение Запада.
[8] Лоскутное одеяло (англ.).
