Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Что и как рассказывают историки о своих «богах» и героях
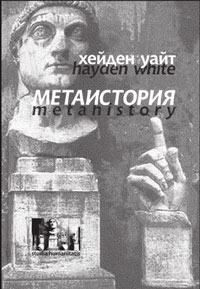
Хейден Уайт. Метаистория: Историческое
воображение в Европе XIX века / Пер.
с англ. под ред. Е. Г. Трубиной
и В. В. Харитонова. Екатеринбург:
Издательство Екатеринбургского
университета, 2002. 528 с.
Читатель догадается, что это заглавие является перефразировкой названия популярной
книги Н. Куна «Что рассказывали древние
греки о своих богах и героях».
Труд американского историка Хейдена Уайта (Hayden White) посвящен тому, как
историки и философы ХIХ века воображали героев, о которых они
рассказывали, с помощью
каких языковых, риторических и литературных
приемов они строили свои
повествования. Эти средства и приемы, с точки
зрения Уайта, принципиально важны для истории
как рассказа: ибо то, как
рассказываются «истории», в сильнейшей степени определяет, что именно
рассказывается.
Не случайно подзаголовок труда Уайта содержит слова историческое
воображение. Автор напоминает нам, что пафос
первого поколения профессиональных историков
был выражен в максиме
Леопольда фон Ранке: рассказывать все, «как
это было на самом деле». Однако об одном и
том же — т. е. о тогда, которое не теперь, и о
где, которое не здесь, — каждый историк рассказывает по-своему. Кроме того, историческое воображение свойственно не одним
лишь историкам. Поэтому мы не удивляемся
«истории» о машинистке, которая, перепечатав авторскую рукопись «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, сказала: «Теперь я знаю,
как это было на самом деле».
Хейден Уайт, разумеется, не первый историк, уделивший историческому воображению
особое внимание. В итоговом разделе «Идеи
истории» Р. Дж. Коллингвуда (1946) эта тема
обстоятельно обсуждается в отдельной главе,
которая так и называется: «Историческое воображение». Там же, хотя и в сжатом виде, находим рассуждение о месте фабулы в повествовании: с одной стороны, например, в повести
или романе, и с другой, в историческом сочинении — проблема, особо важная для Уайта.
«Историк менее счастлив», писал Коллингвуд, сравнивая свидетельства источников, с которыми работает историк, и воображаемые события, с которыми имеет дело
романист, свободный в интерпретации сконструированного им самим мира. И уже Коллингвуд подчеркивал, что применительно
к прошлому мы вообще не соприкасаемся
с каким бы то ни было «на самом деле»,
а лишь с повествованиями о прошлом.
Повествование же, как известно, не зеркало, а увеличительное стекло. И в этом качестве
оно имеет имманентные законы, определяемые жанром рассказа как такового:
то, что один рассказчик видит как трагедию, другой
изобразит по законам сатиры, третий — по законам
волшебной сказки, и т. д.
Однако в пределах любого
жанра повествование не
может быть устроено произвольным образом: оно
организовано вокруг событий. Но что считать
событием? Что вообще
позволяет организовать потенциально неограниченное множество разрозненных фактов в связное
повествование, которым
должно являться историческое сочинение?
Взгляд на историю как на особый вид повествования, т. е. представление о фабульности
истории, было, до известной степени, общим
местом задолго до Уайта. Фабула тем не менее
станет ключевым словом для построений
Уайта, созданных почти через тридцать лет после публикации «Идеи истории» Коллингвуда.
Книга Уайта интересна именно заостренной постановкой вопросов о том, какими
приемами достигается повествовательность
истории, притом в большей мере самими вопросами, нежели ответами на них.
«Метаистория» вышла в 1973 году и несет
на себе отпечаток споров и азарта эпохи
структурализма. Однако отклики на эту книгу
стали многочисленными далеко не сразу, но
только в начале 1980-х годов, т. е. уже в постструктуралистские времена. Замечу, что идеи
Уайта привлекли к себе внимание одновременно с расширенной рецепцией западным
сообществом гуманитариев работ Проппа,
Шкловского и русских формалистов в целом.
Причем имеет смысл говорить именно о расширенной рецепции, потому что прямая рецепция, свидетельством которой могут быть,
например, сугубо структуралистские работы
Клода Бремона, имела место еще в середине 60-х годов, но тогда это касалось преимущественно Европы, а точнее, Франции.
Итак, по Уайту, своеобразие исторической науки определяется, прежде всего, тем,
что она строится как повествование, нарратив, из чего следует, что метаязык историка не
определяется напрямую его мировоззрением,
а зависит от избранного им способа наррации.
Мысль эта, вообще говоря, не неожиданна.
Артур Данто акцентировал различия между хроникой и историческим повествованием еще
в середине 60-х годов прошлого века, Поль
Вейн в 1971 году напоминал, что главное в историческом сочинении — это «интрига». Сходные
соображения, как мы видели, высказывал
и Коллингвуд еще в 30-е годы. Но к 70-м годам
для выделения нарратива как принципиальной
для исторического сочинения конструкции появилась, по крайней мере, еще одна — и не
исключено, что главная — причина. Это ощущение исчерпанности инновационного потенциала самой яркой парадигмы в исторической
науке ХХ века — парадигмы Школы «Анналов»,
точнее, представителей ее второго поколения.
Как известно, анналистов интересовали
не столько «большие» события (res gestae),
сколько структура и эволюция ментальности,
«история повседневности», а также важнейшие социально-экономические процессы,
специфика протекания которых заключена
именно в их особом, медленном темпе
(le temps de long dure). Несколько огрубляя,
можно сказать, что сила анналистов — в глубине и тонкости поперечных «срезов», которые далее могут сравниваться между собой,
но не в построении «интриги».
Альтернативой «медленному времени»
анналистов было возвращение историческому повествованию качеств собственно нарратива — т. е. событийности, сюжетности, того,
что Уайт называет emplotment.
Свойства текста и способы построения
сюжетов изучаются теорией литературы (в англоязычной традиции — criticism), в которую
входит и теория тропов (теперь принят термин
тропология). Отсюда источники вдохновения
Уайта и, в значительной мере, используемый
им концептуальный аппарат. Сам Уайт в качестве теоретиков, чей аппарат ему был особенно полезен, называет Нортропа Фрая («Анатомия литературной критики», 1957) и Кеннета
Берка («Грамматика мотивов», 1969).
Итак, Уайт попытался использовать понятия, которые ранее проходили по ведомству теории литературы и риторики — такие как трагедия или синекдоха, дабы описать с их помощью
способы построения нарратива, характерные
для крупнейших историков и философов XIX века, а также для некоторых историков века XVIII.
Именно этот подход уже в постструктуралистский период был поднят на щит под
названием «лингвистического поворота»
и прославил автора. Так «Метаистория» оказалась среди обязательных источников в списках учебной литературы, рекомендуемой,
в частности, американским студентам.
Я приложила немало усилий, чтобы поставить себя на место не американского студента,
что, пожалуй, невозможно, но гуманитария
«вообще», т. е. университетского преподавателя постструктуралистской эпохи, который желал бы с помощью книги Х. Уайта восполнить
определенный пробел в своих познаниях. Всетаки как лингвист я обязана не только знать историю появления выражения «лингвистический поворот», но и понимать, насколько
уместно здесь само слово «лингвистический».
Думаю, что оно не слишком уместно, потому что поворот (если признать, что он и в самом деле произошел) касается не науки лингвистики, а отношения к использованию языка
и его инструментов. Предложенный аппарат,
с моей точки зрения, переусложнен и не слишком продуктивен. Исключение составляет введение — «Поэтика истории», служащее концептуальным центром книги. Быть может, читать
всего Уайта сегодня не обязательно, и именно
эти сорок страниц оправдывают взгляд на «Метаисторию» как на книгу, провоцирующую читателя на продуктивные сомнения.
Во «Введении» Уайт формулирует задачи
историографа, как они виделись ему в 70-е годы, и, что очень важно для понимания общего
замысла, подробно объясняет, чьи теории были для него особенно значимы при попытках
интерпретации собственно историографических текстов. Русскому читателю будет приятно найти здесь среди прочих имена Якобсона,
Эйхенбаума, Томашевского и Шкловского.
Однако о своих главных героях (а это четыре историка ХIХ века: Мишле, Ранке, Токвиль
и Буркхард — и четыре философа: Гегель,
Маркс, Ницше и Кроче) Уайт, с моей точки зрения, рассказал не так уж удачно. Категориальный аппарат анализа текста, заимствованный
Уайтом у канадского теоретика литературы
Нортропа Фрая, оказывается достаточно искусственно «навешен» на рассмотрение того понимания «смысла и назначения истории», которое
отличает, например, Мишле от Буркхарда.
Русскому переводу «Метаистории» в нашей
периодике посвящено несколько рецензий.
Среди них я выделю два разбора книги, опубликованных в «Новом литературном обозрении»
№ 62. Это анализ, предложенный С. Зенкиным
в рамках обзора «Критика нарративного разума», и обстоятельная рецензия О. Гавришиной,
посвященная не только «Метаистории», но также творчеству Уайта в целом, рассказывающая
о характерной для него роли «возмутителя спокойствия» в академическом мире.
Любопытно, что и С. Зенкин, и О. Гавришина используют выражение «мыслительный
жест» как своего рода рамку, в пределах которой надо рассматривать текст Уайта. В остальном их оценки нередко противоположны.
Так, С. Зенкин считает, что Уайт силен не
столько как методолог, но как собственно историк и что его анализ хода мысли Ранке, Мишле, Токвиля «отличается великолепной глубиной» (НЛО, № 62, с. 530). О. Гавришина,
напротив того, полагает, что о конкретных
персонажах (в качестве примера приводится
Гердер) Уайт сказал мало нового. Продуктивной же, с ее точки зрения, является не переусложненный аппарат, а идея обновления самого взгляда на «ремесло историка», изложенная
преимущественно во «Введении», которое по
содержательности перевешивает основной
текст; как видно из сказанного ранее, я разделяю это мнение О. Гавришиной.
Вслед за С. Зенкиным, весьма сурово
оценившим качество перевода книги, отмечу
своего рода парадокс в осуществлении самого
издания «Метаистории».
Внешне книга издана со всем возможным тщанием: она сопровождена авторским
предисловием к русскому изданию и двумя
научными статьями. В первой из них переводчики и научные редакторы книги Е. Трубина и В. Харитонов рассказывают о трудностях, неизбежных при переводе весьма
специфической и непривычной для русского
читателя терминологии Уайта. Вторая статья
(Е. Трубина) — «“Метаистория” и историки» — написана с целью поместить труд Уайта в контекст дискуссий о том, как сегодня
следует писать историю и что именно делает
современную историографию наукой. Это
небольшая, но весьма крепко сделанная научная работа (одних ссылок сорок штук!).
Макет книги продуман. На широких полях основного текста мелким шрифтом в виде
сносок набраны библиографические ссылки,
примечания Уайта и примечания переводчиков (всегда очень дельные и нередко имеющие самостоятельную ценность для читателянеспециалиста). В конце книги есть еще два
библиографических списка, принадлежащих,
видимо, самому Уайту: «Произведения, проанализированные в книге», т. е. исторические
и философские сочинения, и «Книги по историографии, философии истории и критике,
на которые есть ссылки в книге».
Чего же еще желать?
Иного качества перевода, что уже отметил С. Зенкин. Но это во-вторых.
А во-первых и в-главных — аппарата!
Отсутствие аппарата в книге по историографии объемом в полтысячи страниц, где
в основном корпусе я насчитала более девятисот сносок (!), категорически не вяжется
с представлением о научном издании.
Кто догадается, что именно в разделе, озаглавленном «Мишле: исторический реализм
как роман», можно найти сведения о первых
профессиональных исторических журналах,
а также сводку имен тех, кого автор считает
классиками историографии позапрошлого века, с датами выхода их важнейших трудов?
Кому придет на ум искать именно в этом
разделе рассказ о выступлениях Гейне против
академической историографии, где поэт язвительно обыгрывает имя Ранке, называя современных ему историков Ranken und Raenken
(«пресмыкающиеся интриганы»)? В той же
главе о Мишле довольно подробно обсуждаются «романтические историки». Не подумайте, что именно и только французские —
немало внимания уделено, кроме Констана,
также Новалису и Карлейлю. Немаловажно,
что в разделе о Мишле все вышеперечисленное занимает не несколько абзацев, а первые 15 страниц.
А в разделе, посвященном Ранке, почти 10 страниц отведено анализу задач исторической науки, как их понимал В. фон Гумбольдт.
Невольно возникает мысль о том, что аппарат, конечно же, был, но в последний момент куда-то «подевался» (стерся файл? потеряли в типографии?).
Вообразим, однако, что в оригинале аппарата все же не было. Но, во-первых, в постгутенберговскую эпоху составление именного
и предметного указателей — не такой уж адский труд, по крайней мере, по сравнению
с тем, который уже проделан переводчиками
и научными редакторами. А во-вторых, издавая трехтысячным тиражом книгу, которая на
языке оригинала вышла тридцать лет назад,
т. е. как своего рода классику жанра, стоило
бы помнить, что без указателей отличные
примечания комментаторов, особенно персоналии, могут и не найти своего читателя.
Книга Уайта вышла в рамках программы
«Translation Project» (CEU–OSI), поддержанной Дж. Соросом. Интересно, как сможем мы
объяснить потомкам, почему столько книг
дожидалось этого проекта, чтобы оказаться
доступными нам на русском языке.
