Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Вина и задача университета
Представленные здесь тезисы мне довелось докладывать дважды: 4 апреля 1954 года, в рамках цикла радиопередач «Cовременные взгляды» Cеверо-западного немецкого радио, который был организован Юргеном Эггебрехтом, и 2 мая того же
года, на открытии Дня студентов в Мюнхене. Поскольку многие из моих слушателей пожелали, чтобы сказанное мной стало доступно и в письменной форме, я воспользовался предложением господина издателя и воспроизвожу свой доклад в этой
брошюре с некоторыми дополнениями и рядом ссылок на сочинения, авторы которых придерживаются сходного образа мыслей.
«Вина и задача университета»: уже формулировка темы показывает, что ее
следует обсуждать в контексте полемики с одним сочинением, которое почитаемый в Германии испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет опубликовал на своем родном языке еще в 1930 году, а по-немецки — лишь два года назад под названием «Вина и долг университета»[1]. Мне как действующему президенту
Конференции ректоров Западной Германии, погруженному в заботы университета и при этом каждый день ощущающему вину научного вуза и осознающему его
долг, нелегко удержаться от того, чтобы не говорить на эту тему с точки зрения
нынешнего положения дел. Сегодня же я довольствуюсь тем, что эскизно и чрезвычайно кратко изложу свой взгляд на вину и задачу университета в научной сфере, полемизируя с Ортега-и-Гассетом.
Тот, кто намерен понять университет — но отнюдь не многие, и далеко не все,
кто принадлежит к университету, действительно понимают его, — должен учесть,
что университет представляет собой многоплановую структуру. Университет —
это школа. Однако вместе с тем он — нечто большее, чем просто школа. Современный университет представляет собой место, где проводятся исследования.
И тем не менее в круг его задач входят не только исследования, потому что университет — это высшая школа. Университет, если иметь в виду его специфически
немецкое развитие, — творение государства. Тем не менее «Universitas litterarum»,
т. е. университет как универсальность, как единство разнообразных наук, разделенных на факультеты, представляет собой вместе с тем — подобно средневековому университету — «Universitas magistrorum et scolarium»: объединение учителей и учеников, корпорацию с определенными притязаниями на свободу,
предъявляемыми государству. Но университет — это еще и предприятие с администрацией, служащими, рабочими, членами производственного совета, водителями и медицинскими сестрами, т. е. целый мир, замкнутый и тем не менее встроенный в социум, мир со всеми проблемами маленького государства — социального государства, чей образ немыслим без выплаты денежного содержания
(в том числе и приват-доцентам), без общества взаимопомощи студентов, благотворительных организаций и общежития. Эту целостность, это многообразие, эту
напряженность следует иметь в виду, если мы хотим понять критику Ортеги, если
мы хотим признать ее справедливость и, вместе с тем, дать ей отпор.
Ортега часто говорит об испанском университете, тем не менее он, сформировавшийся в немецкой науке, имеет в виду, по сути, всегда только — немецкий. При
всем уважении к немецкому университету Ортега упрекает немецкий университет
в том, чтo он без обиняков называет «злодеянием» и чем немецкий университет
гордится больше всего: в неразрывной связи исследования и обучения в университете. Забегая вперед, заметим, что свое обвинение он обосновывает наблюдениями, к которым нельзя относиться слишком серьезно, поскольку они верные. Эти
наблюдения, которые можно условно обозначить как разоблачающие пресловутую «специализацию» наук, авторы разнообразной литературы, посвященной реформированию высшей школы, стали делать (по крайней мере со времен Ницше)
столь часто, что тезисы Ортеги лишь блистательно варьируют общеизвестную тему. Для Ортеги современный исследователь является, прежде всего, специалистом
в хорошем и плохом смыслах: профессионалом и, вместе с тем, специалистом, который не имеет представления о мире, который уже не способен передать подобное представление молодежи, т. е. современным «варваром», обучающим «варваров». Ученые, но необразованные учителя не способны дать образование своим
ученикам. Ортега понимает «образование» как хорошую ориентацию в силах, обусловливающих нашу эпоху: образование, если дать его краткую формулировку, —
это современность образа мыслей. Поэтому современные силы, влияющие на образование, имеют у Ортеги следующие имена: «Физическая картина мира» (физика), «Основные темы органической жизни» (биология), «Историческое развитие
человечества» (история), «Структура и функция социальной жизни» (социология), «План универсума» (философия). Ортега, бесспорно, прав, сетуя на то, что
современные профессора выпускают современных студентов без общего представления о мире, без мировоззрения, что университет и в самом деле повсюду порождает специалистов-варваров. Однако в качестве лекарственного средства он рекомендует «факультет культуры», под которым подразумевается, например,
объединение в один факультет пресловутого Studium generale, следовательно,
в конечном итоге речь идет о факультете свободных искусств: гильдии пропедевтиков, располагающейся в университетской иерархии прежде и ниже «высших»,
т. е. специальных, факультетов. Ибо и Ортега требует от университета максимально тщательной подготовки специалистов. Для Ортеги именно в этом состоят две
подлинные цели университета: трансляция культуры и профессиональная подготовка как две равноценные и равноправные задачи, и только на третьем месте, дополнительно, — научное исследование и воспитание новых поколений ученых.
И вот тут-то мы и слышим неожиданное и подлинное обвинение: гумбольдтовской идее университета вменяется в вину уродование университета, на нее возлагается ответственность за его бескультурье, его упадок: университет не исполняет
своего долга, поскольку занялся исследованиями, и притом не в качестве дополнительной, а в качестве основной деятельности, или, как можем мы прочесть
в другом месте, поскольку он смешивает «науку» и «культуру».

Тенденция к отождествлению науки и культуры, возникшая в XVIII столетии,
или — если мы обратим свой взор к веку XIX — тенденция к формированию картины мира с естественно-научной или исторической, следовательно, всегда с научной точки зрения в нашем веке обернулась злоупотреблениями со стороны науки. Ошибочная позиция, которую многие из нас, ученых, заняли в отношении
Третьего рейха и — если верить слухам — в отношении современных репрессивных режимов, точно так же, как и обе мировые войны и связанные с ними тяжелые испытания, показывают, что жизнь человека на самом деле определяется
иными, более глубокими сферами, нежели сфера науки. И после того, как с исторической сцены поочередно сошли охраняемая церковью вера, ее наследница,
философия Просвещения и, наконец, философия Гегеля (все они играли роль
почвы, в которую уходили корни науки), специализация, которая не регламентируется различными мировоззрениями, уже не может ручаться за то, что исследуемое ученым окажется чем-то бoльшим, чем просто исследуемым, что оно действительно представляет собой что-то существенное или что-то, что имеет
отношение к сути вещей, — короче говоря, не может ручаться за то, что наука ведет к «культуре» в смысле Ортеги, т. е. к интеллектуальному, а вместе с тем
и к практическому овладению миром. Научные методы, которые в последние десятилетия XIX века стали чрезвычайно разнообразными и, вместе с тем, своевольными, способны увести от главного, даже от сути исследуемой проблемы.
Вполне может статься, что историк создаст историческое сочинение, не обладая
при этом цельным, т. е. всеобъемлющим, пониманием истории или даже не будучи в состоянии набросать для других некоторую «историческую картину».
Но мы тут же задаемся вопросом: позволяет ли предложенное Ортегой лечение устранить эти ошибки и удается ли благодаря ему избежать всех этих опасностей? Не ведет ли его оперативное вмешательство скорее к смерти пациента? Он
требует, чтобы университетский профессор не был исследователем или, во всяком случае, не был исследователем в столь значительной степени: «хорошие
исследователи зачастую оказываются плохими учителями», читаем мы у Ортеги
и сталкиваемся при этом с общеизвестной истиной, которую нам нередко приходится слышать. По мнению Ортеги, преподаватель вуза должен обладать талантом учителя и быть мастером синтеза: он должен быть способен смотреть на факты как на единый образ. Он не должен (если говорить об истории) исследовать
историю и не должен обучать своих учеников тому, чем, по мнению Ортеги, им
никогда не придется заниматься, т. е. исследованию истории. Но он должен из
чужих исследований позаимствовать то, что нужно ему самому для того, чтобы
воспитать хорошего учителя истории. Подобные слова мы слышим нередко,
и в них заключены совершенно справедливые требования. Но насколько все это
верно в частностях, настолько же оно ложно в целом[2].
Еще раз смягчим наше возражение согласием. Наука — я думаю, у нас есть
основания именно так понимать Ортегу, соглашаясь с ним в этом, — являет собой рискованное предприятие, которое слишком хрупко и слишком утонченно
для того, чтобы быть втиснутым в рамки учреждения. Наука и учреждение исключают друг друга или, добавим мы тут же, по сути исключают друг друга. Но
университет есть учреждение. Поэтому в университете (здесь мы снова согласимся с Ортегой) помимо прочего, однако не в первую очередь и отнюдь не в силу необходимости, могут проводиться исследования: ведь в средневековом университете (это характерное утверждение мы также находим у Ортеги, и вскоре мы
вынуждены будем к нему вернуться) не проводилось исследований. Все это было
бы верным, если бы наш собеседник не смешивал две вещи, а именно: «исследование» и «науку».

Наука, по сравнению с исследованием, представляет собой нечто большее.
Наука включает в себя исследование. «Исследование» невозможно изолировать
от науки — сколь бы страстно ни стремились к этому в том числе и немецкие сторонники реформы высшей школы. Предприняв еще одно рассуждение, которое,
наконец, должно обосновать нашу собственную позицию, мы распознаем и то
верное, что заключено в атаке Ортеги на университет. Задумаемся на одно мгновение о сущности науки. Ее удастся постичь только в том случае, если мы учтем
все то напряжение, которое заключено в этом понятии. Именно то напряжение,
в котором существуют наука и исследование, столь же велико и столь же объемлюще, что и напряжение, характерное для университета, напряжение, на которое
мы намекали в самом начале. Напряжение, характерное для науки нашего времени, Ортега постиг с гениальной простотой. Он остроумно подметил «экономический принцип», который на протяжении тысячелетий правит наукой и который
только и делает «обучение» нужным и возможным. Познания первобытных добывались легко, и им было несложно скрывать от профанов свои тайные знания
(Ортега верно подметил, что утаивающее охранение различных искусств в правящем кругу гильдии посвященных может быть — точнее говоря, когда-то могло
быть — задачей специалиста), мудрость греков достигалась и передавалась безо
всякого организационного механизма до тех пор, пока эллинистической научной
традиции не потребовалось первое научное учреждение: Александрийская библиотека. «Обучение», а вместе с ним и институционально организованная наука,
возникает по мере того, как изобилие знаний и изощренность методов вынуждают к выбору ограниченную память и внимание человека. Однако наука, помимо
прочего (и здесь уже начинаются наши возражения Ортеге), принадлежит объективным взаимосвязям соответствующей современности. Наука — это не только
исследование, не только свободное открытие нового, но наука, вместе с тем,
представляет собой традицию. Любое открытие базируется на традиции — пускай
даже в форме протеста против нее. Иными словами: исследование нуждается
в школе не только как в получательнице, но и как питательной среде для своих
результатов. Нельзя сказать, что оно в первую очередь является просто исследованием, и только во вторую очередь — школой. Не только школа учится у исследования, но и исследование — у школы. Исследование — это революция, школа — это традиция. Однако то и другое нельзя распределить между различными
людьми, изгнав революционных исследователей из университета и оставив университету лишь поддерживающих традицию учителей. Напротив, университет
воплощает основную, хотя уже не единственную, конституцию науки, заключающую в себе анализ и синтез, революцию и традицию, консерватизм и свободу.
Поэтому университет живет в том напряжении, которое образуется между революцией и традицией. В этом отношении университет лишь отражает душу ученого. Разумеется, я говорю о напряжении, не о гармонии. Возможно ли ощущать
это напряжение иначе, нежели в тех крайностях, в которые впадает наука? Здесь
и мудрость, разорившая Диогена. Здесь и истина, погубившая Сократа. Здесь
и чудачество, заставляющее помощника почтальона брать с собой на работу его
научные записи, сделанные на крошечных клочках бумаги, вложенных в пачку
из-под сигарет. Здесь и знаки отличия, подобающие аристократичности той
истины, которая, как и благочестие, не от мира сего: бедность, мученичество и
чудачество, или, скажем мы более трезво, истина, которая рискует жизнью, даже
если речь идет всего лишь о безопасном, приятном, приемлемом для многих образе жизни. Другая крайность состоит в том, что ориентированный на планирование разум, признающий пользу «интеллекта» для интересов общества, делает
из студента получателя солидных стипендий, государственного пенсионера и отца семейства. И посреди всего этого — многообразие компромиссов истины
с обществом; посреди всего этого — университет: школа, место для проведения
исследований, институт знаний, государственное учреждение, корпорация,
предприятие. По прекрасному выражению Ортеги, ученый — это монах современности, который, отказавшись от целибата, вовлечен в социальные структуры вместе с женой и детьми. Уважение со стороны общества, которое продлевает ему жизнь и предоставляет ему права служащего при том, что он вовсе не
желает быть служащим, он завоевал благодаря различным социально значимым достижениям: благодаря техническим изобретениям и их подготовке,
благодаря непосредственной социальной работе в качестве священника, судьи, врача, учителя или лесовода и, наконец, благодаря преподаванию в самом
университете.
Но теперь мы спрашиваем, почему лекарство, прописанное университету
Ортегой, а именно радикальное разделение науки и культуры, исследования
и обучения, в действительности является ядом, убивающим университет.
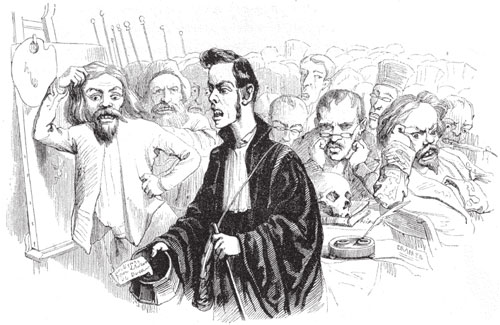
Мы с недоверием относимся к тому представлению о культуре, которым располагает Ортега. Его физико-биолого-историко-социолого-философская картина мира еще далека от культуры. Средневековую культуру, культуру эпохи барокко или времен Гете нельзя заменить или искусственно воссоздать, лишив
университет исследовательской задачи, потому что культуру нельзя попросту
«произвести» или восстановить. И меньше всего это возможно в университете
и посредством университета: университет не в состоянии справиться с этой задачей. Факультет культуры не способен создать ту донаучную и вненаучную культуру, которая как продолжающее оказывать влияние античное наследие, как христианство и церковь, как великое искусство и литература связывала весь
интеллектуальный мир еще столетие назад. В действительности же Ортега намеревался объединить на своем факультете культуры именно науки, и только их.
Конечно, такой просвещенный ум, как Ортега, не может быть заподозрен в «рецидиве средневековья». И все же и в его идее факультета культуры присутствует
нечто от чрезмерно высокой оценки средневекового университета (а к тому же
типу мы смело можем причислить также реформаторский, иезуитский, православный и пиетистский университеты), жертвой которой постоянно становятся
критики современного немецкого университета, существующего с тех пор, как
был основан университет в Геттингене. Конечно, прежний «Magister artium»
обладал «завершенной» картиной мира, которая, как правило, была довольно скудной. Мало кто изучал что-либо сверх пределов тривиума[3]. Это утверждение
не способен поколебать и факт прилежного изучения аристотелевского «Органона», поскольку пресловутое единство древнего мировоззрения оплачивалось тем,
что представление о природе составлялось на основе сочинений Аристотеля, изучавшихся лишь в форме компендиума. Продукты подобного образования путешествуют на кораблях дураков в творениях всемирной литературы. Несмотря
на то что мы склонны высоко оценивать публичные лекции в средневековом
университете, едва ли у нас хватит воображения, чтобы представить себе все то
уныние, которое наводила на студентов практикуемая в бурсах зубрежка. Средневековая бурса — это предостережение всем нам. Повсюду, где исследование
и обучение разъединяются, возобновляется режим обучения, свойственный старинной бурсе. Когда в университетах ГДР новички, так называемые аспиранты,
и молодые доценты в ущерб своему собственному развитию обременяются
«обзорными лекциями», тогда вновь оживают ужасы старой бурсы: скука — синоним такого обзора.
Из этого следует, что факультет культуры был бы не чем иным, как организованной поверхностностью, поскольку его члены были бы преподавателями, которые освоили свои науки и их преподают, но не занимаются ими и не двигают
их вперед.

Несмотря на это, я не отстаиваю связь исследования и обучения в той форме,
в которой она сегодня не может быть реализована, и, следовательно, не отстаиваю ее в смысле лозунга. Я особо подчеркиваю, что наряду с университетом
должны существовать институты, занимающиеся только исследованием, такие,
как, например, институты Общества Макса Планка или, в области истории,
Monumenta Germaniae Historica. Преподавание в университете также требует новой, более тонкой организации, хотя это продиктовано не принципиальными,
а скорее практическими соображениями. Затруднение, с которым необходимо
справиться, состоит в том, что университет, с одной стороны, должен ориентироваться на средний уровень[4] своих посетителей, а с другой стороны, по-прежнему
оставаться привлекательным для небольшого числа интересующихся наукой студентов. При этом обе эти задачи необходимо каким-то образом совместить.
По всей видимости, над стандартным обучением будет надстроен (здесь не место
говорить, каким именно образом) более высокий уровень более основательного
введения в исследование, уровень, на котором основная масса студентов уже не
будет учиться. Благодаря этому, возможно, удастся оказать некоторое противодействие девальвации докторской степени. В то же время это позволит справиться с переполненностью университета и избежать ее. Это, вместе с тем, означает,
что реформа высшей школы связана с увеличением числа преподающих. Правящие круги, министерства, сами высшие учебные заведения занимаются этой проблемой самым серьезным образом. Она включает в себя проблему нештатных
преподавателей, а именно вопрос, каким образом доценты, которые не занимают
или пока не занимают штатных должностей, могут быть привлечены к преподаванию без ущерба их научного развития и каким образом обеспечить их жалованьем и социальными гарантиями в соответствии с разделяемой ими ответственностью, избежав нездорового стремления зачислить всех в штат. Ассистенты
также содействуют обучению, воодушевляя и наставляя новичков, а также облегчая студентам доступ к профессорам. И тем не менее следует неизменно избегать
разделения обучения и исследования. Когда экспертная комиссия по вопросам
реформирования высшей школы в своем заключении, представленном в 1948 году[5], в числе прочих мер рекомендовала ввести новую должность штудиен-доцента для лиц, обладающих не столько способностями к исследовательской деятельности, сколько педагогическими навыками, то следствием этого оказалась
полная дискредитация первоначально благого намерения. Если современный
студент нуждается в руководстве и педагогическом содействии в большей степени, нежели студент прежних поколений, — на которые, впрочем, он мог рассчитывать только после преодоления послевоенных трудностей, — то это руководство никогда не вправе посягать на академическую свободу и способно быть лишь
наставлением: наставлением в вопросах исследования, которое студент получает от молодого исследователя. Часто упоминаемый в этой связи тьютор двух старых
английских университетов и является подобным наставником в вопросах науки.
Это хороший пример в том, что касается присмотра за студентом и внимательного отношению к тому, что тот читает. Конечно, мы должны принимать во внимание различные национальные традиции, однако нам следует учесть, что английский студент, как правило, поступает в университет в более раннем возрасте, чем
немецкий. Мы обращаемся со студентом в принципе как со взрослым человеком,
хотя это и фикция. Но мы стараемся ее придерживаться, поскольку она ведет
к свободе и ответственности.
Таким образом, сегодня мы обосновываем единство исследования и обучения
в университете при помощи следующих рассуждений.
Все то, что было попросту выучено, — скучно. Одна только рецепция и заучивание того, что другие исследовали, в конце концов и есть та некультурность и то
варварство, в которых Ортега обвиняет университет. Мы бы не отважились высказать эти тезисы, если бы мы не верили в то, что исследование и обучение
в университете могут быть связаны весьма тонким и поистине простым образом — или, как нам следует теперь сказать, вновь могут быть связаны. Ибо то обстоятельство, что единство исследования и обучения не только находится под угрозой, но сама необходимость такого соединения подвергается сомнению,
требует незамедлительной реакции. В этом отношении сочинение Ортеги — подлинно знамение нашего времени.
Обратимся к примеру с историей. В высшей степени скрупулезное исследование, посвященное отдельному предмету, отнюдь не противоречит стремлению
к всеобъемлющей научной картине мира, т. е. пониманию «исторического развития человечества». Напротив, исследовательский анализ и синтез изложения обусловливают друг друга. Посвященное отдельному предмету исследование будет
плодотворным лишь в том случае, если широкий взгляд на историю раскроет
полноту параллелей, аналогий и противоречий и сделает ум более чутким к тому,
что возможно с исторической точки зрения. Но и обратное остается столь же верным. Нет и речи о том, чтобы отдельный историк смог при помощи исследования проникнуть в глубь всемирной истории. Если историк стремится к тому, что
по праву требует Ортега, если он, таким образом, неустанно стремится достичь
целостного понимания исторического развития человечества, он будет в значительной мере вести себя как дилетант: принимая и передавая какие-то сведения
дальше. Однако здесь есть существенная разница. Кто однажды в своих изысканиях — пусть и в крайне ограниченном объеме — сам дошел до критики первоисточников, тот при исследовании других исторических объектов со спокойной совестью игнорирует их изучение. Кто изучил корпус средневековых источников, у
того есть чувство, что он в принципе способен перепроверить также все то, что
он — так как его силы не безграничны — поначалу был вынужден заимствовать
из научной конвенции: мир фактов расколдовывается. Потом, и только потом,
историк может погрузиться в неспешное чтение «своего Плутарха». Такое исследование в университете должно занимать весьма скромное место, и даже тот, кто
указывает исследователю его высшие цели, должен оценивать его возможности
куда сдержаннее, чем это делает наш собеседник. Однако непрекращающиеся сетования на то, что выдающийся исследователь зачастую оказывается скверным
учителем, на деле — лишь пустословие. Эти сетования основываются на представлении, согласно которому в университете «обучают» в прямом смысле этого слова. Разумеется, обучение также имеет там место, обучением занимаются преподаватели. Наставления профессора отличаются от подлинного обучения, поскольку последнее относится, прежде всего, к прошлому науки. Тот, кто уже
давно преподает в университете, постоянно убеждается на опыте в том (и это находит свое подтверждение при чтении мемуаров), что в памяти запечатлеваются
не учителя, а ученые, и это поистине счастливый случай, если доцент сочетает
в себе оба этих качества[6]. В завершение позволим себе еще одно замечание. Ортега требует безжалостного сокращения изучаемого в университете материала. Это,
конечно же, необходимо, и избыток преподаваемого материала, вне всяких сомнений, составляет часть вины сегодняшнего университета. Однако и здесь необходимо учесть специфику немецкого университета, если мы хотим сбалансировать оба основополагающих фактора, а именно свободу преподавания и свободу
учебы. Избыток специальностей и специализированных знаний становится мукой, если перенасыщенные материалом экзамены и нетерпимые к свободе интересы данной специальности приковывают студента к специализированной науке. В этом — подлинная угроза для университета и подлинная его вина. Если
университет намерен выполнить свою задачу, он должен предложить студенту
весь спектр возможностей, однако он не должен, подобно государственным контролирующим органам, требовать слишком многого. Никто не может помешать
людям учиться парадигматически, т. е. на примерах. Необходимо иметь мужество для того, чтобы примириться с существованием пробелов в знаниях, и необходимо принимать во внимание тезис: «Mundus in gutta» («Капля таит в себе мир»)[7].
Кто усомнится в том, что история — останемся при нашем примере — при определенных условиях познается лучше из интерпретации найденных монет, чем
в столь еще модной всемирной истории, чем в синтезах, слегка покрывшихся
пылью.
Таким образом, мне кажется, что критической атакой Ортеги затрагивается
особая академическая свобода, составляющая сущность немецкого университета. Эта свобода — цель любой истинной реформы университета. Реформа университета, в конце концов, является борьбой с враждебным свободе производством, и я думаю, что иные предложения по реформированию высшей школы,
даже если они функционально оправданы, в том случае оказываются неудачными, если они посягают на свободу вместо того, чтобы ей содействовать. Многие
тяготеют к системе культуры, отстаиваемой Ортегой, и вот уже существуют обязательные свидетельства о посещение курса лекций по философии, социологии
и гражданскому воспитанию. Это попытка побороть дьявола с помощью Вельзевула. На экзамене должны демонстрироваться знания, а не справки. Бюрократическая система экзаменов, в которой повинны и профессора, искажает подлинные и свободные отношения между учителями и учениками. Мне хорошо
известно, что свобода — дорогое удовольствие, поэтому многие сегодняшние студенты предпочитают свободе уверенность. Ибо свобода чревата потерями. Она
ведет окольными путями и требует многих лет жизни, она пренебрегает расчетами и в этом отношении и в самом деле представляет собой нечто старомодное.
Однако университет по-настоящему реформируется лишь тогда, когда он вновь
и вновь возвращается к древнему закону свободы, который всякий раз заново
подтверждается самой жизнью. В этом отношении реформа высшей школы представляет собой не некую акцию, которая удается или не удается, а постоянный
процесс, неусыпную заботу о старом благе, сравнимую с лесами, при помощи которых средневековые соборы одновременно изменялись и оберегались. Мы не
можем создать культуру, изобретая новую схоластику факультета культуры. То,
что из этого получается, можно видеть в учебных программах университетов ГДР.
Результаты этого, к сожалению, находят свое отражение и в некоторых положениях о проведении экзаменов и учебных планах, а также в тех неписаных несвободах, которые связаны с принадлежностью к определенному семинару.
Свобода — это подлинный долг и истинная задача университета.
[*] Hermann Heimpel. Schuld und Aufgabe der Universitat. Musterschmidt verlag. Gottingen, Berlin,
Frankfurt. April 1954.
Copyright 1954: Musterschmidt Verlag. Gottingen. Berlin. Frankfurt.
Перевод с немецкого Ильи Инишева.
[1] Под таким названием (Schuld und Schuldigkeit der Universitat. Munchen, R. Oldenbourg 1952,
83 S.) был опубликован немецкий перевод книги Хосе Ортега-и-Гассета «Миссия
университета» (Mision de la universidad, Madrid, Revista de occidente, 1930).
[2] Если продолжить анализ на том же примере с преподавателем истории, то развивающейся
в университете исторической науке придется довольствоваться его научной подготовкой,
безо всякой надежды на его «создание». Преподаватели истории — взрослые люди,
и историческая наука в отношении них не может предпринять ничего другого, как только
оставаться с ними в контакте. Как далеко можно продвинуться на этом пути, не отказываясь
при этом от университетских исторических исследований, показывает превосходная теория
преподавания истории Эриха Венигера. См.: Erich Weniger. Neue Wege im
Geschichtsunterricht. 1949, а также журнал „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“,
издаваемый К. Эрдманом (K. Erdmann) и Ф. Мессершмидом (F. Messerschmid) c 1950 года.
[3] Реалистичное изображение средневекового университета см.: G. Ritter. Die Heidelberger
Universitat 1 (1936).
[4] Пусть будет полностью исключено предположение, будто я понимаю «средний уровень»
как то, что отделено от элиты, отождествляемой с будущими профессорами. Школа
и практика в принципе не могут стать достаточно «элитарными».
[5] Gutachten zur Hochschulreform.Vom Studienausschu. fur Hochschul-reform 1948 (Экспертное
заключение по реформе высшей школы. От учебной комиссии по реформе высшей
школы 1948 года). Что касается личных отношений между профессорами и студентами,
сегодня они, несомненно, страдают от избытка вузов и от перегрузки профессоров;
необходимо преодолеть также некоторую — обоюдную — робость. Однако не следует эти
обстоятельства драматизировать и схематизировать. Дистанция тоже обладает педагогической
ценностью. Прочтите в мемуарах нашего федерального президента (Vorspiele des Lebens, 1953)
о том, сколь недоступны были такие люди, как Густав Шмоллер и Адольф Вагнер, а позднее
также и Онкен. То, что Хойс (Heuss) рассказывает о своей докторской работе, которую он
писал у Луйо Брентано, свидетельствует все о том же дефиците руководства; и в архивах
докторант работал также безо всякой подготовки, которую он бы мог получить, например,
посещая семинар по истории. В этом отношении современное положение дел не ухудшилось,
а, напротив, улучшилось. В мои собственные студенческие годы, после Первой мировой
войны, мне бы никогда не пришло в голову обратиться со своими вопросами к таким
профессорам, как Грауерт, Онкен или Карл Фосслер.
[6] Необходимость встречи с исследованием, без того, чтобы самому на всю жизнь становиться
исследователем, благородно, сдержанно и точно выразил один учитель преклонного возраста
в своем письме, адресованном автору этого доклада: «Я ощутил как нечто поистине ценное
то, что наше обучение не уподоблялось дрессировке, как это случается в техникумах,
но мы получили возможность ознакомиться с научным исследованием. Хотя я никогда не
помышлял об академической карьере и, возможно, будучи молодым учителем, порой говорил
со своими учениками на чрезмерно научном языке, тем не менее это беглое знакомство
с исследовательской работой кажется мне лучшим из того, с чем я столкнулся во времена
своей учебы».
[7] Я могу сослаться на свою статью „Selbstkritik der Universitat“
(Deutsche Universitatszeitung 5, 1951).
