Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Советский голод и украинский голодомор
Возможна ли новая трактовка этих событий*[1]
и какие выводы она позволяет сделать?
«Рано или поздно советский народ посадит вас
на скамью подсудимых как предателя
социализма и революции, главного вредителя,
подлинного врага народа, организатора голода...»[2]
Письмо бывшего советского посла в Болгарии
Ф. Раскольникова Сталину
от 17 августа 1939 года
1. Открытие
С конца 1932 до лета 1933 года голод в Советском Союзе унес в семь раз больше жизней, чем Большой Террор 1937—1938 годов, хотя длительность его была в два с лишним раза короче. Начиная с 1931 года голод в Советском Союзе случался неоднократно, однако именно эти несколько месяцев оказались самым страшным испытанием и самым значительным явлением довоенной советской истории. Результатом голода 1932—1933 годов стала гибель пяти миллионов человек (в это число не входят те сотни тысяч, а возможно, целый миллион жертв, что погибли в Казахстане и в других регионах Советского Союза начиная с 1931 года); ни до войны (в 1921—1922 годах), ни после (в 1946—1947-м) количество погибших не было так велико (оно не превышало двух миллионов); политические, психологические и демографические последствия голода 1932—1933 годов сказываются на постсоветском пространстве и по сей день. Кроме того, он существенно повлиял на жизнь тех стран, где живут общины иммигрантов, покинувших российскую империю и Советский Союз; историческое и политическое значение этой трагедии по-прежнему очень велико. Так, на Украине начиная с 1987—1988 годов новое открытие и истолкование событий 1932—1933 годов оказало решающее воздействие на размежевание между сторонниками демократизации и поклонниками старых порядков. «Голодомор» (новый термин, изобретенный для обозначения намеренного массового уничтожения людей с помощью голода)[3] оказался в центре политической и культурной жизни, стал предметом обсуждения и крауегольным камнем в процессе построения нового государства и создания новой национальной идентичности. В мае 2003 года украинский парламент официально провозгласил голод 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.
Тем не менее до 1986 года, когда Роберт Конквест опубликовал свою книгу «Скорбная жатва»[4], историки практически игнорировали это событие чрезвычайной важности. И дело не в отсутствии информации, поскольку, как я убедился, знакомясь с донесениями итальянских дипломатов эпохи Муссолини, сведения о голоде вовсе не были тайной для Запада. ХХ век стал эпохой, когда огромные массы людей меняли место жительства вследствие насильственных или спровоцированных миграций, переселений и проч.; события эти оставили след в дипломатических донесениях, путевых заметках, воспоминаниях свидетелей и жертв; так что говоривших было немало, вопрос лишь в том, что должны были найтись люди, способные услышать[5].
Учитывая все это, нельзя не поразиться тому, как мало до середины 1980-х годов знали о голоде и как мало интереса к этим событиям проявляли[6]. В лучшем случае историки — например, Наум Ясный и Алек Ноув — упоминали искусственно организованный голод (впрочем, говоря о нем так, как если бы везде в СССР он носил один и тот же характер), но не исследовали его сколько-нибудь подробно и пренебрегали национальным аспектом проблемы (голодом как фактом истории украинского, казахского и прочих народов). Несколькими годами позже Мойше Левин реконструировал механизмы, с помощью которых голод был организован, но сам голод подробно изучать не стал[7]. Все это, повторяю, в лучшем случае, а в худшем голод становился предметом достойных сожаления, чтобы не сказать позорных, споров, в ходе которого его масштабы преуменьшались, а порой даже отрицалась сама реальность этого события. В Советском Союзе, где даже после 1956 года историкам было позволено вести речь разве что о «продовольственных трудностях», само употребление слова «голод» применительно к событиям тех лет было запрещено. На Украине это слово впервые прозвучало официально в речи первого секретаря украинской коммунистической партии Щербицкого во время празднования 70-летия республики в декабре 1987 года[8].

Вот почему совместный проект Гарвардского Института украинских исследований, Ричарда Конквеста и Джеймса Мейса[9], плодом которого и стала книга Конквеста, имел исключительно важное значение: Конквест заставил историков посмотреть наконец правде в глаза и задуматься о серьезнейшей проблеме, причем подчеркнул связь между голодом и национальным вопросом, а также указал — совершенно справедливо — на необходимость рассматривать голод в Казахстане отдельно от голода на Украине. Поэтому позволительно утверждать, что историография голодных лет вообще и «голодомора» в частности начинается именно с его книги (хотя такие авторы, как Максудов или Жорес Медведев, серьезно изучали этот вопрос еще до Конквеста[10]). Это становится особенно ясно, если вспомнить споры, разгоревшиеся вокруг работы Конквеста; споры эти были ожесточенными, но уровень дискуссии оказался гораздо более высоким, чем прежде, а главное, обсуждение «голода» помогло историкам осознать чрезвычайный масштаб этих событий. Процесс этот был и, возможно, остается весьма болезненным, потому что «коллективная память» об этой эпохе сформировалась в то время, когда вспоминать о голоде было запрещено, и пересмотр сложившихся суждений дается очень нелегко. Советская система последовательно скрывала от граждан факты прошлого, да и для всего европейского ХХ века, на мой взгляд, характерно стремление к «сглаживанию шероховатостей» истории, приводившее к массовой слепоте. Поэтому задача историков заключалась и до сих пор заключается в том, чтобы включить сведения о советском голоде в наши представления о прошлом, а для этого необходимо, как это ни тяжело, отказаться от образов и представлений, которые распространены очень широко, но от этого не становятся более достоверными.
2. Попытка новой интерпретации
Архивная и историографическая революция 1991 года позволила очень быстро накопить новые знания и перевести дискуссию на качественно новую ступень, так что отныне обсуждение голода, за вычетом нескольких прискорбных исключений, носило уже серьезный научный характер. В обоих лагерях, на которые — разумеется, достаточно схематично и условно — можно разделить историков, изучающих историю голода, трудятся люди, одушевляемые настоящим исследовательским духом и сознающие глубину трагедии, которую они пытаются постичь. За последнее десятилетие историки усвоили и отчасти углубили выводы Конквеста, и это дает основание оценивать развитие исторической науки оптимистически.
Что же касается тех двух лагерей, которые я только что упомянул, то, опираясь на письмо, полученное мною от талантливого молодого украинского историка Валерия Васильева, я бы определил их позиции следующим образом: одни историки — назовем их историками категории А — называют голод 1932—1933 годов геноцидом и считают, что он был устроен искусственно с целью а) сломать хребет крестьянству и/или б) подточить или даже вовсе уничтожить жизнеспособность украинской нации, мешавшей превращению Советского Союза в деспотическую империю. Другие историки — назовем их историками категории Б — соглашаются с тем, что сталинская политика была преступна, но настаивают на необходимости изучать голод как «сложное явление» и не забывать о том, что на намерения и решения Москвы повлиял целый ряд факторов, включая геополитическую ситуацию и стремление к модернизации экономики[11].
На мой взгляд, сегодня мы обладаем запасом сведений, позволяющим предложить новую, более удовлетворительную интерпретативную гипотезу, которая учитывала бы и общесоветский контекст, и значение национального вопроса[12]. Ее можно построить на основе превосходных работ, опубликованных в последние годы украинскими, русскими и западными историками, и тем самым разрушить ту стену, которая до сих пор в той или иной степени разделяет этих исследователей.
Я попытаюсь очертить контуры этой новой интерпретации, используя разыскания таких именитых историков, как Данилов, Д'Анн Пеннер и Кондрашин, Девис и Уайткрофт, Ивницкий, Кульчицкий, Мейс, Мартин, Меле и Валлен, Ша-повал, Васильев[13], а также Олег Хлевнюк, чьи работы о Сталине, хотя и не посвящены непосредственно голоду, дают превосходное представление о том политическом контексте, в каком разворачивались события 1932—1933 годов на Украине[14].
Надеюсь, что моя гипотеза поможет не только лучше понять сам феномен «Великого голода» (общее название всех эпизодов 1931—1933 годов, связанных с массовым голодом), но и вызовет дискуссию, благодаря которой рухнет та по-прежнему высокая и прочная стена, которая до сих пор отделяет исследователей голода от историков европейского ХХ столетия — столетия, которое просто невозможно ни понять, ни оценить, если не признать голод на Украине неотъемлемой частью его истории.
Прежде чем сформулировать эту гипотезу, необходимо точнее определить предмет разговора. По-видимому, сейчас уже очевидно, что применительно к советской истории правильнее говорить не о голоде, а о разных случаях голода в 1931—1933 годах; эти случаи имели, разумеется, общие причины и схожий контекст, однако две самых страшных трагедии имеют очень много существенных различий: голод в Казахстане и обусловленные им эпидемии 1931—1933 годов — явление иной природы, нежели голодомор на Украине и на Кубани (в Северо-Кавказском крае, входившем в состав РСФСР, но в ту пору населенном преимущественно украинцами), длившийся с конца 1932 до начала 1933 года.
Многие ошибки в интерпретациях, допущенные в прошедшие годы, объясняются именно неразличением этих двух национальных трагедий и более общего контекста, в котором они разворачивались. Поясняю свою мысль примером: это все равно как если бы историки нацизма не отличали нацистские репрессии в целом от отдельных очень страшных преступлений, таких как истребление советских военнопленных или массовое уничтожение поляков и цыган, не говоря уже о холокосте — явлении исключительном, которое не может рассматриваться просто как одно из многочисленных нацистских зверств, хотя, разумеется, принадлежит к их числу. В общем, поскольку имели место как нацистские репрессии в целом, так и эти отдельные, «специфические» трагедии, следует, как это обычно и делается, принимать в расчет оба эти уровня, изучать как отдельные явления сами по себе, так и их взаимосвязь и место в общей системе.
Сходным образом и в интересующем нас случае полезно провести четкое различие между феноменом в целом и его конкретными проявлениями в разных республиках и регионах. Однако на практике большая часть историков, принадлежащих к категории А, ограничивается изучением голодомора, тогда как многочисленные представители категории Б исследуют исключительно ситуацию в масштабе всего Советского Союза. Если мы в самом деле проведем четкое различие между общей ситуацией и отдельными случаями, то увидим, что большинство исследователей — хотя, разумеется, и не все — правы, но каждый применительно к своему объекту.
Следующий шаг, который необходимо сделать, — провести еще одно разграничение, а именно отделить «стихийный» голод 1931—1932 года (стихийный в кавычках, потому что голод этот, хотя был неожиданным и незапрограммированным, безусловно явился следствием политических мер 1928—1929 годов) от того голода, который наступил после сентября 1932 года и который был результатом вполне сознательных человеческих решений (события в Казахстане развивались в основном по иному сценарию, и я буду касаться их мимоходом, только при крайней необходимости, а читателей отсылаю к недавним работам, в которых эта тема освещена, на мой взгляд, вполне удовлетворительно)[15].
Наконец, третий шаг, который нужно сделать, заключается в том, чтобы принять самые убедительные тезисы гипотез А и Б, а неудовлетворительные их элементы отбросить.
Например, исследования, принадлежащие к категории А, справедливо привлекают наше внимание к важности национального вопроса. Всякий, кто изучает историю Советского Союза, должен осознавать значение этого вопроса, как осознавали его и Ленин, и Сталин (не случайно первый решил не называть новое государство Россией, а второй, хотя вначале оспаривал это решение, тем не менее не стал впоследствии его пересматривать). Следует также осознать, что острее всего национальные проблемы ощущались именно на Украине. Не раз было совершенно справедливо замечено, что после 1917 года Украина играла в Советском Союзе ту роль, какая в царской империи отводилась Польше: в конце 1919 года Ленин наметил поворот к политике коренизации[16], которая прежде считалась частью более радикальных националистических теорий; поворот этот явился следствием размышлений Ленина о причинах поражения большевиков на Украине весной и летом 1919 года[17]; что же касается Сталина, то он придал коренизации новое направление в конце 1932 года именно в связи с украинским кризисом. Но на Украине, по крайней мере до 1933 года, национальный вопрос был вопросом крестьянским, и это осознавали и Ленин, и Сталин.
Однако по причинам, которые станут яснее чуть позже, сторонники гипотезы А ошибаются, когда утверждают, что «голод», включая голод в масштабе всего Советского Союза, был организован («спланирован») еще до осени 1932 года ради того, чтобы решить украинскую национальную и/или крестьянскую проблему.
Со своей стороны, исследователи категории Б предлагают очень ценную и подробную реконструкцию общего контекста и указывают причины возникновения голода в масштабе всей страны; они избегают упрощений и способны убедительно опровергнуть гипотезу А, во всяком случае, ее самые примитивные варианты. Но зато они, сколько можно судить, не способны оценить важность национального фактора и уделить ему внимание в своих исследованиях, иначе говоря, не способны «спуститься» с уровня Союза на уровень отдельных республик. Кроме того, эти историки, по-видимому, не вполне осознают, что Сталин, даже если он не был организатором каких-то событий, всегда был готов воспользоваться явлениями «стихийными», придать им новое направление и поставить их себе на службу. Самый наглядный пример — убийство Кирова: может быть, Сталин его и не организовал, но зато бесспорно, что он сумел извлечь из него выгоду самым «творческим» образом.

Таким образом, можно опираться на серьезные исследования категории Б, посвященные развитию кризиса в СССР, но при этом иметь в виду, что и на уровне всего Союза Сталин в определенный момент решил использовать голод для того, чтобы сломить сопротивление крестьян коллективизации. По целому ряду причин сопротивление это вообще было более упорным в нерусских регионах, где события очень скоро начали развиваться по несхожим сценариям. Реконструируя эти сценарии, можно прорвать ту завесу таинственности, которая с самого начала окутывала события 1932—1933 годов, хотя для большевистской элиты — о чем свидетельствует письмо Раскольникова — они никакой тайны не составляли.
3. Украинская специфика и использование голода в политических целях
Итак, что нам известно? В 1931—1933 годах сотни тысяч человек умерли от голода на всей территории Советского Союза. Однако в некоторых его областях, а именно в Казахстане и на Украине, на Северном Кавказе и в Нижнем и Среднем Поволжье положение было несравненно более тяжелым. Все эти районы, за исключением Казахстана, принадлежали к числу самых значительных производителей зерна (в этом отношении с ними могла сравниться только Западная Сибирь), и в них — начиная с 1927 года — особенно обострился конфликт между государством и крестьянством относительно урожая. Кроме того, начиная еще с 1918—1919 годов, противоречия между властью и крестьянами (или кочевниками) приняли особенно резкий характер под влиянием национального и/или религиозного фактора (в Средне-Волжском и Нижне-Волжском крае, напротив, огромную роль играло не только присутствие многочисленных немецких колонистов, но и бунтарские традиции русского крестьянства, находившегося под сильнейшим воздействием эсеров).
Причины голода повсюду (опять-таки за исключением Казахстана) были сходными: губительное воздействие — ив человеческом, и в производственном плане — раскулачивания, которое превратилось в настоящий разгром крестьянской элиты государством; насильственная коллективизация, заставившая крестьян уничтожить большую часть их имущества[18]; плохая организация и нищета колхозов; безжалостные и непрекращающиеся реквизиции, связанные с неудачами индустриализации, стихийной урбанизацией и ростом внешнего долга, остановить который можно было только с помощью экспорта сырья; сопротивление крестьян, которые не желали мириться с тем, что очень скоро получило у них название «нового крепостного права», и работали все меньше и меньше, отчасти из-за неприятия новой власти, а отчасти из-за физического истощения, вызванного недоеданием; плохие погодные условия 1932 года. Голод, в 1931 году свирепствовавший только в некоторых районах (впрочем, в Казахстане гибель кочевников уже и тогда носила массовый характер), а весной 1932 года распространившийся на более обширные территории, стал, таким образом, непредвиденным, незапрограммированным следствием марксистской политики, на которую большевики сделали ставку в своей борьбе с частными производителями. Конечно, зная о том, к чему привел военный коммунизм 1920—1921 годов (многие принципы которого были вновь взяты на вооружение в 1928—1929 годах), нетрудно было предвидеть то, что произошло в 1931—1933 годах. Но если изучать происхождение и распространение голода до осени 1932 года и в масштабах всего Советского Союза, как это, например, сделали в недавней работе Роберт Дэвис и Стефен Уайткрофт[19], очень трудно, как мне кажется, прийти к выводу, что голод явился ожидаемым результатом этой политики, а между тем именно так считают некоторые из тех, кто утверждает, будто «великий голод» был устроен намеренно, чтобы сломить крестьянское сопротивление и осуществить геноцид украинского народа, задуманный Москвой или даже (что уж совсем несправедливо) «русскими».
Между тем интенсивность, быстрота распространения и последствия голода, о которых мы можем судить по новонайденным документам и недавним исследованиям, вне всякого сомнения были различны в разных регионах и республиках, и различия эти очень значительны. Из пяти—шести миллионов жертв 1932—1933 годов (сегодня демографы приходят к выводу, что часть тех смертей, которые раньше относили к этому периоду, произошли раньше, в 1930—1931 годах) от 3,5 до 3,8 млн умерли на Украине; от 1,3 до 1,5 млн — в Казахстане (где смертность была особенно велика: здесь погибло от 33 до 38% казахов и от 8 до 9% представителей остальных национальностей); наконец, несколько сотен тысяч умерли на Северном Кавказе и, частично, в Среднем и Нижнем Поволжье, где наибольшее число смертей пришлось на территорию Немецкой автономной республики (ликвидированной в 1941 году)[20].
Если в 1926 году на селе из тысячи человек умерло в среднем сто, то в 1933 году этот показатель подскочил до 188,1 в масштабе всей страны. Однако если в этом самом году в Российской Федерации (куда в то время входил и Казахстан, и Северный Кавказ) он равнялся 138,2, то на Украине составлял — 367,7, т. е. почти втрое больше. Что касается средней продолжительности жизни на Украине, то если в 1926 году она составляла 42,9 лет для мужчин и 46,3 для женщин, то в 1933 году она упала соответственно до 7,3 и 10,9. Даже в страшном 1941 году она была больше, чем в 1933 году: 13,6 лет для мужчин и 36,3 для женщин. Наконец, следует сказать и о рождаемости на той же Украине: если в 1926—1929-м за год в среднем рождалось 1 153 000 человек, то в 1932 году рождаемость снизилась до 782 000, а в 1933 году упала еще ниже, до 470 000[21].
Эти отклонения свидетельствуют о том, что голод в разных регионах имел разный масштаб, и причиной этого были политические решения, принятые в Москве, где с осени 1932 года решили придать голоду в определенных республиках и регионах «плановый» характер (решение, которое современные историки иногда ошибочно считают принятым еще до 1932 года).
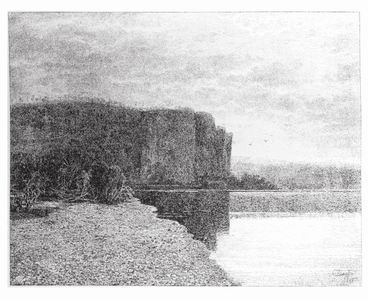
Весной 1932 года на Украине, как и во многих других регионах страны, местные функционеры, сельские учителя и руководители республики отмечали распространение голода и начало массового исхода из деревень[22]. Под давлением украинской компартии, которая требовала снижения плана хлебозаготовок, Сталин признал в начале июня, что, по крайней мере в тех районах, где положение сделалось особенно тяжелым, планы следует уменьшить, хотя бы из «чувства справедливости». Тем не менее планы были снижены очень незначительно и далеко не везде, поскольку, как очень скоро официально заявил Молотов, планы по хлебозаготовкам, тем более в основных зернопроизводящих районах, должны быть выполнены во что бы то ни стало, даже невзирая на угрозу голода[23], — заявление вполне закономерное, поскольку власти стремились избежать повторения весенних забастовок и волнений в городах; кроме того, как раз в конце 1932 — начале 1933 года истекал срок немецких кредитов и хлеб требовался для того, чтобы выплатить долги Германии.
Тем не менее в том же июне 1932 года, на много лет «опередив» украинских националистов, Сталин начал разрабатывать «национальную интерпретацию» голода[24]. Поначалу Сталин просто обрушивался в частных разговорах на руководителей Украинской республики, обвиняя их в недостаточной твердости и неумении настоять на своем. Но спустя несколько недель ситуация изменилась: в июле—августе, после того как украинские коммунисты собрались на партийную конференцию и позволили себе скрытую полемику с Москвой, а агенты ОГПУ в своих донесениях обвинили их в потворстве национализму, Сталин предложил оценивать создавшееся положение и его причины по-новому[25].
Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что именно при обсуждении этого вопроса между членами Политбюро возникли разногласия, какие потом уже не возникали ни разу вплоть до самой смерти Сталина. На заседании 2 августа 1932 года кто-то — возможно Петровский, в ту пору председатель Всеукраинского ЦИКа, — подверг критике написанный лично Сталиным (который не присутствовал на заседании, поскольку был в отпуске) набросок документа, который впоследствии стал печально знаменитым законом от 7 августа «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной (социалистической) собственности»[26]. Сразу после этого, 11 августа, несмотря на недавнее подписание советско-польского договора о ненападении[27], в чрезвычайно существенном для понимания всей этой ситуации письме к Кагановичу Сталин заявил, что Украина представляет отныне «самое главное» (курсив Сталина), что партийные и государственные органы и даже органы местного ОГПУ кишат националистами и польскими шпионами, так что Советский Союз в любой момент может «Украину потерять», между тем как насущная задача состоит, напротив, в превращении ее в «настоящую крепость СССР»[28].
Впоследствии этот подход, впервые примененный к Украине, был распространен также на казаков, которые еще с 1919 года, когда к ним были применены методы «расказачивания»[29], считались врагами советской власти, на немцев Поволжья и — впрочем, в несколько более мягкой форме — на белорусов. Таким образом, кризис побудил Сталина прибегнуть к созданной в прежние годы (когда производилось раскулачивание) модели превентивных репрессий против определенной группы населения, т. е. репрессий коллективных, и применить эту модель к многочисленным национальным и соционациональным группам, которые, по его мнению, представляли угрозу для режима. Впрочем, как показали дальнейшие события, главным предметом его тревог оставались по-прежнему Украина и украинцы.
После того как — вполне предсказуемым образом — в районах, традиционно считавшихся главными поставщиками зерна, планы хлебозаготовок оказались невыполненными, Молотов, Каганович и Постышев были отправлены соответственно на Украину, на Северный Кавказ и в Поволжье, чтобы поправить положение. Таким образом, решение использовать голод, искусственно расширив зону его распространения, для того чтобы наказать крестьян, сопротивляющихся «новому крепостному праву»[30], было принято осенью, в тот момент, когда кризис, вызванный выполнением первого пятилетнего плана, стал особенно острым и когда покончила с собой жена Сталина. Схема наказания ослушников была проста почти как павловские условные рефлексы; в сущности, она была довольно близка к старым социалистским клише, обретавшим в этом случае совершенно новое звучание: кто не работает, т. е. не принимает колхозную систему, тот не ест. Сталин обрисовал свой метод в ходе знаменитой переписки, которую он вел в 1933 году с Шолоховым. Славные донские хлеборобы, чью участь оплакивал знаменитый писатель, объявили тайную войну советской власти, и в этой войне — утверждал Сталин в полном противоречии с реальностью — они использовали в качестве оружия голод; теперь они пожинают плоды своих собственных поступков, т. е., по логике Сталина, в голоде виноваты прежде всего они сами[31].
Вплоть до весны 1933 года Москва отказывалась помогать большей части областей, наиболее затронутых голодом (даже донские крестьяне получили помощь только в мае). Между тем как нарком иностранных дел Литвинов официально отрицал в общении с дипломатами и иностранными журналистами сам факт голода, государство «ударно боролось» (формулировка Кагановича) за выполнение плана хлебозаготовок в голодных областях.
Там, где «крестьянский вопрос» осложнялся вопросом национальным, делая его еще более острым и, следовательно, еще более опасным (напомним, что Сталин в своих работах о национализме подчеркивал взаимосвязь между этими двумя вопросами и что он видел доказательство этих своих идей в крупных социальных и национальных восстаниях украинских крестьян в 1919 году, восстаниях, которые повторились, хотя и в меньшем масштабе, в начале 1930 года[32]), там использование голода как меры наказания было гораздо более жестоким. Демографические данные указывают на то, что на Украине, как и в других регионах, смертность зависела более от места проживания (в городе или на селе), чем от национальности жертв. Иными словами, те, кто жил в сельской местности, вне зависимости от их «этнического происхождения», страдали от голода гораздо больше, чем жители городов. Однако не следует забывать факт, прекрасно известный в то время: несмотря на урбанизацию, осуществлявшуюся в предшествующее десятилетие одновременно с украинизацией, деревня оставалась по преимуществу украинской, тогда как города были заселены «чужаками», т. е. русскими, евреями и — в меньшей степени — поляками[33]. Поэтому на Украине, как и в других местах, карательные мероприятия производились ради того, чтобы сломить волю крестьянства, но при этом власти ясно осознавали, что крестьянство это представляет собой хребет определенной нации.
По причине «национальной интерпретации» решение использовать голод как репрессивную меру осуществлялось на Украине и на Кубани в весьма специфической форме; это подтверждается тем обстоятельством, что принятые здесь меры (по крайней мере, существенная их часть) резко отличались от тех, какие были приняты на всей территории Советского Союза, за исключением разве лишь районов, где проживали донские казаки.
Украинский Центральный комитет партии, который Молотов и Каганович принудили к повиновению, 18 ноября приказал крестьянам сдать те жалкие крохи, которые были выплачены им натурой за сделанную работу в счет нового урожая. Решение это (нетрудно вообразить, как именно оно исполнялось в деревнях, где свирепствовал голод) дало повод обрушиться на тех из местных функционеров, кто раздавал хлеб самым голодным крестьянским семьям. Сотни были расстреляны, тысячи арестованы по обвинению в «потакании» местному населению. В то же самое время на Украине и на Кубани государство ввело в качестве наказания конфискацию у крестьян мяса и картофеля — мера, которую не применяли к жителям Поволжья, где (за исключением, пожалуй, Немецкой автономной республики) Постышев вообще проводил по отношению к местным жителям не столь жесткую политику (тем не менее и при этом сравнительно более мягком обращении количество людей, умерших от истощения, было крайне велико). Напротив, жители некоторых районов Северного Кавказа и Украины, сопротивлявшиеся коллективизации сильнее других, были наказаны более жестоко, чем остальные: в этих районах из местных магазинов изъяли все товары, включая не продовольственные; из некоторых деревень население целиком было депортировано на север и на восток.
Таким образом, масштабы голода оказались гораздо большими, чем если бы он объяснялся исключительно естественными причинами. В 1921—1922 году засуха была гораздо более сильной, а территории, на которых свирепствовал голод, были гораздо более обширными, чем в 1932 году (между прочим, урожай 1932 года, хотя и очень скудный, все-таки несколько превосходил урожай 1945 года, а между тем в 1945 году массовых смертей от голода не наблюдалось); однако голод 1932—1933 годов унес в три или четыре раза больше жизней, и виной тому были политические решения, принятые властями ради ликвидации кризиса, до которого они довели страну собственной политикой, и обеспечения победы в том «великом наступлении», о котором было объявлено четыре года назад.
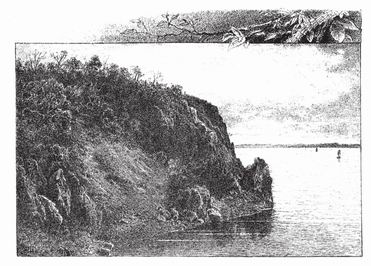
Осознание того факта, что на Украине и на Кубани крестьянский вопрос и вопрос национальный представляют собой единое целое, подталкивало власти к тому, чтобы «решить» оба вопроса разом. А чтобы это «решение» оказалось окончательным, они сочли полезным истребить национальную политическую элиту, представители которой, как известно, были заподозрены в сговоре с крестьянами.
14 и 15 декабря 1932 года Политбюро одобрило два секретных декрета, которые полностью изменяли — причем только на Украине — официальную национальную политику, проводившуюся начиная с 1923 года. В этих декретах говорилось, что «коренизация» в той форме, в какой она применялась на Украине и на Кубани, не только не ослабила национальное чувство, но, напротив, способствовала его развитию и породила врагов советской власти с партийным билетом в кармане (напомним, что одним из рекомендованных методов «коренизации» было не что иное, как принятие местных национальных кадров в партию и продвижение их по партийной лестнице). Отсюда следовало, что за разразившийся кризис ответственны не одни крестьяне и что они разделяют ответственность с украинской политической и интеллектуальной элитой.
Сказанное в равной степени касалось и программ украинизации, осуществлявшихся ранее в некоторых районах РСФСР. Несколько миллионов украинцев, которые, после того как в середине 20-х годов граница между республиками была проведена с явным перекосом в пользу России, стали гражданами РСФСР, теперь лишились права получать образование и читать газеты на родном языке, а также автономии в управлении, которую имели все прочие национальности. При переписи 1937 года всего три миллиона граждан РСФСР назвали себя украинцами, между тем как в 1926 году таковых было 7,8 миллионов (впрочем, частично это уменьшение может быть связано и с другими факторами, например, с уменьшением общего числа жителей РСФСР: дело в том, что в 1936 году из состава РСФСР был исключен Казахстан, до этого входивший туда в качестве автономной республики , а затем «повышенный» до статуса советской республики).
Декреты относительно Украины были приняты 14 и 15 декабря, а несколькими днями позже, 19 декабря, та же участь постигла Белоруссию, где, как и на Украине, крестьянский вопрос в большой мере совпадал с вопросом национальным, что стало причиной серьезных кризисов еще во времена Гражданской войны, хотя и в несравненно меньшем масштабе. Белорусскую компартию чуть позже, в начале марта 1933 года, тоже обвинили в поощрении национализма, и на местные политические кадры, а также на национальную интеллигенцию обрушились репрессии, однако белорусов за это «преступление» наказали менее жестоко; не последовало и открытого отказа от «белорусизации». Таким образом лишний раз подтвердилось коренное различие между национальной политикой, проводимой центральной властью в разных регионах страны; в Средней Азии или Сибири эта политика была несравненно более мягкой, чем в западных регионах Советского Союза, которые Москва справедливо считала гораздо более опасными для себя[34].
В ночь на 20 декабря по предложению Кагановича Политбюро Украины приняло решение добиться роста поставок зерна. Девять дней спустя было объявлено, что необходимым условием для достижением этой цели должны стать обнаружение и конфискация «семенных фондов»[35]. 22 января 1933 года, сразу после приезда Постышева, который прибыл в Киев в качестве полномочного представителя Москвы вместе с сотней других партийных деятелей, Сталин и Молотов отдали приказ ОГПУ остановить бегство голодных крестьян с Украины и Кубани. До Центрального комитета и Совнаркома, писали они, дошли сведения, что на Кубани и Украине начался массовый выезд крестьян «за хлебом» в ЦЧО, на Волгу, Московскую область, Западную область, Белоруссию. ЦК ВКП и Соврнарком не сомневаются, что выезд крестьян, как и выезд из Украины в прошлом году, организован врагами советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации «через крестьян» в северных районах СССР против колхозов и вообще против советской власти. В прошло году партийные, советские и чекистские органы Украины прозевали эту контрреволюционную затею врагов советской власти. В этом году не может быть допущено повторение прошлогодней ошибки»[36]. В течение одного лишь следующего месяца на основании этого декрета было задержано не меньше 220 000 человек, прежде всего голодных крестьян, покинувших родные места в поисках пропитания. Из них 190 000 были возвращены назад — умирать от истощения.
На дорогах, ведущих в украинские города, где снабжение — разумеется, тоже очень плохое, — все же не шло ни в какое сравнение с полной нищетой деревень[37], власти выставили заградотряды и тем обрекли деревни на вымирание. Письмо, отправленное в Москву 15 марта Косиором, в то время еще занимавшим пост секретаря украинской компартии, на котором он, впрочем, оставался недолго, подтверждает, что власти видели в голоде средство научить крестьян повиноваться государству: «то, что голодовка не научила еще очень много колхозников уму-разуму, показывает неудовлетворительную подготовку к севу как раз в наиболее неблагополучных районах»[38].
Меры, принятые против крестьян, сопровождались волной антиукраинского террора, которая в чем-то уже предвещали «массовое уничтожение» врагов народа во время Большого террора 1937—1938 годов. Именно в это время начавшийся после Гражданской войны эксперимент по созданию национального коммунизма закончился истреблением тысяч партийцев и самоубийством крупных партийных лидеров, таких как Скрыпник, и писателей, таких как Хвылевый.
Вследствие всего сказанного употребление термина «голодомор» представляется законным и даже необходимым для того, чтобы подчеркнуть разницу между общесоюзным голодом 1931—1933 годов и голодом на Украине, продолжавшимся после лета 1932 года. Хотя эти два явления тесно связаны одно с другими, тем не менее природа их совершенно различна.
То же самое касается и последствий голода, которые также частично схожи, но по сути абсолютно различны. Если говорить о Советском Союзе в целом, то голод сломил крестьянское сопротивление[39] и обеспечил победу диктатору, которого люди боялись так, как не боялись никогда и никого, и вокруг которого начал складываться новый культ, основанный в большой мере на этом страхе; подготовил почву для террора 1937—1938 годов; произвел глубинные перемены в системе официальной лжи, которая была неотделима от советской власти с самого ее рождения; позволил, после того как была приведена к покорности самая крупная из республик, превратить советское федеративное государство в деспотическую империю; и наконец, причинил чудовищную боль бесчисленным людям, которые не имели права даже на оплакивание своих мертвецов, поскольку голод очень скоро стал главным табу советского прошлого, — ведь официальная догма гласила, что «жить стало лучше, жить стало веселее» (напомним, что у Горбачева погибли от голода три дяди с отцовской стороны: он пишет об этом в мемуарах, но на его верность советскому режиму эти смерти, во всяком случае внешне, никак не повлияли)[40]. Все это очень существенно, однако на Украине и Казахстане последствия голода оказались гораздо более серьезными.
В Казахстане голод разрушил почти все, что составляло саму основу традиционного общества. На Украине были истреблены высшие и средние слои национального общества, замедлен и искажен процесс формирования нации. Я полагаю, например, что именно этим объясняется несравненно менее активное участие украинцев в войне 1941—1945 годов, чем в событиях 1914—1922 годов (Галиция, которая в 1933 году в состав Советского Союза не входила, оказалась уникальным исключением — и в этом нет ничего удивительного).
4. Имел ли место геноцид?
По числу жертв «Великий голод», свирепствовавший в 1931—1933 годах в различных регионах Советского Союза, может сравниться в европейской истории исключительно с позднейшими преступлениями нацистов. Все, что мы теперь знаем о ходе событий на Украине и на Северном Кавказе, о трактовке этих событий Сталиным и о политических мерах, ставших ее следствием, позволяет по-новому поставить вопрос о природе тогдашнего голода; вопрос звучит так: можно ли говорить в данном случае о геноциде украинского народа?
Ответ на этот вопрос будет отрицательным, если подразумевать под геноцидом голод, устроенный советским режимом — или, что еще менее вероятно, Россией, — для уничтожения украинского народа. Он останется отрицательным и если исходить из более узкого определения геноцида как намеренного уничтожения всех членов этнической, религиозной или социальной группы (под это определение подходит только холокост).
Что же касается резолюции, принятой в 1948 году Организацией Объединенных Наций, то она, придерживаясь довольно узкого определения, предлагает считать геноцидом «действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую», а к действиям этим относит «убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы», а также «предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее» (курсив мой). Незадолго до принятия этой резолюции Рафаил Лемкин, создатель самого термина «геноцид», заметил, что «строго говоря, геноцид вовсе не означает немедленного уничтожения целой нации... Этим термином мы обозначаем скорее продуманный план целой системы действий, направленных на уничтожение самих оснований жизнедеятельности тех или иных национальных групп...»[41]
Если исходить из этой трактовки, дело предстанет в совсем ином свете. Вспомним о значительной разнице коэффициента смертности в разных республиках; вспомним о миллионах умерших на Украине и на Кубани, о миллионах украинцев, подвергшихся после декабря 1932 года насильственной русификации, и о тысячах крестьян, которые, ускользнув от заградотрядов и добравшись до России, выжили, но также подверглись русификации; вспомним о том, что вследствие всего этого потери среди этнических украинцев составили от 20 до 25%; вспомним, что причиной этих потерь стало решение — бесспорно, вполне сознательное — использовать голод как антиукраинскую меру (решение, ставшее следствием «национальной интерпретации» кризиса, выработанной Сталиным во второй половине 1932 года); примем во внимание, что, не будь этого решения, жертвы голода исчислялись бы не миллионами, а сотнями тысяч, т. е. их было бы меньше, чем вследствие голода 1921—1922 годов; наконец, не забудем и о том, что в результате голода 1932—1933 годов была уничтожена большая часть политической и интеллектуальной элиты республики, от сельских учителей до лидеров нации, — если мы учтем все эти факторы, тогда ответ на вопрос о том, имел ли место геноцид украинской нации, может быть только положительным.
Итак, из событий, происшедших с конца 1932 до лета 1933 года, можно сделать несколько выводов:
1. Сталин и политики, подчинявшиеся ему и находившиеся под его жестким контролем — но, разумеется, не Россия и не русские, которые сами страдали от голода, хотя и в несколько меньшей степени, — сознательно прибегали в ходе своего наступления на крестьян, призванного принудить их к повиновению, к антиукраинским мерам, целью которых было массовое уничтожение людей, и это привело к геноциду в том смысле, о каком я говорил чуть выше[42], — геноциду, физические и психологические последствия которого заметны и поныне.

2. Геноцид этот стал следствием голода, который не был искусственно устроен ради истребления украинской нации и явился «незапланированным» результатом политики властей, но, раз начавшись, был сознательно использован ими с этой целью (сколько можно судить, трагедию в Казахстане, где потери, если рассматривать их относительно общего числа населения, были еще больше, следует считать «всего-навсего» результатом неудачно проведенного превращения кочевых народов в оседлые и полного равнодушия к судьбе коренного населения[43]).
3. Геноцид этот осуществлялся в период, протекавший под знаком сталинского решения наказать голодом и страхом определенное число национальных и этносоциальных групп, казавшихся реально или потенциально опасными[44].
4. Рассмотренное под этим углом зрения, соотношение голодомора с другими страшными репрессиями 1932—1933 годов имеет некоторое сходство с описанным выше соотношением между нацистскими репрессиями в целом и холокостом.
5. Тем не менее между голодомором и холокостом есть существенное различие. голодомор не ставил целью уничтожение украинской нации целиком, он не включал в себя непосредственного убийства жертв, он строился на основаниях теоретических и политических (быть может, позволительно даже сказать «рациональных»?)[45], а не на основаниях этнических и расовых (это различие лежит, по крайней мере отчасти, в основе двух предыдущих).
6. Если рассматривать события с этой точки зрения, холокост следует назвать явлением исключительным, поскольку он представляет собой самую «чистую» из всех возможных форм геноцида; он радикально отличается от всех остальных видов геноцида по крайней мере в количественном отношении. По этой причине он составляет отдельную категорию, но в то же самое время венчает многоэтажную пирамиду, каждый этаж которой — особая трагедия. Голодомор в этой пирамиде занимает один из верхних этажей.
Если мой — положительный — ответ на вопрос о том, можно ли считать голод на Украине геноцидом, верен, то наше видение и толкование европейского ХХ века должно претерпеть существенные изменения как в моральном, так и в интеллектуальном смысле. В другой статье я попытался указать некоторые из этих изменений, предварительно рассмотрев влияние — в долгосрочном и краткосрочном плане — «Великого голода» на советскую историю[46]. Здесь я напомню лишь три аспекта этой проблемы, поставлю три вопроса, ответы на которые представляются мне первостепенно важными.
В какой мере знание о формах, масштабах и виновниках голода влияет на суждение, какое мы — в первую очередь как человеческие существа и уже во вторую как историки — должны составить о советской системе и о первом поколении ее руководителей — группе, включавшей как людей, которые выполняли решения партии и правительства, так и других, довольно многочисленных, которые мужественно отказались эти решения выполнять и даже бойкотировали государственную политику, за что были жесточайшим образом наказаны?
Разве не очевидно, что в свете событий 1932—1933 годов советская система, рассмотренная в весьма важной фазе ее существования, предстает скорее как государство жестокое и примитивное, руководимое безжалостным деспотом, нежели как «тоталитарная система» модернизаторского типа, которая во имя идеологии стремится покорить и переделать сознание своих подданных?
Можно ли утверждать, что если в основании советской системы, какой она стала по воле Сталина, лежит преступление такого масштаба, то и крушение этой системы в какой-то степени связано с этим первородным грехом, который десятилетиями замалчивался и в котором именно по причине этой многолетней лжи было так трудно признаться? В этом смысле можно сказать, что «Великий голод» превратился в огромное препятствие, мешающее выживанию и обновлению системы, которая не могла сказать правды о своем прошлом и была сметена после того, как эта правда все-таки сделалась известной — зачастую благодаря стараниям людей, которые желали реформировать эту систему и сделать ее более человечной, а для этого решили исследовать свое прошлое и обнаружили, что оно предъявляет счет, по которому невозможно заплатить[47].
Со всем сказанным связан чрезвычайно интересный вопрос об эволюции «тоталитарных систем» — понятие, которое я не люблю именно потому, что оно затрудняет рассмотрение этой эволюции, которая в советском случае бесспорно имела место (чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить Сталина даже не с Горбачевым, а хотя бы с Хрущевым и Брежневым). По мнению Буркхардта, «даже государство, которое в начале своего существования строилось лишь на горе угнетенных, со временем по необходимости превращается в государство, в той или иной мере уважающее право и гражданское общество, потому что постепенно оказывается в руках справедливых граждан... и потому, что государство может доказать свою жизнеспособность, только превращая насилие в подлинную мощь»[48].
Вправе ли мы утверждать, что, если в течение достаточно длительного времени в стране царит мир и покой, государство, чья история запятнана геноцидом, и в самом деле может претерпеть подобную эволюцию? Если бы это оказалось правдой, тогда в советской истории можно было бы увидеть не только потрясающий нравственный урок, но и залог надежды в самом широком смысле слова.

* © Andrea Graziosi, Carriers du monde russe. Les famines sovietiques de 1931 — 1933 et le holodomor ukrainien. Редакция «ОЗ» благодарит автора статьи и журнал «Cahiers du monde russe» за любезное разрешение опубликовать ее русский перевод. Перевод с французского Веры Мильчиной.
[1] Украинский перевод этой статьи опубликован в «Украинском историческом журнале» (2005. № 3). Я благодарю редакцию «Cahiers du monde russe» за согласие опубликовать ее по-французски, чтобы сделать более доступной западным читателям. Благодарю также Олега Хлевнюка и Марка Крамера, которые прочли статью до публикации и сделали ценные замечания. Разумеется, за все гипотезы, выводы и недоработки несу ответственность только я сам.
[2] Выделено мной. — Раскольников, знаменитый герой Гражданской войны, занимал пост советского посла в Софии с 1934 по 1938 год; опасаясь стать жертвой чисток, он отказался вернуться в Москву. «Открытое письмо» Сталину было опубликовано в парижской газете «Новая Россия» 1 октября 1939 года, через три недели после гибели Раскольникова в Ницце. Это письмо вместе со многими другими документами было недавно перепечатано в сб.: Реабилитация: как это было. Февраль 1956 — начало 80-х годов. М., 2003. С. 420—453.
[3] Термин этот, составленный из слов «голод» и «морить», отличается от обычного, нейтрального обозначения голода тем, что подчеркивает намеренный характер истребления. Насколько можно судить, первым его употребил писатель Олекса Мусиенко в выступлении на собрании партийной организации Союза писателей Украины, которое было опубликовано в «Литературной Украине» 18 февраля 1988 года.
[4] R. Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror Famine. New York, 1986.
[5] A. Graziosi, «’Lettres de Kharkov’. La famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord à travers les rapports des diplomates italiens, 1932–1934», Cahiers du Monde russe et soviétique, 30 (1–2), 1989, p. 5–106; Id., Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei diplomatici italiani, 1932–33,Torino, 1991; Commission on the Ukrainian Famine, Investigation of the Ukrainian Famine, 1932–33. Report to Congress, Appendix, Washington, D. C., 1988 ; L. Y. Luciuk, B. S. Kordan, The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932–1933, Kingston, 1988; D. Zlepko, Der ukrainische Hunger-Holocaust, Sonnenbühl, 1988 (к этому изданию можно предъявить немало претензий); W. W. Isajiw. ed., Famine-genocide in Ukraine, 1932–1933: Western Archives, Testimonies, and New Research, Toronto, 2003; V. Kravchenko, J’ai choisi la liberté, Paris, 1947; Ukrainian Association of Victims of Russian Communist Terror, The Black Deeds of the Kremlin. A White Book, vol. 2: The Great Famine in Ukraine in 1932–1933, Detroit, 1955; M. Dolot, Execution by Hunger, New York, 1985, etc. В середине 1960-х годов Д. Дальримпл провела анализ доступных в то время источников; см.: «The Soviet Famine of 1932–34», Soviet Studies, 3, 1964 и 4, 1965. Сейчас несколько библиографий работ, посвященных голоду и голодомору, помещены в Интернете. См., например: Голодомор 1932–1933. Матерiали до бiблiографiï, http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/.
[6] Впрочем, недостаточный интерес проявляли вовсе не только к голоду 1932–1933 годов. Дело в том, что наиболее авторитетной фигурой среди исследователей, изучающих историю СССР, оставался, и вполне заслуженно, Э. Карр. Между тем в своих работах, посвященных периоду с 1917 по 1929 год, он уделил голоду 1921–1922 годов всего несколько страниц и не учел влияния, которое эти события оказали на ход советской истории, на поведение и судьбу крестьян, а также на участь тех народов, которые пережили голод. Очень мало мы знаем и о голоде 1946–1947 годов, несмотря на то что Хрущев в своих воспоминаниях рассказал о нем достаточно подробно; см.: Н. Хрущев. Воспоминания: время, люди, власть. В 4 т. М., 1999. См. также: В. Ф. Зима. Голод в СССР 1946–1947 годов: происхождение и последствия. М., 1996; О. Веселова и др. Голодомори в Украïнi 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947, Кiев, 2000. Ср. анализ голода в Киеве, намеренно устроенного немцами в 1941–1942 годах, в недавней работе: K. C. Berkhoff. Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule, Cambridge, MA, 2004.
[8] Обстоятельства, которые заставили Щербицкого заговорить о голоде, освещены в любопытном очерке: S. V. Kul'cyc'kyj, Il tema della carestia nella vitapolitica e sociale dell'Ucraina alia fine degli anni Ottanta, in G. De Rosa et F. Lomastro, La morte della terra: la grande «carestia» in Ucraina nel 1932-33, Roma, 2004, p. 431-448.
[9] О Джеймсе Мейсе, который позже переселился на Украину и недавно скончался, см. биографическую заметку: G. De Rosa et F. Lomastro, La morte della terra, op. cit., p. 449—453.
[10] J. Mace, Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918—1933, Cambridge, MA, 1983; С. Максудов [Бабенышев], Потери населения СССР, Benson, 1989. В книге Жореса Медведева (Soviet Agriculture. New York, 1987) есть превосходная статья о голоде, в которой приведены весьма точные сведения в масштабе всего Советского Союза, однако национальные аспекты проблемы Медведева не интересовали. См. также: B. Krawchenko, Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine, Edmonton, 1985.
[11] Поскольку эта классификация носит в высшей степени схематический характер, я не называю в данном случае никаких фамилий. Однако при необходимости каждое исследование, даже если оно принадлежит к числу тех лучших работ, которые указаны в примеч. 13, без труда можно отнести к одной из этих двух категорий.
[12] В книге 1996 года (Graziosi A. The Great Soviet Peasant War, 1918-1933. Cambridge, M.A; русское издание: А. Грациози. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917—1933, Росспэн, М., 2001) я уже пытался предложить гипотезу такого рода, но сегодня она кажется мне неубедительной, а отчасти и неверной.
[13] В. П. Данилов и др., сост., Трагедия советской деревни, том 3, 1930—1933, М., 2001 (ниже в ссылках: Трагедия); R. W. Davies, O. Khlevniuk et al., eds., The Stalin-Kaganovich Correspondence, 1931—1936, New Haven, CT, 2003 (Они же: Сталин и Каганович: переписка 1931—1936гг., М., 2001); R. W. Davies, S. G. Wheatcroft, The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931—1933, New York, 2004; Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание, М., 1996; Он же, Репрессивная политика советской власти в деревне, 1928—1933, М., 2000; В. Кондрашин, Д. Пеннер, Голод: 1932—1933 в советской деревне (на материале Поволжья, Дона и Кубани),Самара-Пенза, 2002; С. В. Кульчицький, сост., Голод 1932—1933ротв на УкраМ: очима кторитв, мовою документiв, Кгев, 1990; Он же, сост., Голодомор 1932—1933рр. в УкраМ: причини и на^дки, Кев, 1993; Он же, Колективiзацiя i голод на УкраМ, 1929—1933, Кгев, 1993; Он же, Украта мiж двома вшнами (1921—1939рр.), Кгев, 1999; В. М. Литвин, сост., Голод 1932—1933ротв в УкраМ: причини та на^дки, Кгев, 2003; T. Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939, Ithaca, NY, 2001; F. Mesle, J. Vallin, Mortalite et causes de deeds en Ukraine au XXsiecle, Paris, 2003; Ю. Шаповал, В. Васильев, Командири великого голоду: погздки В. Молотова i Л. Кагановича в Украшу та на Швтчний Кавказ, 1932—33рр., Кгев, 2001. Большой интерес представляет также исследование польско-украинско-советских отношений, которое проводит сейчас Тимоти Снайдер; см., например: Timothy Snyder, «A National Question Crosses a Systemic Border: The Polish-Soviet Context for Ukraine, 1926—1935», сообщение на конгрессе Societa Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco), Bolzano-Bozen, septembre 2004.
[14] O. Khlevniouk [Хлевнюк ], Le cercle du Kremlin. Stalin et le Bureau politique dans les annees 30, Paris, 2005 (и более полный вариант: Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы, М., 1996); O. Khlevniuk [Хлевнюк], The History of the GULAG, New Haven, 2004.
[15] К. Алдажуманов и др., Насильственная коллективизация и голод в Казахстане в 1931—1933 гг., Алма-Ата, 1998; I. Ohayon, La sedentarisationdes Kazakhs dans I'URSSde Staline, Paris, 2006; N. Pianciola, «Famine in the Steppe. The Collectivization of Agriculture and the Kazakh Herdsmen, 1928-1934», Cahiers du monde russe, 45 (1-2), 2004, P. 137-192.
[16] В 1923 году, сразу после того как СССР был основан как федерация республик, в каждой из которых имелась титульная национальность, партия официально приняла программу мер, призванных ускорить развитие «отсталых» национальностей, гарантируя им определенные привилегии и особые права на их территориях. Очень быстро этим мерам было дано общее название «коренизация», указывающее на то, что целью этой политики было укоренение новой власти внерусских областях. См.: Martin T. The Affirmative Action Empire... Op. cit.
[17] Ричард Пайпс (Pipes R. The Unknown Lenin. New Haven. CT, 1996. P. 76—77) опубликовал секретные наброски тезисов о «политике на Украине», составленных Лениным в ноябре 1919 года, когда большевики вновь отвоевывали эту республику. Среди прочего Ленин требовал относиться с величайшим вниманием к национальным традициям, уважать украинский язык и украинскую культуру, но при этом с евреями и другими жителями больших городов (по преимуществу не украинцев) рекомендовал не церемониться.
[18] Уже в донесении агентов ОГПУ об изъятии зерновых запасов в мае 1929 года идет речь о протестах крестьян, вызванных конфискацией хлеба и других продуктов первой необходимости в деревнях, которые не вьпполнили плана продовольственных поставок. Таким образом, власть, возвращавшаяся в подобных случаях для наказания и «перевоспитания» крестьян к практике времен Гражданской войны, с самого начала коллективизации использовала в этих целях голод. См.: Werth N., Mouellec G. Rapports secrets sovietiques. P., 1994. P. 112.
[19] R. W. Davies, S. G. Wheatcroft, The Years of Hunger..., op. cit.
[20] Приблизительность данных, касающихся Украины и особенно Казахстана, объясняется в первую очередь невозможностью установить точное количество людей, бежавших из родных мест, чтобы спастись от голода. Многих беглецов поймали и отправили назад — умирать, другие погибли на вокзалах городов, до которых все-таки сумели добраться, наконец, кто-то попал в Россию, Закавказье или Китай и благодаря этому выжил.
[21] С. Максудов, Потери населения СССР, op. cit.; С. В. Кульчицький, сост., Голодомор 1932—1933рр. op. cit.; R. W. Davies, S. G. Wheatcroft, The Years of Hunger..., op. cit.; F. Mesle, J. Vallin, Mortalite et causes de deeds..., op. cit.; Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский, Т. Л. Харькова, Демографическая история Российской федерации, 1927—1959, М., 1998; Ю. Я. Поляков, сост., Население России в XXвеке, том 1: 1900—1939 гг., М., 2000.
[22] Сходным образом трагедии 1921—1922 годов предшествовали локальные эпизоды голода в предшествующем, 1920 году. См.: A. Graziosi, «Stato e contadini nelle Repubbliche sovietiche attraverso i rapporti della polizia politica, 1918—1922», Rivista storica italiana, II, 1998, P. 463—S28; (впрочем, в этой статье я привожу неверные данные, сильно преувеличивающие число жизней, унесенных этим голодом); B. Patenaude, The Big Show in Bololand: The American Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921, Stanford, 2002.
[23] См.: Ивницкий Н. А. «Голод 1932—1933 годов: кто виноват» // Голод 1932—1933 годов. М., 1995. С. 59.
[24] Анализ «национальной интерпретации» голода Сталиным и ее происхождения лучше всего удался Терри Мартину: T. Martin, The Affirmative Action Empire..., op. cit. Впрочем, до него к очень схожим выводам пришел Мейс. Он тоже почувствовал, что на последующий ход событий очень большое влияние оказали события июля 1932 года.
[25] Так, 5 августа агенты ОГПУ доносили, что фракции украинской коммунистической партии и украинские национал-коммунисты подчиняются указаниям второго отдела польского генштаба (см.: Трагедия. С. 420—422, 433).
[26] Каганович упомянул эту оппозицию, не назвав, однако, имени Петровского, в письме к Сталину, о котором, впрочем, не известно, было ли оно отправлено: «Только что собрались специально для беседы по вопросу о проекте декрета. В проекте декрета объединены три раздела в духе ваших указаний. Против третьего раздела возражал... сегодня его не было, он уехал. Сомнения и даже возражения по 2-му и 3-му имелись также у ... , но в конце концов мы остановились на этом тексте в основном» (Сталин и Каганович: переписка... С. 256). Вторая часть декрета предписывала приговаривать людей, уличенных в присвоении колхозной собственности (прежде всего хлеба), к расстрелу или, при наличии смягчающих обстоятельств, к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет с заключением в «концентрационный лагерь». Третья часть предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в «концентрационный лагерь» за агитацию против колхозов.
[27] Договор был подписан 25 июля 1932 года. В своей работе «A National Question Crosses a Systemic Border...» Снайдер весьма убедительно доказывает, что если после государственного переворота, совершенного Пилсудским в 1926 году, Москва имела основания опасаться возможного нападения со стороны Польши, то после 1930 года Варшава с каждым годом все больше дорожила сохранением сложившейся системы отношений. Поэтому весьма вероятно, что — как и пишет Снайдер — после того, как договор 1932 года был заключен и польская угроза перестала быть актуальной, Сталин решил напоследок использовать ее для ликвидации потенциальных противников и укрепления собственной позиции.
[28] Сталин и Каганович: Переписка. С. 273—274; Y. Cohen, «Des lettres comme action», Cahiers du Monde russe, 38(3), 1997, P. 307—346.
[29] P. Holquist, «'Conduct Merciless Mass Terror.' Decossackization on the Don, 1919», Cahiers du Monde russe, 38 (1—2 ), 1997, p. 127—162.
[30] S. Fitzpatrick, Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization, New York, 1994; М. А. Безнин, Т. М. Димони, «Повинности российских колхозников в 1930—1960-е годы», Отечественная история, 2, 2002.
[31] С этой перепиской, впервые упомянутой Хрущевым в 1963 году, сегодня можно познакомиться в кн.: Писатель и вождь: переписка М. А. Шолохова с И. В. Сталиным. М., 1997.
[32] А. Грациози. Большевики и крестьяне на Украине, 1918—1919 годы, М., 1997; Он же, «Collectivisation, revoltes paysannes et politiques gouvernementales a travers les rapports du GPU d'Ukraine de fevrier-mars 1930», Cahiers du Monde russe, 35 (3), 1994, p. 437—632; L. Viola, Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance, New York, 1996; В. П. Данилов, А. Берелович, сост., Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД, том 3: 1930-1934, ч. 1: 1930-1931, М., 2003.
[33] Сталин всегда руководствовался любимой поговоркой «Лес рубят — щепки летят». Самый, пожалуй, ревностный адепт «статистического» подхода к репрессиям, он был готов пожертвовать целыми категориями населения для «решения» реальных или только возможных, а то и просто выдуманных проблем. A. Grazk>si,O. Chlevnjuk, T. Martin, «Il grande terrore», Storica, 18, 2000, P. 7-62.
[34] Олег Хлевнюк любезно напомнил мне о существовании декретов Политбюро «О сельскохозяйственных заготовках в Белоруссии» (6 декабря 1932 г., протокол № 126, п. 1 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 912. Л. 8, 42-43) и «Об извращении национальной политики ВКП(б) в Белоруссии» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 917, л. 7).
[35] Трагедия. С. 603-611.
[36] Трагедия. С. 635.
[37] Из донесений итальянского и польского консулов, находившихся в Киеве, следует, что каждый день на улицах и во дворах города умирали от истощения не десятки, а сотни людей. По большей части это были крестьяне, которые каким-то образом сумели ускользнуть от заградотрядов и добраться до города. Трупы убирали немедленно.
[38] Голодомор 1932—1933гг. Сост. С. В. Кульчицкий. Курсив мой.
[39] Уже 17 мая 1933 года, побывав на Дону, представитель Центрального исполнительного комитета обнаружил небольшое увеличение числа трудящихся колхозников, и объяснил этот факт желанием крестьян получить еду, которую власти теперь распределяли за «трудодни». Во многих деревнях, пишет тот же представитель ЦИКа, нарушен «заговор молчания»: крестьяне, которые еще несколько недель назад отказывались даже разговаривать с представителями власти, начали выступать на собраниях; в основном они просили хлеба, а взамен обещали работать усердно. Одним словом, точно так же, как в 1921 — 1922 годах, и даже в большей степени, чем в 1921 — 1922 годах, голод спас режим, сломив хребет крестьянам (см.: N. Werth, G. Moullec, Rapports secrets sovietiques, op. cit.). О том же писал 11 июля итальянский дипломат, основывавший свое донесение на рассказах многих специалистов-аграриев, вернувшихся с Украины и Кубани (см.: A. Graziosi, Lettere da Kharkov... op. cit. P. 152).
[40] Горбачев МЖизнь и реформы. М., 1995. Кн. 1. С. 42.
[41] Yearbook of the United Nations, New York. 1948—1949, P. 959; R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, DC, 1944, P. 82. См.: J. O. Pohl, «Stalin's Genocide against 'Repressed People'», Journal of Genocide Research, 2, 2000, P. 267—293.
[42] Как подчеркнул в короткой, но убедительной статье «Все позволено» Н. Валентинов (Вольский), Сталин и Гитлер принадлежали к немногочисленной группе европейских революционеров ХХ века, которые в самом деле считали, что им позволено все (см.: N. Valentinov (Vol'skij). Tout est permis // Le Contrat social 1966, X, P. 19—28, 77—84).
[43] Наличие геноцида подтверждается и другими аргументами. Кульчицкий, например, считает и голод в масштабе всего Советского Союза, и голодомор геноцидом, мотивированным идеологическими соображениями, в той мере, в какой оба явились следствием выбора, сделанного в 1929 года руководителями советского государства под влиянием коммунистической идеологии. Тот факт, что за «сталинской революцией сверху» и, следовательно, за политическими мерами, порожденными кризисом 1931—1932 годов, стояли коммунистические идеалы — какими бы примитивными они ни казались, — не вызывает сомнений. Трудно утверждать, что Сталин не понимал, к каким последствиям приведут эти меры. События 1921—1922 годов уже показали это однажды, а до 1927 года сам Сталин неоднократно подвергал критике предложение Троцкого об отказе от нэпа в пользу ускоренной коллективизации и индустриализации (хотя после 1928 года Сталин пошел по этому пути гораздо дальше, чем предлагал Троцкий), причем мотивировал свое несогласие именно тем, что предложенные Троцким мероприятия приведут к кризису в отношениях с крестьянами и станут причиной голода (Сталин употреблял именно это слово). Итак, гипотезы, подобные той, какую выдвигает Кульчицкий, во многом отношении справедливы, но я полагаю, что Сталин, хотя и допускал, что наступление, начатое в 1929 году, приведет к кризису, в то время еще не предвидел, насколько глубоким и острым он окажется. Ведь в конце 1930 года он был убежден, что худшее уже миновало и что он выиграл битву против крестьянства. Вот почему тезисы Кульчицкого и его единомышленников, во многом верные и с полным основанием подчеркивающие губительную роль коммунистической идеологии и ошибочных экономических концепций, все-таки недостаточно сильны для того, чтобы доказать, что голод и голодомор могут быть названы геноцидом.
[44] В письме ко мне Олег Хлевнюк совершенно справедливо заметил, что сталинская политика всегда и во всем носила черты геноцида. «Какая бы проблема ни возникала в стране, ответом всегда становилось применение прямого насилия по отношения к определенным социокультурным или национальным группам населения». Группы эти и обрушенные на них кары, от превентивных мер до ликвидации, менялись в зависимости от внутриполитической и внешнеполитической обстановки и личных пристрастий деспота. Жертвами становились казаки, крестьяне, старая русская интеллигенция и интеллигенция той или иной нации, «народы-враги» (сначала поляки и немцы, позже чеченцы и евреи). Голодомор нужно рассматривать именно в этом контексте; иначе понять его невозможно.
[45] Мне могут возразить: геноцид, осуществляемый на основе расовой теории или теории заговора, согласно которым ради будущего одной нации или «расы» необходимо уничтожить другую нацию, также вполне «рационален». В конце концов, решение об уничтожении другого народа тоже можно назвать результатом некоего рассуждения. Я полагаю, однако, что в данном случае мы имеем дело с разными вариантами рациональности. Рассуждения Сталина отличались тем, что он весьма изощренным образом использовал любые марксистские теории — учение о государственном и политическом строительстве, о социальной роли крестьянства и т. п., — для того, чтобы с их помощью воздействовать на реальное положение вещей.
[46] A. Graziosi, «The Great Famine of 1932—33: Consequences and Implications*, Harvard Ukrainian Studies, 3/4, 2001, P. 157—166.
[47] Разумеется, я не утверждаю, что советская система рухнула именно поэтому. Тем не менее наличие у нее прошлого, которое невозможно ничем оправдать, безусловно усложнило жизнь системы, которая медленно задыхалась под тяжестью демографических, экономических и национальных противоречий и в конце концов потерпела крах именно вследствие попытки ее реформировать и вдохнуть в нее новую жизнь.
[48] J. Burckhardt, Meditazionisulla storia universale, Florence, 1965, P. 35 sq. (Рус. пер.: Я. Буркхардт. Размышления о всемирной истории, М. Росспэн, 2004.)
