Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
«Право труда» в сознании современных крестьян
«Перестройка» отношения к труду
Спросите сельского руководителя о результатах преобразований в российском
селе: услышите «плач» о невнимании государства, диспаритете цен, дефиците
квалифицированных кадров, пьянстве и воровстве. Спросите фермера, он скажет, что сегодня не на чем, не с кем и незачем работать на земле. Спросите чиновника от сельского хозяйства: узнаете об отдельных успехах и «точках роста»
на фоне общей деградации села. Задайте вопрос об аграрной реформе «новому
крестьянину»: он выразительно пожмет плечами и невесело усмехнется.
Если попытаться обобщить все эти суждения, выйдет примерно следующее:
— реформа привела в целом к ухудшению, а не улучшению жизни на селе;
— реформаторами не были учтены исторически сложившиеся реальные экономические отношения, трудовые нормы, традиции и обычаи сельского образа жизни;
— и поскольку перемены не понимаются и не поддерживаются основными исполнителями преобразований, то это неудачная реформа, проведенная не в интересах крестьян и общества.
Однако с начала 1990-х годов все же произошли значительные изменения как
в экономике, так и в социальной жизни села. В значительной степени целью этих
перемен было изменение отношения крестьян к труду.
На заре перестройки, в середине 1980-х годов, ее «прорабы» утверждали, что
без «активизации человеческого фактора», без «чувства хозяина», «нового мышления» модернизация общества невозможна. Речь шла в первую очередь об изменении отношения к труду субъектов трансформационных процессов. Главным
препятствием считалось отчуждение работника от собственности на средства
производства и продукты труда. Это отчуждение периодически пытались преодолевать бригадными формами организации труда и его оплатой с учетом коэффициента трудового участия, полным хозрасчетом и т. п. Критики «лозунговой политики» указывали, что появление у человека «чувства хозяина» без наличия
у него реального хозяйства — утопия.
К началу 1990-х был сделан вывод, что социалистический способ производства, даже с «человеческим лицом», не способен достигнуть необходимой производительности труда без рыночных отношений, частной собственности на средства производства и прочих атрибутов критикуемого прежде капитализма.
Предварительные итоги
Спустя 10 лет после начала реформ уместно задаться вопросом: привели ли усилия по приватизации государственной собственности на средства производства, реорганизация колхозов и совхозов в ТОО, АО и СПК, усиленные попытки «фермеризации всей страны» и установление частной собственности на землю к «активизации человеческого фактора», изменению отношения к труду. Ведь после
введения свободной купли-продажи земли отчуждение работника от средств
производства должно бы быть преодолено. Однако результаты наших исследований показали, что трансформации не изменили коренным образом ни отношение крестьянина к труду, ни его экономическое поведение в целом.
Предположим, что за годы перестройки усилия по «активизации человеческого фактора» принесли свои плоды. Тогда если не у большинства «тружеников села», то хотя бы у наиболее эффективных работников должны быть сравнительно
более ярко выражены такие качества, как самостоятельность, ответственность,
творческое отношение к своей работе, инициативность и предприимчивость.
Традиционно такими эффективными работниками у нас считались так называемые «передовики производства», чьи фотографии украшали Доски почета с надписями «Лучшие люди» или «Наши маяки». Эта форма морального поощрения
доказала свою значимость для мотивации труда, и в современных экс-колхозах эта
традиция продолжается.
Однако анкетный опрос 1 329 работников хозяйств Саратовской области, проведенный в 1989 году Институтом социально-экономических проблем развития
аграрно-промышленного комплекса (ИСЭП АПК) АН СССР под руководством П. П. Великого показал, что по части самостоятельности и инициативности
«передовые» работники практически не отличаются от «рядовых» колхозников
и рабочих совхозов. Например, к выбору работы, где надо проявлять самостоятельность и многое решать самому, положительно отнеслись 40 процентов «передовиков» и столько же респондентов из общего числа опрошенных. Только 30 процентов «маяков производства» высказывают на собраниях свое мнение, даже если оно
отличается от мнения большинства, так же себя ведут и все остальные; 70 процентов и тех, и других считают, что «от них в хозяйстве мало что зависит».
В то же время у лучших работников хозяйств были несколько личностных
качеств, по которым они устойчиво выделялись из массы сельчан. Например,
среди них была широко распространена установка на «невозможность отказаться от задания, несмотря на то что при данных условиях с ним не справиться».
Более 60 процентов считали, что «надо делать, сколько сможешь, а там поглядим». Причем это не свидетельствовало о равнодушии к результатам труда,
а скорее об отсутствии стремления брать на себя функции «начальника». Не
случайно только 12 процентов из числа всех опрошенных дали бы согласие
стать руководителем, хотя 40 процентов участников опроса решили бы по-другому многие управленческие ситуации, которые возникали в их хозяйстве, если
бы это зависело от них.
Следовательно, эталонными качествами лучших работников хозяйств начала
девяностых, помимо, конечно, умения работать, были исполнительность
и безотказность. Это были люди, «на которых всегда можно положиться», «беззаветные труженики» с психологией наемного рабочего, но никак не предприниматели, мечтающие создать свое хозяйство.
Несмотря на реорганизацию колхозов в акционерные общества, товарищества и кооперативы, наделение крестьян земельными участками и всемерное поощрение «фермеризации», большая часть работоспособного сельского населения
по-прежнему остается наемными работниками. Это, казалось бы, подтверждает
слова страстного борца за свободу крестьянства Александра Герцена о том, что
«нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы»[1].
Однако проводить прямые исторические параллели дело неблагодарное, да
и опасное. Неочевидно, например, что колхозный строй конца восьмидесятых был
для крестьянства «насильственным рабством», а «перестроечная» свобода — «излишней», т. е. избыточной. «Свободы» у современного крестьянина в распоряжении
плодами своего труда стало еще меньше, чем в бывшем колхозе. Да и «свободные»
фермеры, по их собственным словам, свободны оттого, что «никому не нужны».
Сегодня настоящими хозяевами экс-колхоза стали руководители хозяйств,
некоторые главные специалисты и управляющие подразделениями. Только они
чувствуют себя собственниками, реально заинтересованы в повышении эффективности производства и заботятся о сохранности имущества.
В конце 1980-х годов в период внедрения хозрасчета и бригадных форм организации труда действительно можно было наблюдать подвижки в изменении отношения к труду. Особенно наглядно это было видно там, где крестьяне уже получили
опыт работы в новых организационных формах и на практике столкнулись с необходимостью пересмотреть ряд традиционных социальных стереотипов и представлений о справедливой оплате труда, моральных ценностях работника, правах и т. п.
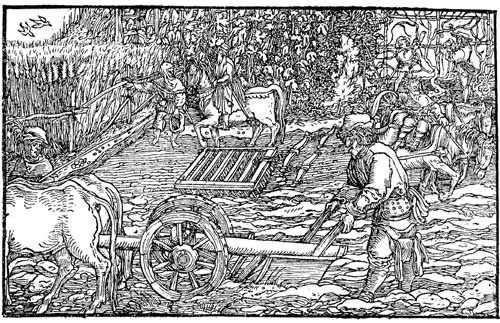
В Саратовской области началом широкого внедрения хозрасчетных отношений в сельском хозяйстве можно назвать 1987 год. Известно, что с внедрением
аренды, кооперации и развитием самостоятельных крестьянских хозяйств идеологическая парадигма перестройки связывала повышение трудовой активности
и развитие таких качеств, как самостоятельность, инициативность и стремление
к свободному предпринимательству у крестьянства.
Опросы, проведенные ИСЭП АПК в 1987 году в Поволжье, показали, что
данными качествами обладали не более 10 процентов от числа опрошенных жителей села. В 1989 году опрос 2 000 работников сельхозпредприятий Саратовской
области показал, что стремятся к хозяйственной самостоятельности и свободному предпринимательству тоже 10 процентов. На первый взгляд, никаких изменений не произошло, но опыт хозрасчетных бригад и арендных звеньев не пропал
даром. Трудовая активность работника действительно возросла. Особенно там,
где способный руководитель хозяйства увидел на деле преимущества материальных рычагов управления и неформально отнесся к этому делу.
Спустя десять лет руководители эффективных хозяйств оценивают этот опыт
как необходимую подготовку сознания крестьян к переходу к рыночной экономике. Вот пример из интервью, данного летом 1999 года начальником сельхозуправления одного из районов Самарской области. В 1987–1989 годах он был
председателем колхоза-миллионера в Самарской области. Подъем хозяйства
в середине 1980-х был обеспечен «материальным стимулированием»:
«…Мы в 1,8 раза увеличили производство и в 1,5 раза — зарплату. Я ребятам говорю:
мы без народа, без рабочих ничего не сможем сделать… А работник сейчас на колхоз работает одной рукой, вторая — к личному хозяйству привязана. Наша цель, задача — быстрее развязать эту руку, чем быстрее развяжем, тем выше будет производительность.
Вот у меня была зарплата 242 рубля… Надо принимать все меры, чтобы зарплата у механизатора, у животновода была не ниже, чем у председателя. А лучше, чтоб она выше
была. Дояркам зарплата поднялась минимум в два раза. Кульмышева была передовая, 500 рублей с хвостиком получила, а я только радовался: пусть получает, пусть.
За это она у нас как зажигалка была и других травила лучше работать».
По свидетельству большинства руководителей колхозов и совхозов конца
восьмидесятых, в хозрасчетных бригадах производительность труда возрастала
минимум в полтора-два раза, отмечалось более бережное отношение к технике,
значительно сократились кражи ГСМ, запчастей и производимой продукции. Работа на конечный результат, особенно если этот результат был соответственно
вознагражден, как показано в данном примере, действительно активизировал
«человеческий фактор» и «хозяйское» (но не собственническое) отношение
к средствам производства. Это был один из немногих успешных экспериментов
по внедрению новых форм организации труда. Этот пример показывает, что реальные механизмы изменения отношения к труду были, и есть сейчас.
Но этот эксперимент был прерван реформами 1990-х. Поэтому в XXI век
вступил новый российский крестьянин, чей среднестатистический портрет существенно отличается от представлений «архитекторов перестройки» об идеальном труженике села.
В качестве примера приведем один из таких обобщенных портретов российского крестьянина, не забывая о том, что такой портрет, как и всякий среднестатистический тип, всего лишь карикатурная модель реальности.
Итак, среднестатистический социальный портрет основного производителя
сельхозпродукции к началу 2000 года представляет собой образ рядового работника экс-колхоза (СПК, ТОО или АО). По своему социальному профилю — это
наемный рабочий, лишь формально являющийся акционером или пайщиком
предприятия. Ему присущи типичные для наемного работника черты, такие как
безынициативность, отстраненность от участия в управлении и принятии ответственных решений, ориентация на нормированный рабочий день, отчужденность от средств производства.
Квалификация: основные профессии — механизатор, скотник, водитель, разнорабочий. Владеет несколькими смежными профессиями в растениеводстве
или животноводстве, имеет практически все элементарные знания и навыки
по большинству видов сельскохозяйственных работ, ремонту техники и производственных помещений, которые получены в основном практическим опытом.
Многие навыки приобретены в детстве в подсобном хозяйстве и во время сезонных работ в поле. Уровень квалификации средний, ввиду того что наиболее квалифицированные работники либо ушли из колхоза, либо составляют менее пяти
процентов занятых в хозяйстве. Среди женщин, работающих в сельском хозяйстве, наиболее распространенная специальность: доярка, телятница, овощевод,
разнорабочая. Квалификация зависит от стажа работы; как правило, специальность получена через навыки, обретенные в хозяйстве родителей, и через обучение непосредственно на рабочем месте.

Неизбывная «растащиловка»
Попробуем проследить изменения в трудовых отношениях на примере отношения работников к собственности сельскохозяйственного предприятия, или, точнее, на примере воровства на производстве.
На первый взгляд, проблема воровства понятна: это известный «порочный
круг» современного сельхозпредприятия. Низкая зарплата или ее отсутствие вынуждает крестьянина натурализировать свое хозяйство, но необходимое количество кормов для личного скота и птицы легальным путем получить слишком дорого,
произвести самим зерно без техники невозможно. Остается одно — неформальное
перераспределение ресурсов сельхозпредприятия. Результаты опросов руководителей хозяйств показывают, что до одной трети урожая нелегально оказывалось
на крестьянском подворье. Причем сложности и риски воровства постоянно росли. Можно было лишиться работы, свободы (тюрьмы переполнены жителями села,
осужденными за кражу кормов), за водку и самогон получить зерно большая удача,
всем нужны только деньги.
Но если посмотреть глубже, то воровство кормов было всегда, более того, это,
в соответствии с неписаными крестьянскими нормами и традициями, — не совсем воровство. То есть с точки зрения исследователя можно сказать, что в восприятии крестьян кража кормов для личного хозяйства — это не совсем воровство. Однако в общественном мнении села это оценивается именно как воровство,
которое не одобряется, но и не осуждается, пока не будет нарушена негласная
норма размеров хищения. У нас есть жуткий рассказ респондента из с. Тепловка
Саратовской области об обычае общинной расправы с похитителями зерна из общественного амбара. Это называлось «сажать на ж…». Вора хватали за руки и за
ноги и с размаху сажали на копчик, травма позвоночника делала его инвалидом
на всю жизнь.
Житель села в своем экономическом поведении руководствуется, разумеется,
и формальными законами, но главным образом «обычным правом» и получившими широкое распространение уже в постсоветскую эпоху «понятиями» криминального мира.
Роль обычного права, выработанного местными традициями и обычаями
представления о «справедливости», «о совести», нормах и правилах поведения
в общине, чаще всего сводится к влиянию общественного мнения села на формирование представлений крестьян о труде[2]. Влияние на трудовые отношения
«понятий», которые представляют собой своеобразное право уголовного мира,
мы наблюдали в селе в начале девяностых годов как следствие отголосков «криминальной революции» в городе, связанной с переделом собственности и утратой властью «монополии на насилие»[3], и, конечно, богатого тюремного опыта
сельского социума. В среднем у каждого второго нашего респондента в тюрьме
сидел или сидит сейчас кто-то из его близкого окружения.
В реальной жизни человек действует так, как ему выгоднее, т. е. иногда руководствуется официальным законом, иногда опирается на обычное право, иногда
считается и с «понятиями».
Для иллюстрации этого тезиса рассмотрим отношение крестьян к «своему»
и «чужому».
«Свое» и «чужое»
Одна из главных целей реформ состояла в формировании «чувства хозяина». Мы
сейчас не будем останавливаться на «чувствах» фермера. Обратимся к типичному бывшему колхознику, а нынешнему акционеру и пайщику, который под влиянием аграрных реформ должен одинаково рачительно относиться к «своему»
и «колхозному».
Экспертный опрос рядовых работников и руководителей хозяйств в селах
Поволжья в 1999–2000 годах показал, что прямой зависимости качества ухода за
животными или отношения к технике от формы собственности нет. Решающее
значение имеют два основных фактора:
— личные качества работника, которые не позволяют ему относиться к животным или технике как к «чужому»;
— жесткий контроль на производстве или система материальных и моральных стимулов, приучающие к ответственности и бережному отношению к порученной технике или животным.
Если этого нет, то отношение к своему или чужому могут существенно различаться. Так, например, «механизаторы могут в пьяном виде гонять технику и “куролесить” на ней, а на своей бы еще подумали» (рядовой работник) или «свою корову кормят не лучше по качеству (все же в колхозе следят, чтобы кормосмеси были
правильно приготовлены), но своим дают больше, это факт. И потом удои от своей
коровы выше. С такими удоями, как у нас на ферме, ни один хозяин держать такую
корову не стал бы» (доярка, старшая звена).
Зависимость отношения к «своему» и «колхозному» от общей культуры производства можно увидеть на примере беседы с одним из руководителей районного сельхозуправления: «Разница ведь есть в отношении к личному подсобному хозяйству и к “колхозному”. Он где работает лучше? На своем, конечно, и техника своя
хранится лучше».

Если принять во внимание, что современный типичный «колхоз» в большинстве случаев не в состоянии осуществить контроль и воспитательную работу среди работников, то можно считать, что отношения к «своему» и «чужому» различаются в пользу «своего».
Как показали наши исследования, проведенные в 2000 году[4], обладание земельным паем, который есть в собственности у большинства жителей села, на это
отношение не повлияло. В выдержках из интервью можно увидеть роль земельного пая в настоящее время: «У меня этого пая — 11,5 га. А че мы будем делать
с этой землей? Продать? Нет! А потом че бы я делала, если бы я продала, мне не дали бы ни зерна, ни… Если бы я продала землю, дали бы дороже, по госцене, а мне так
дают…» (доярка, 39 лет, август 1999 года).
В этом отрывке видно, что собственность на землю в виде земельного пая
воспринимается как форма допуска к ресурсам сельскохозяйственного предприятия для обеспечения своего подворья. А свидетельство на право владения землей — как книжка члена потребительского кооператива.
Конечно, с наделением крестьян землей и самостоятельностью ожидалось,
что вместе с появлением «чувства хозяина» проблема сохранности общественной
собственности также будет позитивно решена. Была наивная вера в то, что «хозяин» сам у себя воровать не будет. Однако реальные практики обыденной жизни
села остались прежними. В книге «Многоукладная аграрная экономика и российская деревня»[5] приводятся многочисленные выдержки из писем крестьян
в газеты и из интервью социологических исследований на эту тему.
Один, явно рядовой сельский житель, прямо написал в письме в редакцию:
«Воровать-то мы, понятно, и раньше воровали — приучила нас советская власть,
что иначе не проживешь».
Руководитель хозяйства: «Воруют или комбайнер, или тракторист, или шофер — те, кто связан с техникой во время уборочной, обработкой и перевозкой зерна. Кто-то ворует для себя. Кто-то в обмен, кто-то на водку. Мы удерживаем сумму, на которую нанесен ущерб, моральные рычаги не действуют сейчас, только
рублем можно наказать».
В этих высказываниях, которые касались собственности на землю и воровства, мы можем обнаружить латентные формы обычного права, которое мало изменилось по сравнению с общинными нормами морали и права, где так же не было
«четкости и единообразия, свойственных официальному праву»[6]. «Культурные
коды» обычного права проявляются в оценках поступков односельчан.
Не случайно руководитель хозяйства построил целую иерархию целей воровства: «для себя», «на обмен» и «на пропой». В селе мелкие кражи «для себя»,
т. е. для своего личного хозяйства, продуктов труда, к которым работник имеет
непосредственное отношение, практически не осуждались, если не была нарушена некая местная норма. Причем при одинаковом обозначении нарушения
негласной нормы (например, «совсем совесть потерял, возами тащит» или «мы
несем, а он везет») сама «норма» — количество зерна, сена или молока — может
существенно различаться от тонны до мешка, ведра или литра.
Но по отношению к воровству ради пьянства общественное мнение села было непримиримо.
За этим стоят описанные историками в конце XIX века такие нормы обычного права, как «право труда» и «право на труд»[7]. «Право труда» проявлялось в том,
что если крестьянин вкладывал свой труд в производство продукта, то «не по совести» было его отнимать. Например, если крестьянин случайно или умышленно
запахивал межу, то община никогда не принуждала его вернуть зерно, выращенное на незаконно прирезанной земле соседа. Он должен был возместить ущерб
деньгами. «Право на труд» предполагало непреложное право члена общины трудиться на земле. Механизм земельных переделов сельской общины должен был
обеспечить это право.
Мы можем увидеть, что «право труда» продолжает жить в представлениях современных крестьян. Например, комбайнер считает, что имеет право на часть зерна, которую он собирает. Даже если за его труд заплатят, он может взять чтото еще поверх платы. Это не осуждается односельчанами, и даже администрация
хозяйств относится к таким действиям с «пониманием».
По данным М. А. Шабановой, 65 процентов жителей села вовсе не осуждают
людей, которые прибегают к мелким хищениям с производства, оправдывая
подобное поведение тем, что «пусть берут побольше, все равно это ихнее… работают за так»[8].
Представляется, что причины неудач современных аграрных реформ в России коренятся в том, что законы и аграрная политика в целом не учитывают
традиций обычного права. Между тем, по мнению Теодора Шанина, в нашей
истории был такой положительный опыт. Это Земельный кодекс 1922 года. «Этот
кодекс просто повторил в главном обычное право. Он был универсальным и стал
сердцевиной нэпа. Для сельских районов нэп, его стабильность, его эффективность с точки зрения быстроты последовавшего экономического восстановления
и развития связаны не с тем, что придумало правительство, а с тем, что земельный кодекс повторил и помог дальше укрепить и развить обычное право»[9].
В нынешних условиях, когда аграрное производство выживает благодаря развитию и расширению области неформальной экономики, аграрные реформы
должны основываться на реальных практиках трудовых отношений, на знании
и понимании смысла исторически сложившихся норм, обычаев и традиций сельской жизни. Это позволит осуществить более успешную адаптацию сельского населения к капитализации сельского хозяйства и трудовым ценностям современного аграрного рыночного производства.
[1] Герцен А. И. К старому товарищу // Утопический социализм. М., 1982. С. 421.
[2] Миронов Б. И. История и социология. Л., 1984. С. 59–89.
[3] Имеется в виду появление негосударственных охранных агентств, организованных
бандитских группировок по оказанию услуг «силового предпринимательства» (возврат долгов,
«крышевание», разрешение деловых споров и проч.). Подробнее см.: Волков В. В.
От преступных группировок — к региональным бизнес-группам // Куда идет Россия?
Формальные институты и реальные практики. М.: МВШСЭН, 2002. С. 108–120.
[4] Проект «Механизмы использования земельной собственности сельских пенсионеров
в системе их социальной защиты» осуществлен при поддержке МОНФ. Грант SP-99–1–3.
2000 г., рук. П. П. Великий.
[5] Многоукладная аграрная экономика и российская деревня / Под ред. Е. С. Строева.
М.: Колос, 2001. С. 201–206.
[6] Миронов Б. И. Указ. соч. С. 59–89.
[7] Златовратский Н. И. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 3.
[8] Шабанова М. А. Новая свобода на селе: проблемы институализации и интернализации //
Сибирская деревня в период трансформаций социально-экономических отношений.
Новосибирск, 1996. С. 17–20.
[9] Шанин Т. Обычное право в крестьянском сообществе // Куда идет Россия? Формальные
институты и реальные практики. М.: МВШСЭН, 2002. С. 267–274.
