Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Трансформация крупной собственности в России: тенденции и риски.
Беседа с Яковом Паппэ
На вопросы Виталия КУРЕННОГО отвечает главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Яков ПАППЭ
Позволила ли, на ваш взгляд, приватизация средств производства создать в России достаточно устойчивый институт частной собственности, способный служить основанием для рыночного развития страны?
Надеюсь, что да. На мой взгляд, главную роль в этом сыграли два процесса. Первый — это процесс приватизации фрагментов распавшегося советского хозяйства, который шел с начала 90-х годов. Второй начался в конце 90-х годов, и связан он с включением этих приватизированных фрагментов в мировое, глобальное экономическое пространство. Именно этот второй процесс является на сегодняшний день ключевым фактором становления и стабилизации института частной собственности в России. Причем, насколько я могу судить, наше государство либо не хочет препятствовать этому процессу включения в мировое хозяйство, либо не может.
Конечно, имеют место «отдельные негативные моменты», связанные с некоторыми политическими акциями власти и ее борьбой с определенными фигурами в бизнесе. Но никакого последовательного противодействия включению России в глобальную экономическую систему в настоящее время не наблюдается.
Что позволяет говорить о включении российской экономики в мировую хозяйственную систему?
Есть несколько индикаторов. Первый из них — это кредитный рынок. По результатам 2004 года можно сказать, что российский банковский сектор уже не играет решающей роли в кредитовании крупной промышленности или крупного бизнеса в России. Реальный сектор российской экономики основные заимствования привлекает на международных рынках либо в форме выпуска еврооблигаций, либо в виде синдицированных банковских кредитов.
Уже третий год я пишу разного рода ежемесячные экономические обзоры. В 2003 году любой выпуск облигаций или синдицированный кредит на сумму более 100 миллионов долларов мне приходилось описывать как значительное событие. В 2004 году в качестве таких событий фигурируют уже займы на сумму от 300 до 500 миллионов, да и то не всегда. В 2005 году я взял себе за правило отмечать займы свыше миллиарда для «Газпрома», свыше 500 миллионов для крупных отечественных нефтяных и металлургических компаний и свыше 300 миллионов — для компаний и предприятий прочих отраслей. Все, что меньше этого, уже рутинный процесс. Получить на международном рынке 100 миллионов долларов для относительно давно существующей, известной и успешной российской компании, предприятия или банка — уже не проблема.
Далее следует указать на наличие у многих российских структур крупных иностранных акционеров. И еще большее число предприятий, компаний и даже групп стремятся таких акционеров получить, и для этого у них есть все возможности.
Третий показатель связан с перестройкой структуры наших компаний. Цель этой перестройки — подведение субъектов российского бизнеса под стандарты, приемлемые для мирового фондового и финансового рынков. Все, что под эти стандарты не подходит, безжалостно отсекается, даже если является вполне эффективным и выгодным в российских условиях.
Можно ли на этом основании сказать, что в России, несмотря на все события с ЮКОСом и ряд других государственных интервенций в экономику, сложился благоприятный климат для зарубежной инвестиционной политики?
Здесь нужно сделать одно уточнение. И понятие «инвестиции», и понятие «политика» предполагают некоторую сознательную и целенаправленную деятельность. Конечно, в России нередки примеры инвестиционной политики такого рода. Например, покупка «BР» половины «Тюменской нефтяной компании» — это вполне сознательная и целенаправленная акция. То же самое — покупка «ConocoPhillips» десятипроцентного пакета акций компании «ЛУКойл».
Но совсем иное дело, если российская компания выходит на одну из мировых бирж и продает там 10–15 процентов своих акций, из которых на каждого покупателя приходится, условно говоря, по одной десятой процента. Для покупателя это уже не политика, это некий естественный, почти спонтанный процесс. Участники международного фондового рынка видят, что в нашей стране есть структуры, которые для них понятны и по форме похожи на те, что они видели и покупали в Польше, в Индонезии, в Бразилии. То есть они видят в нашей стране пространство для возможной экспансии и идут туда.
И это может быть более значимый фактор, чем «инвестиционная политика» в строгом смысле. Россия представляется для мирового рынка некоторой возможностью. Российский бизнес ведет себя так, чтобы расширить эту возможность. И российское правительство не препятствует этому процессу.
Получается, что опасения относительно негативных последствий политических маневров для крупного бизнеса сильно преувеличены?
Они преувеличены, хотя и не безосновательны. Если бы не дело ЮКОСа, мы бы наблюдали приток инвестиций в больших масштабах. При этом хочу отметить, что дело ЮКОСа не нужно путать с теми случаями, когда государство сознательно ограничивает иностранную экспансию. Например, проблема продажи «Силовых машин» концерну «Siemens». Когда речь идет о потере национального контроля над ключевым для экономики страны предприятием, любая власть вправе вмешаться и принимать решения, руководствуясь собственными представлениями об общественных интересах. Это совершенно нормально, и все это понимают и принимают. То же самое было в Германии, когда около 30 лет назад ктото из «нефтяных монархов» Среднего Востока хотел купить «Volkswagen». В случае крупнейших предприятий, имеющих важнейшее значение для страны, даже нельзя говорить о том, что это частная собственность. Это особый вид собственности, по отношению к которой государство выступает как влиятельный «стейкхолдер», как «заинтересованная сторона».
Расшифруйте, пожалуйста, это понятие.
Это слово образовано по аналогии со словом «шеахолдер» — акционер. На каком-то этапе развития западной экономической теории и практики все согласились, что на дела фирмы имеют право оказывать влияние не только ее непосредственные собственники — акционеры. Но также и те, кто зависит от деятельности этой фирмы — наемный персонал, потребители, жители окрестных территорий, местные власти и т. д. Вот для обозначения таких заинтересованных сторон и используется понятие «стейкхолдер».
Во всех развитых странах признается, что для очень крупных фирм влиятельным стейкхолдером, мнение которого принимается во внимание, является государство. Хотя Россия и, в еще большей степени, Китай с точки зрения государственного влияния на бизнес занимают особое положение, но они не выпадают из общего ряда, а просто сдвинуты к одному из его краев.
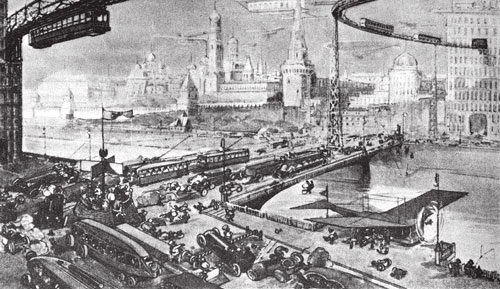
Как вы считаете, возможен ли такой сценарий развития событий, при котором процесс вхождения нашего бизнеса в глобальную экономику будет остановлен и пойдет вспять?
Если говорить не о прогнозе, а именно о сценарии, как чисто логическом построении, то это, конечно, возможно. Государство может остановить этот процесс, например, несколькими судебными решениями, которые будут признаны мировым сообществом как неправосудные. В этом случае мировые финансовые и фондовые рынки просто забудут про нашу страну. Говоря профессиональным языком, инвесторы и кредиторы «закроют лимиты» на Россию. И никто от этого не умрет. Потому что в мировом масштабе Россия — это очень маленькая экономика. К сожалению, по своим масштабам мы не Китай и не Индия. Если бы попыталась отгородиться от остального мира одна из этих стран, то за этим последовали бы крупные экономические потрясения и, возможно, активные ответные действия. Но если нечто подобное произойдет в России, то событием для мировой экономики это не станет. Возможно, для многих сказанное звучит неприятно, но повторюсь: Россия — это малая экономика. И она останется таковой в обозримой перспективе. Она может быть великой культурной или военной, но не экономической державой. (Что, конечно же, не мешает нам уже в среднесрочной перспективе войти в число динамично растущих и экономически развитых стран.)
Но помимо государства есть еще и общество. А в обществе неприятие результатов приватизации, уверенность в их нелегитимности распространены весьма широко. Могут ли эти настроения принять политическую форму?
Я не социолог и не социальный психолог, и о вероятности такого развития событий рассуждать не могу. Но опять-таки, чисто логически, такого рода варианты возможны.
Первый из них — российский аналог китайской «культурной революции». По каким-то своим соображениям власть может сама начать раздувать тему «врагов», «олигархов» и проч, которые «продают родину». В силу того что в обществе широко распространено убеждение: «нас ограбили», этот посыл власти будет очень хорошо принят. А после этого можно делать все, что угодно. Например, при помощи «басманной» судебной системы начать передел собственности. И таким способом процесс встраивания России в глобальную экономику будет успешно торпедирован.
Второй сценарий — власть сталкивается с очень серьезным недовольством населения (несопоставимым с тем, которое возникло в связи с монетизацией льгот). Понимая, что не может с ним справиться без существенных потерь, она канализирует его на борьбу с теми же врагами. Отличие от первого сценария в том, что это будет вынужденная мера самосохранения власти.
Но и в том и в другом случае — первый шаг делает власть. Если она этого шага не делает, по прошествии «сорока лет» мы если и не придем в «землю обетованную», то, во всяком случае, достигнем вполне достойного уровня и качества жизни.
Иначе говоря, решение проблемы легитимности — дело времени?
Если власть не выступает в качестве активного борца с крупной частной собственностью, то, я думаю, решение проблемы легитимности — это, действительно, вопрос времени.
Вы упомянули о том, что в самой российской экономике происходят структурные изменения. Расскажите об этом подробнее. Что, в частности, происходит с интегрированными бизнес-группами, о которых вы подробно писали в 2000–2002 годах?
Здесь происходят чрезвычайно интересные вещи. В российском бизнесе появляется новый основной субъект. На место интегрированной бизнес-группы приходит компания. Что такое интегрированная бизнес-группа? Это прежде всего нечто многосекторное, многоотраслевое и запутанное. Например, одна из действующих ныне групп — «Промышленные инвесторы» включает в себя банк, морское пароходство, ликероводочный завод, холдинг по производству сельхозтехники. И все это управляется одним или несколькими людьми из одного центра. Компания — это нечто иное. Это группа предприятий или работающих на одном рынке, или связанных в единую технологическую цепочку. То есть, например, или три металлургических комбината, или рудник, шахта, металлургический и трубопрокатный завод. В чем здесь принципиальная разница?
Компания — это нечто понятное для мирового фондового и финансового рынков. Когда же речь идет об интегрированной бизнес-группе, то непонятно, что же, собственно, предлагается покупателю. Набор активов, выглядящий для внешнего наблюдателя абсолютно случайным? Или же прозорливость и связи ее главы? Мировой рынок не умеет оценивать такие вещи. На экономическом жаргоне это звучит так: интегрированная бизнес-группа в подавляющем большинстве случаев не может быть капитализирована.
Поэтому мы сейчас наблюдаем две основные тенденции развития уже сложившихся групп. Во-первых, они распадаются на компании, во-вторых, эти компании приводятся в соответствие с требованиями мирового фондового рынка.
При этом не всегда решающее значение имеет эффективность или выгода с точки зрения внутреннего рынка. Например, в мире не принято, чтобы нефтедобывающая компания сама занималась бурением. Этим занимаются специализированные компании. И вот мы видим, что «ЛУКойл» продает свою дочернюю компанию «ЛУКойл-Бурение», несмотря на то что, на мой взгляд, это приведет к некоторым финансовым потерям.

Еще один интересный процесс — переход многих ключевых менеджеров интегрированных бизнес-групп «вниз», т. е. на уровень компаний. Это приводит к тому, что последние уже могут существовать и не терять управляемости вне группы. Наиболее яркий пример — перемещение в «Норильский никель» Михаила Прохорова с большой командой специалистов из «Интерроса».
Возникают, конечно, и новые многоотраслевые группы, собирающие в любых отраслях и секторах недооцененные активы или, проще говоря, все, что «плохо лежит». (Яркий пример, похоже, вполне успешной такой группы — уже упоминавшиеся «Промышленные инвесторы».) Но при этом они проходят тот этап, на котором «Интеррос» или «Альфа» находились в середине 90-х, и вектор их дальнейшего развития, на мой взгляд, будет тем же самым, что и у старых групп.
Что при этом происходит с центральными элементами старых интегрированных бизнес-групп?
Они по-прежнему важны как регуляторы финансовых потоков (которые, кстати, все больше начинают быть похожи на потоки прибыли). Они принимают основные решения о продаже и покупке новых бизнесов. Оставляя производство на уровне компании, они работают в пространстве капитала. Это не очень науч но, но я считаю важным различать пространство бизнеса, где что-то производится, продается, рекламируется и т. д., и пространство капитала, где деньги перебрасываются из одного сектора экономики в другой, с предприятия на предприятие. Российские интегрированные бизнес-группы все более сосредотачиваются на работе в пространстве капитала и в этом смысле становятся похожими на инвестиционные фонды Запада.
В чем между ними разница?
В отличие от наших групп, инвестиционный фонд на Западе, как правило, не владеет ни контрольными, ни блокирующими пакетами акций крупных компаний. (Хотя довольно часто те пять или один процент, которыми владеет такой фонд, являются решающими на собрании акционеров.) Второе отличие состоит в том, что если западному инвестиционному фонду не нравится тот бизнес, в который он вложился, то он, скорее, продаст его, чем будет вмешиваться в управление. Скажем так, в 60 процентах случаев он продаст этот бизнес и лишь в 40 процентах случаев — будет вмешиваться. А российская интегрированная бизнес-группа прежде всего попытается вмешаться в деятельность контролируемой компании. Продавать же ее акции будет либо на пике капитализации, либо когда экспериментальным путем установила, что не может улучшить состояние дел в ней.
В свое время я говорил, что интегрированные бизнес-группы России похожи скорее не на инвестиционные фонды, а на локальные рынки капитала. То есть они выполняют по отношению к своим предприятиям и компаниям все те функции, которые в развитых экономиках выполняет фондовый рынок. Сегодня, однако, это уже не так, поскольку оценка наиболее крупных успешных субъектов российского бизнеса делается уже не внутри страны, а за ее пределами.
Если мы спустимся от крупного бизнеса на более низкий уровень: что происходит сейчас в этой области?
Что происходит в сфере мелкого и среднего бизнеса, я просто не знаю, так как не занимаюсь этими вопросами. Но по поводу бизнеса, который можно назвать крупно-средним, могу сказать, что там идут те же самые процессы. Мы зациклились на нефти и металле, но компании с годовым оборотом свыше миллиарда долларов существуют уже и в потребительском секторе. В 2004 году этого уровня достигли и молочно-соковый «Вимм-Билль-Данн», и пивная «Балтика», и сеть продуктовых магазинов «Пятерочка». А число структур, имеющих оборот более 500 миллионов долларов, перевалило за десяток.
Первыми за пределы страны выходили предприятия нефтяной промышленности, затем металлургической, а теперь по этой же логике действуют предприятия пищевой и табачной промышленности, других отраслей. Они также выходят на мировой кредитный рынок и производят IPO[1]. Наш крупнейший косметический концерн «Калина» (с оборотом, правда, около 200 миллионов долларов) в 2004 году произвел IPO на российской бирже, но покупателями акций оказались иностранцы. Причем, похоже, это реальные инвесторы, а отнюдь не подставные лица.
Таким образом, новая российская система собственности на различных уровнях довольно успешно встраивается в глобальную экономику. Совсем ничто в текущих экономических процессах не вызывает у вас тревоги? Или есть и негативные тенденции, в чем они выражаются?
Да, в стране идут и конструктивные и деструктивные процессы. И главный вопрос для всех нас состоит в том, какие из них быстрее и интенсивнее. Но де структивные тенденции лучше мог бы описать не московский экономист, а житель какого-нибудь старого индустриального города или специалист по экономической и политической географии. Насколько же я могу судить, самое опасное сейчас в том, что на многих территориях полностью разрушается ткань экономической жизни. Если в каком-то индустриальном центре перестала работать старая советская промышленность, то там не появляется и ничего нового. Сектор услуг не может заменить крупную промышленность, поскольку, попросту говоря, некого обслуживать. Система разделения труда, характерная для современной (и даже для старой советской) экономики, свертывается. Люди переходят в автономный режим существования. Они сами готовят пищу, сами стирают, сами друг друга стригут. Поэтому ни частных ресторанов, ни прачечных, ни салонов красоты в значительном числе появиться не может.

С другой стороны, если старые промышленные производства успешно модернизируются, они, как правило, требуют существенно меньше людей. И возникает вопрос о том, куда девать тех, кто оказался невостребован. Появляется или фиктивная занятость, или застойная безработица. Сейчас решение проблемы ложится в основном на региональную и местную власть, но то, что они могут сделать, — это паллиативные меры. Только по-настоящему быстрый рост экономики в целом может радикально улучшить ситуацию, но и то не во всех регионах и отраслях.
В частности, по-видимому, безнадежно погибла легкая промышленность с ее «текстильными городами» и социальной инфраструктурой. (В отличие от пищевой промышленности, которая уже восстановилась и имеет все шансы на развитие.) В текстильной отрасли две проблемы. Первая — разрушение традиционных производственно-технологических цепочек — весьма длинных, выходивших за пределы страны. Вторая, которая, вероятно, еще острее, — отсутствие здесь сколько-нибудь известных отечественных брендов. Под угрозой также производство отечественных гражданских самолетов, которые сейчас выпускаются штучно. Вообще, значительная часть сектора высоких технологий держится на старом потенциале, и есть опасность исчезновения в России целых его отраслей.
А с какими трудностями сталкивается наш модернизирующийся бизнес при выходе на мировой рынок?
Начну с одного примера. Олег Дерипаска продал два завода — Самарский металлургический завод (СМЗ) и Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО). Продал он их компании «Alcoa» — крупнейшему мировому производителю алюминия и своему конкуренту. Он долго боролся за эти заводы, осуществлял их реструктуризацию, освобождался от непрофильных производств и т. д. Так что же произошло?
Объясняется все довольно просто. Мощности СМЗ и БКМПО рассчитаны на потребности советской экономики. Столько алюминиевого проката в России в обозримом будущем не потребуется. Работая только на внутренний рынок, эти компании смогут загрузить лишь малую долю своих мощностей, а значит, будут нерентабельными. Казалось бы, какие проблемы — экспортируй, тем более что издержки производства в России сравнительно низки. Это же не компьютеры и не мода «от кутюр». Но дело все в том, что и рынок алюминиевого проката — это рынок брендов, а русские имена на нем неизвестны (притом что алюминий в слитках — традиционный экспортный продукт нашей страны). Если мне нужен прокат или профиль, то я звоню в «Alcoa» или в несколько других фирм с мировыми именами. Если продукция СМЗ и БКМПО выходит на рынок с брендом «Alcoa», то это нормально. Никого не интересует, русский ли это продукт или, скажем, индийский. (Я даже думаю, что русский прокат от «Alcoa» будет продаваться лучше.) Но важно лишь то, что они выходят под маркой «Alcoa».
Интересно, что представители «Интерроса» то же самое говорили о рынке энергетического машиностроения: или мы продаем «Силовые машины» «Siemens», или у российской продукции в долгосрочной перспективе нет шансов на мировом рынке.
Эта проблема хорошо известна, но как ее решать, не очень понятно. Россия закрепилась на мировом рынке в очень узком сегменте. За исключением сырья, это отдельные продукты высоких технологий, созданные еще в советский период, с небольшим потенциалом продаж. За 15 лет Россия не создала практически ни одного бренда, за исключением, скажем, соков «Вимм-Билль-Данн», экспорт которых недавно начался в страны ЕС.
Конечно, можно возразить, что это дело наживное. (У Израиля, например, тоже долгое время не было ни одного бренда.) Может быть. Но тогда нужно проводить специальную государственную политику по втягиванию максимального числа активных россиян в мировое экономическое пространство. Нужно добиваться того, чтобы каждый завскладом в Самаре мог позвонить и на английском языке поговорить со своим партнером из Индии. А каждый заместитель директора мог провести по телефону ответственные финансовые переговоры, каждый выпускник экономического или даже инженерного факультета мог написать и презентировать для иностранных инвесторов бизнес-план и т. д. (В Израиле, по моим наблюдениям, эмигрант вполне может быть преуспевающим инженером, врачом или исследователем, серьезно не владея ивритом. Достичь же успеха, не владея свободно английским, значительно труднее. Отчеты о научных исследованиях, например, часто сначала пишутся на английском языке, а уже потом переводятся на иврит.)
Такой сознательной и последовательной политики по втягиванию России в мировое экономическое пространство я пока не вижу. Вместо этого в качестве панацеи выдвигается идея о насыщении и развитии внутреннего рынка, как будто бы мы — большая экономика. Но подавляющее большинство крупных отече ственных предприятий может быть по-настоящему успешным только тогда, когда они будут работать и на внутренний, и на внешний рынок. Очень бы хотелось, чтобы каждый студент знал об этом с третьего курса.
Какие рекомендации вы могли бы дать по минимизации последствий негативных явлений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса?
Негативные последствия можно уменьшить, во-первых, локализовав судебные атаки на бизнес. Они должны или прекратиться вообще, или проводиться очень редко, с четким указанием политических оснований и мотивов. Нормально, если власть объяснит эти мотивы. Условно говоря, мы засадили толстосума Х не для того, чтобы бизнес у него отнять, а потому что он на президента умышлял. Демократы возмутятся, а вот рынок отреагирует вполне спокойно. (Короли и в просвещенной Европе, бывало, отдавали своих ростовщиков инквизиции.)
Во-вторых, я считаю большой глупостью отказ государства от проектов, которые бизнес инициирует и готов реализовать за свой счет. Таких, например, как строительство нефтепровода Западная Сибирь — Мурманск. Все идеи бизнеса должны априори оцениваться положительно, а не находиться под подозрением в антигосударственности. Антигосударственный характер можно приписать любому проекту, достаточно только привлечь к этому вопросу несколько умных ребят.
В-третьих, нужно понять очень простую вещь. Основные деньги, которые мы можем заработать, находятся не в России, а в мире. А значит важнейший элемент государственной экономической политики — это политика привлечения денег с мирового фондового и финансового рынков. Даже не от стратегических инвесторов, а именно с рынка. Там их больше, чем у всех «Microsoft», «General Electric», «General Motors» вместе взятых. И очень нужно, чтобы эти деньги к нам приходили и вливались в нашу экономику.
Что же касается популярной сейчас темы частно-государственного партнерства, то таких программ и проектов, на мой взгляд, не должно быть много. Они могут реализовываться только там, где есть осмысленная и ограниченная цель и легко проверяемые критерии ее достижения, а также есть априори заинтересованный партнер со стороны бизнеса. Если он готов осуществить 70 или 80 процентов расходов и просит от государства 20 или 30 процентов, то это нормально. А вот если бизнес берет на себя только половину — тут уже есть хороший повод задуматься над тем, нужна ли такая программа вообще и не устраивается ли здесь очередная «воровайка». В отличие от ультралибералов я не считаю, что все, что не требуется рынку, не имеет права на существование. Какие-то важные для государства и общества вещи должны существовать, даже если они не являются рыночно эффективными, но их не должно быть слишком много, и они должны быть стране по карману.
[1] Сокр. от англ. initial public offering — первичное размещение компанией своих акций на рынке. — Примеч. ред.
