Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Идея нормы
Слово «норма» обычно употребляется в двух разных смыслах, которые мы не очень привыкли разделять. С одной стороны, «норма» — это стандарт, пример, единица дисциплинирующей традиции. С другой стороны, это «среднее значение» (как, например, на кривой Гаусса, показывающей нормальное распределение в теории вероятностей[1]). Из-за смешения этих двух смыслов нормы, объединенных в диалектическом понятии «нормальности», возникает как минимум одно ложное представление. Оно выглядит так: «норма — насильно навязываемая, искусственно вычерченная средняя статистическая величина». Тут все невпопад: и насилие ни при чем, и искусственность не искусственная. Чтобы понять это, надо увидеть, как норма возникает из античного этицизма.
Две нормы европейской традиции
У нормы в европейской традиции есть историческая траектория, которая ведет от максимальной детерминированности, максимальной иерархичности и максимальной унификации общественного поведения к все большему релятивизму. Естественно, что первой точке соответствует архаическое общество, а дальнейшее развитие определено модерном и постмодерном. По пути следования из попытки удержания унификации возникает сначала представление о девиации. А уже в ответ на него — антинорма. Постепенно теряется понимание денотата, ценностей, охраняемых нормами, сами нормы (и антинормы в том числе) превращаются в псевдонормы, а затем и в элементы плюральности, чтобы в конце концов стать совсем факультативными (например, модой или конформностью). И появляется уже норма как чистая дескрипция, как невовлеченная величина. Такая траектория задана историей понятия, к которой мы и обратимся.
Слово «норма» — латинское, и его cмысл уже знали в Древнем Риме, это был квадрат или угольник плотника, инструмент, поверяющий прямые углы. Норма права, норма речи — вполне римские понятия. Однако даже в Риме знали, что нормирование и «нормативизация»[2] растут из греческой этики и именно к ней в общем сводятся. Именно в греческой этике были введены понятия меры (μέτρον) должного (πρέπον, decus), полезного (χρήσιμον) и вредного (βλαβερόν) Греки не пользовались латинским словом, которое нас интересует, но два понятия были очень близки к нему: вышеупомянутая мера и предел (πέρας) В сущности понятие нормы складывается именно из этих базовых понятий, иначе говоря, этика есть такая область деятельности человеческого духа, где пределы естественны, а роль меры фундаментальна. И Гесиод с его «Меру во всем соблюдай» (μέτρα φυλάσσεσθαι), и Фокилид с его «всего лучше мера» (πάντων μέτρον άριστον), и Пифагор с его «во всем мера — лучшее» (Μέτρον επί πᾶσιν άριστον)[3] имеют в виду именно умеренность как выражение нормы.
Как сказано выше, основные понятия, вокруг которых выстроена нормативность, — понятия этические. Слово этика придумал, видимо, Аристотель, который назвал так философию «обычного», помещаемую между психологией и политикой. Стагирита интересовало, как и его учителя Платона, счастье, особенно в его отношении к образу жизни и добродетелям. Развернутое обсуждение добродетелей и их классификации, составляющее предмет «Никомаховой этики», привели Аристотеля к учению о том, что добродетель есть среднее[4]. Иначе говоря, в отношении любого качества или этического свойства мы можем выделить два экстремума, избыток и недостаток, а добродетелью будет находящееся между ними.
Уверенность: трусость — мужество — безрассудство
Страх: бесстрашие — храбрость — трусость
Наслаждение: бесстрастие — умеренность — распущенность
Стыд: застенчивость — скромность — бесстыдство
Деятельность человека направлена к счастью и состоит в практике именно добродетелей. Идеал «созерцательной жизни» (этой знаменитой vita contemplativa) практически не включает вопроса о трансцендентных основаниях добродетелей и того, что римляне назовут нормой. Лишь в «Евдемовой этике», подлинность которой вызывает некоторые сомнения, Аристотель указывает на божественный идеал, объединяющий все мотивы человеческой деятельности и лежащий в основе всех поступков (как сознательных, так и интуитивных), и приходит к пониманию истинного счастья как созерцания Бога, раскрывая данное ранее определение: «Счастье есть деятельность совершенной жизни в соответствии с совершенной добродетелью»[5].
Аристотель обосновал норму как «среднее», как добродетель, но родиной интуиции, лежащей в основе нормы, надо все же считать стоическую традицию. Именно стоическое учение о мировых этических законах, которым человек повинуется сознательно, легло в основание идеи нормативности. Добродетель, как писал Сенека, это знание. Вера в силу знания и логики привела стоиков к идее существования абсолютных правил поведения, имеющих характер закона. Далее стоики развили идею «среднего» в сторону осознанного стремления к «среднему». Цицерон, рассуждая об умеренности, писал в трактате «О пределах»: «К сдержанности (temperantia) следует стремиться не ради нее самой, но потому, что она приносит в наши души мир, успокаивая их и смягчая рождающимся в них согласием. Ведь сдержанность есть то, что напоминает нам о необходимости следовать разуму, выбирая, к чему стремиться, а чего избегать. Ибо недостаточно решить, что следует и чего не следует делать, но необходимо твердо придерживаться однажды принятого решения. Большинство же, не будучи в состоянии удержать и сохранить то, что сами же они решили, побежденные и бессильные перед явившимся им образом наслаждений, отдаются на милость желаниям, позволяя связать себя, не предвидя, что произойдет, и поэтому ради незначительного и вовсе не нужного им наслаждения, которое может быть добыто иным путем и без которого можно к тому же совершенно безболезненно обойтись, они обрекают себя на тяжкие страдания, лишения, позор, а нередко подвергаются и законному наказанию по суду»[6]. Цицерон вслед за стоиками видит в умеренности и осторожности главный залог правильной жизни гражданина. Тем самым перед нами вырисовывается следующая картина: античный мир признает, что человек неосознанно стремится к гармонии, счастью. На этом пути он сталкивается с долженствованием и необходимостью следования «среднему», добродетели. А осознавая непреложность и объективную сущность нравственных законов, человек соблюдает их в согласии с разумом.
Было бы не вполне ответственно не упомянуть понятие «золотой середины» (μεσότης, aurea mediocritas) с ее «ничего слишком» (Μηδὲν ἄγαν) как эстетического выражения нормы. Конечно, в чистом творчестве, как оно понимается сейчас, норма едва ли жестко определима. Но в античном искусстве, как и в средневековом, существовало множество рамок и правил, всевозможных «канонов» и стандартов, которые перешли в средневековое искусство и иконопись, фактически став нормами живописи и архитектуры до возникновения нового искусства.
Именно поэтому выводить понятие нормы только из этической философии неверно. Величайшим достижением Рима как цивилизации было создание правовой системы, где также были свои нормы, рефлексия которых имеет прямое отношение к современному представлению о норме. Все античные юристы признавали наличие в обществе «неписаных законов», о которых писали еще греческие философы-досократики. Неписаным источником права в Риме было обычное право или, говоря современным языком, совокупность правовых обычаев. Под правовым обычаем в Риме понимается правило поведения, сложившееся вследствие его фактического применения в течение длительного времени. Римский юрист Сальвий Юлиан писал также о «молчаливом согласии общества» на его применение. Нормы обычного права включали обычаи предков (mores maiorum); обычную практику или узус (usus); сочинения жрецов (commentarii pontificum), объясняющих нормы и практику магистратов (commentarii magistratuum). В императорский период обычное право именуется термином consuetudo. Конечно, в праве главное место принадлежит «правилам» (regula), но обычаи и примеры (прецеденты) по сути формируют подложку, основу для существования правил. Можно сказать, что в античном обществе гражданин полиса жил в ситуации высокой нормированности поведения, определенной как система писаных (νόμοι, leges) и неписаных (ἤθη, consuetudines) правил. Для более взыскательных мыслителей философия предлагала идею неписаного закона для следования добродетели как среднему пути между крайностей.
Христианская норма Европы
Сформировавшая европейское христианское мировоззрение библейская и патристическая традиция рассматривала библейское откровение как отражение непреложного закона, данного Богом человеку. Соответственно понятие нормы в той мере, в какой оно могло быть применено в богословии, определялось терминами «заповедь» / «заповеди», «закон Бога», «долг христианина». Впрочем, всегда были и пограничные требования, которые отцы церкви старались обозначить как нежесткие. К таким пограничным понятиям, например, относится требование нищеты, выраженное в Нагорной проповеди как заповедь блаженства «Блаженны нищие духом», а также в истории о богатом юноше[7]. Христос фактически провозглашает отказ от имущества и бедность в качестве нормы для своего последователя, что вызывает печаль у юноши. То же касалось оставления семьи и дома ради следования за Христом. Но то, что было можно представить себе как норму для члена эсхатологической и мистической еврейской секты, не могло устроить церковь, включавшую сотни тысяч верующих в Римской империи. И уже во II веке александрийский философ-проповедник Климент пишет сочинение «Какой богатый спасется» (Τίς ὁ πλούσιος σώζεται;), в котором дает по сути иной ответ, нежели основатель христианства. Он пишет, что слова Христа нужно было понимать не буквально как требование о пожертвовании всей собственности, а только о внутреннем духовном отрешении сердца от разнузданных страстей и трате имущества на бедных. Богатство само по себе нравственно безразлично, злом или добром оно становится вследствие своего употребления. Продажа богатств, следовательно, означает очищение сердца от пороков и беспорядочных движений, которые и в душе человека, не имеющего никаких средств, могут существовать в форме алчности.
Помимо юридических коллекций так называемых канонов (церковных правил) важным выражением норм в христианстве стали различные сборники правил нравственных и общежительных и так называемые уставы, самым известным из которых считается «Этика» Василия Кесарийского[8]. Великий Каппадокиец показывает, что евангельские заповеди суть де-факто критерии нормы, каковы праведность (zadikūthā, δικαιότης) любовь к Богу и любовь к ближнему. В условиях конкордата государства и церкви общество Византии усвоило христианские принципы как норму. Экземплификация, то есть нарративные примеры, подкрепляющие норму, создавала житийная литература. Постепенно в процессе дисциплинирования христианского населения в Византии достаточно четко обозначились границы нормы как в этике, так и в быту. Впрочем, это не мешало царям, патриархам и чиновникам нарушать эти нормы и даже каноны с законами. В каноническом праве даже выделяется особая категория действий и поведения — церковных обычаев, преданий, которые нормативны для христиан, но не являются правилами, обеспеченными санкциями. «Так принято делать» или «таково церковное предание». При молитве обычно стоят лицом на восток, но нет канона, требующего этого, ибо это норма.

Основатель новой европейской этической философии Иммануил Кант, как известно, выдвинул учение об автономии морали: утверждая свободу, человек выступает творцом собственного нравственного мира, он сам себе предписывает закон действий. Конечно, тут трудно не вспомнить декартов принцип очевидности: «...никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью... включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не даст мне никакого повода подвергать их сомнению». Это в принципе гвоздь в философский гроб нормативности. Кант же провозглашает нравственную установку, отличающуюся радикализмом: «Эти законы повелевают безусловно, каков бы ни был исход их исполнения, более того, они даже заставляют совершенно отвлечься от него», людям «достаточно того, что они исполняют свой долг, что бы ни было с земной жизнью и даже если бы в ней, быть может никогда не совпадали счастье и достойность его». Проблема автономности этики означает у Канта, что человек выступает собственным (и одновременно всеобщим) законодателем и нормативистом. Провозглашая нравственный закон единственным критерием нравственности, Кант заботится о «строгом образе мыслей», подчиняющем суждения и действия «принципу исключения между добрым и злым». Он пишет: «Для учения о нравственности вообще очень важно не допускать, насколько возможно, никакой моральной середины ни в поступках, ни в человеческих характерах, так как при такой двойственности всем максимам грозит опасность утратить определенность и устойчивость». Принцип долга главенствует над всем, и «наклонность умствовать наперекор строгим законам долга и подвергать сомнениям их силу, по крайней мере их чистоту и строгость, а также, где это только возможно, делать их более соответствующими нашим желаниям и склонностям, то есть в корне подрывать их и лишать всего их достоинства, что в конце концов не может одобрить даже обыденный практический разум»[9]. Именно в имманентном нравственном долге находится для Канта онтологическое основание нормы.
Защищая вполне стоическое здравомыслие, кёнигсбергский философ обращается к главному европейскому понятию свободы. Свобода для Канта означает не беспричинность, а способность разумного существа самому устанавливать для себя закон в качестве необходимого и универсального. Когда человек сам налагает на себя закон, но при этом такой, который может быть одновременно законом всеобщим, распространяющимся на все человечество (знаменитый кантовский «категорический императив»), тогда он свободен. Таким образом, норма у Канта, как и у стоиков, предполагает сознательное и свободное ее принятие. Такая норма действительно имеет имманентный характер, и она есть внешнее по отношению к субъекту: чтобы норма была нормой, она должна быть принята свободно.
Медицинская норма и биоэтическая проекция
В самом начале медицинской традиции в Греции возникло представление о физиологической норме[10]. Оно было обусловлено накоплением большого статистического массива наблюдений, происходившего от организации медицины гиппократовского типа. Поскольку сама идея «здоровья» (ὑγίεια, salus) была для терапевтической медицины чисто умозрительной, ибо непонятно было, через что оно определяется, уже Гиппократ придумал естественный критерий, который впоследствии развил Аристотель в De partibus animalium, а за ним Гален. Организм мог действовать κατὰ φύσιν (по природе), а мог παρὰ φύσιν (вопреки природе, противоестественно). Но терапия была слабой и гадательной без теории устройства и функционирования человеческого организма. Поэтому александрийские врачи Герофил и Эрасистрат основали физиологию и патофизиологию, а также научную анатомию[11]. Именно они сформулировали предмет физиологии — нормальный здоровый организм, функционирующий в согласии с тем, что Гиппократ назвал «природой». Иначе говоря, для физиологии предметом оказались условия нормы. Физиологическая норма — это биологический «оптимум жизнедеятельности» организма, точнее, пределы оптимума его функций. Так появилась физиологическая норма в медицине, сделавшая возможным плановое обследование здоровья, которое из абстрактной идеи Гиппократа превратилось в серию нормативных показателей, все более усложняющихся по мере развития диагностических методик. С развитием патологии вообще и нозологии в частности множился набор признаков, определяющих норму как отсутствие патологических проявлений.
8 отличие от описательной медицинской нормы социальная нормативизация сознательно или подсознательно опирается на механизмы биосоциальной адаптации. В рамках любой популяции существует ряд показателей (прежде всего связанных с размножением и его численными показателями), описывающих «популяционную норму». Этими показателями пользуются биологи, особенно популяционные биологи и этологи. Но помимо инструментальной функции биологическая популяционная норма есть важный показатель жизнеспособности популяции, ее эволюционных преимуществ. В этом смысле норма служит целям экологического контроля и анализа. Поэтому социальная норма, обозначающая диапазон приемлемости какого-то параметра, в целом может быть интерпретирована как экологическая. Классический пример — регулирование (как искусственное, так и саморегулирование) рождаемости. В РСФСР многодетность оставалась нормой в деревнях до 1950-х годов, а в городах детей было меньше. Брежневская норма один-два ребенка на семью была естественной реакцией на недостаток ресурсов вкупе с возросшими потребностями. В Китае нормативизация происходила искусственно: регулирование семьи ввело норму, но все равно смысл нормы был в популяционном процессе. Впрочем, тема биологического обоснования социальных норм шире, чем просто популяционные процессы. Можно с некоторой осторожностью говорить о биологическом обосновании этического вообще. Так, психофизиолог Д. А. Жуков[12] обсуждает библейские заповеди (важный нормативный текст европейской традиции) с биологической точки зрения и приходит к выводу, что они все обусловлены именно популяционной биологией, выживанием народа.

Культуролог Константин Фрумкин как-то резонно заметил, что «представления о добре и зле, об этических ценностях исходно возникают путем умозрительного проецирования феноменальных свойств приятных и неприятных субъективных ощущений на объективные (представляющиеся объективными) процессы и события. Поэтому когда в рамках нормативности формулируются оценки или требования в терминах добра и зла («что такое хорошо и что такое плохо»), слова «хорошо» и «плохо» используются в переносном, метафорическом смысле, как будто оцениваемые события (например, «недолжное поведение») обладают феноменальными свойствами ощущений. Моральная риторика пытается установить прочную ассоциативную связь между оцениваемыми событиями и базовыми субъективными представлениями о хорошем и плохом как феноменально очевидном. В сущности моральная риторика, вообще дискурс добра и зла идут по сценарию выработки условного рефлекса, подобно тому, как экспериментаторы заставляют собаку ассоциировать съедение куска мяса с ударом током»[13]. Фрумкин отчасти прав в том, что нормативность — это воспитание масс почти на биологическом уровне. Нормативность — часть выработки рефлекторных реакций.
Нормативизирующий текст
В истории социальной нормы и как стандарта, и как «среднего» выделяется такой важный ее компонент, как нормативизирующий текст. В случае с правовыми нормами им выступают комментарии к кодифицированному праву и сама практика правоприменения. Там описаны стандарты. В случае с социальными нормами сложнее: эти нормы «прописаны» в текстах разных нарративов, содержащих примеры, а также в дидактических и пропагандистских текстах. Нарративы — это различная агиография, от житий святых до жизнеописаний замечательных людей или пионеров-героев. Дидактика строится на нормативности, и, чтобы быть дидактичной, она должна эти нормы содержать. Но нормативные тексты нередко транслируют норму не напрямую, а через идеал, оставляя читателю (слушателю) способ подражания. Пример нормативного текста — житие святого, которое устроено так, чтобы христианский читатель подражал ему, но с поправкой на радикальную сущность идеала. Нормативность житийных текстов многократно исследована как агиологами (болландистами прежде всего), так и литературоведами, изучающими структуру нарратива[14]. Нормативный житийный текст не является особенностью христианской традиции, есть такие тексты и в конфуцианском Китае, и в исламском мире. Но особенности развития европейской литературы сделали именно жития святых наиболее эффективными проводниками христианских этических норм. Миллионы средневековых христиан в Западной Европе, Византии и на Руси читали жития (на Руси это называлось «святцы», «четьи-Минеи»), черпая в них для себя нормативные представления. В постхристианскую эпоху роль житийной литературы взяли на себя другие жанры: рассказы о героях, образцовые биографии («жизни замечательных людей», если пользоваться горьковским языком) и т. д.
В эпоху интернета нормативный текст все более теряет жанровые признаки жития, растворяясь в новых типах. Однако рассказы о людях с позитивной коннотацией по-прежнему пользуются спросом и в СМИ, и в блогах. Это показывает, что распространение нормы хотя и продолжается отчасти через нормативные тексты, все большая роль в нормативизации достается кинофильмам, компьютерным играм, блогосфере и телешоу. Именно там следует искать границы новых норм. В таких медиатекстах при помощи пиар-технологий возникает та самая новая быстрая посткультурная нормативность, которая, на наш взгляд, представляет если не угрозу, то серьезный вызов традиционно ориентированным ценностным позициям.
Итоги нормы
Совершенно очевидно, что нормы носят дисциплинирующий характер и имеют отношение к обучению в широком социальном смысле. Социологи вслед за Дюркгеймом выделяют два пути или способа такого дисциплинирования: интернализация нормы и ее институализация[15]. В первом случае норма проникает в сознание человека (или группы людей) и становится его внутренней установкой. Во втором она превращается в закон и формализуется. Отклонение от норм наказывается санкциями.
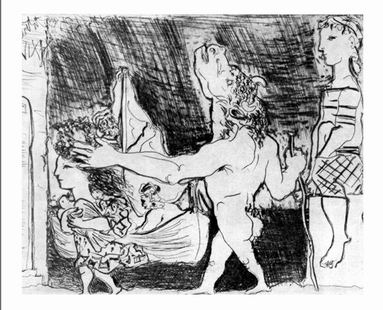
Эти два способа могут выступать как взаимодополняющие, или стадиальные. В интернализации нормы можно выделить этап адаптации, включающий привыкание и преувеличенное исполнительство, и этап рутинизации, когда норма становится частью психологического мира. Институализация нормы происходит также как часть социализации личности, но норма устанавливается уже не на психологическом, а на юридическом или ином формальном уровне. В этом случае норма свободна, и даже есть формальное выражение свободы в социальной сфере. Она связана с усреднением, с выведением средней траектории относительно образцов или идеалов. В процессе социализации норма становится правилом поведения и формой внешней и внутренней регуляции. Она работает как ожидание соответствующего поведения и служит общим указанием для социального действия. Человеческое поведение тогда обнаруживает определенную упорядоченность, которая является результатом следования общим социальным нормам.
Вообще говоря, социальная норма — это не обязательно реальное поведение, это нормативное поведение — то, которое занимает срединное положение в диапазоне приемлемости. Именно поэтому для нормы необходимы упомянутые выше тексты и примеры. Поскольку термин «норма» обозначает, как уже указывалось, социальные ожидания «правильного» или «надлежащего» поведения, нормы предполагают наличие легитимности, согласия и предписания[16]. Это значит, что процесс становления нормы есть одновременно контракт и подтверждение права на дисциплинирование. Понятие норм также подразумевает понятие социального контроля, то есть положительных или отрицательных средств обеспечения конформности и применения санкций к отклоняющемуся (девиантному) поведению. Невыполненные ожидания — это нарушение контракта.
Дюркгеймов «нравственный порядок» в современном функционализме, особенно у Толкотта Парсонса, превратился в понятие нормативного порядка, главный элемент общественной системы. Идея функционалистской нормы связана с ролями, имеющимися на каждом уровне общества. «Социетальная» общность, которой оперирует американский социолог, есть коллектив людей, который охвачен нормативной системой. Нормы, чтобы служить руководством к действию для отдельных индивидов и групп, должны быть согласованы между собой и непротиворечивы в отношении предполагаемых ими поведенческих ожиданий. Система норм должна быть непротиворечивой и на уровне «социетальной» системы в целом, коллектив должен воспринимать ее как твердо определенную. Проще говоря, у Парсонса норма (понимаемая как весь путь от обычая до нормы права) — главный механизм самоорганизации общества. Социальное действие предполагает сохранение ценностей и норм в обществе, и признаком высокоорганизованного общества надо считать именно формализацию норм, превращение их в правила. Тут, правда, надо ограничить рассуждение Парсонса генезисом правовой нормы из социальной. Ибо те нормы, которые не закреплены жестко, или нормы-конвенции пребывают вне этой логики.
После разложения традиционного общества и возникновения разных форм общества нового типа социальная норма в них все более осознается как внешний стандарт. Под напором плюральности все нормы стали слабыми, потенциал контроля все меньше. Вот, например, гигиенические нормы. Еще недавно казалось, что универсализм царит повсюду, и если в обществе принято, условно говоря, чистить зубы, то маргинализация не чистящих наступает просто автоматически. Но современное общество выбирает партикуляристскую парадигму, и вот появляется экологическое движение против чистки зубов со своими аргументами. Осознание логичности (оправданности) нормы, увы, ничему не помогает. Социальная педагогика старого типа с ее педалированием нормативности уступает место конкуренции норм, плюральности, в частности норм этических, что естественно вызывает смущение у традиционалистов, к которым осознанно или неосознанно принадлежит большинство жителей нашей страны. Это смущение (в сильной фазе — фрустрацию) вызывает эволюционное движение нормативности от имманентной традиционной нормы к растущей конкуренции и плюральности норм.
[1] Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М., 2005. С. 72—80, 115—116.
[2] Этим неловким термином придется обозначить процесс возникновения и функционирования норм, а за «нормированием» оставить привычное значение «задание параметров через нормы» (нормирование дня, пищи и т. д.).
[3] Hes. Op. 694; Phocylides, Гуйцси, 36; Pythagoras Xp. Еяг|, 38.
[4] Ср.: Умеренность лучшее и среднее (To цйтрюу apioxov xca то n&rov, Аристотель. Политика, 1295b).
[5] Aristhot. Eth. Eudem. VIII, 3/ II, 1219а, 38.
[6] Cicero. De fin. I, XVI (47).
[7] Евангелие от Луки, 18, 18—27.
[8] Василий Великий. Нравственные правила. М., 2010. Помимо этого сборника Василий написал для своей общины «усердствующих» полноценный устав с правилами жизни.
[9] Об изначально злом в человеческой природе: Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 4. Ч. 2. С. 23.
[10] Nutton V. Ancient medicine. Routledge, 2012. P. 19—35.
[11] Nutton V. Op. cit. 128—156; von Staden H. Herophilus: the art ofmedicine in early Alexandria: edition, translation and essays. Cambridge, 1989.
[12] Жуков Д. Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей. М., 2014.
[14] Delehaye H. L'oeuvre des bollandistes к travers trois siecles: 1615—1915. Bruxelles, 1959. См. также: Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. СПб., 2009 (рец.: Виноградов А. Ю. Два отечественных введения в агиографию (рецензия) //Вестник древней истории. 2012. №. 1. С. 182—195).
[15] BergerP., Luckmann T. The social construction of reality. NY, 1966.
[16] Лавров И. В. Институты благосостояния: теория, методология, проблематика // СИСП. 2012. № 12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/instituty-blagosostoyaniya-teoriya-metodologiya-problematika
