Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Повелители знания, или свинья под дубом в эпоху НТР
Однажды Никите Сергеевичу Хрущеву показали документальный фильм о работе советских заповедников. Совершенно неожиданно один из эпизодов фильма, повествовавший об исследовательской работе сотрудников заповедника, вызвал у главы партии и правительства вспышку гнева: «Это что же такое?! Здоровый мужик с высшим образованием целый день ни хрена не делает, только смотрит, как белочка шишки грызет! Это что — работа?! Это его для этого столько лет учили?! За это мы ему зарплату платим?!!» Последствия не заставили себя долго ждать: в 1959 году в СССР произошел разгром системы государственных природных заповедников, только-только начавшей приходить в себя после погрома, случившегося восемью годами ранее. Причем на этот раз наиболее тяжкий удар пришелся именно на научные отделы.
Конечно, злополучный киносеанс лег на благодатную почву: Хрущев всегда питал недоверие и к науке, и к ученым, упорно видя в них потенциальных тунеядцев, пользующихся тем, что результативность их работы трудно контролировать, а потому постоянно норовящих побездельничать за государственный счет[1]. Впрочем, в этом своем мнении Никита Сергеевич был не одинок. «Главная забота профессоров — стараться всегда о прибавке своего жалованья, получать разными происками ранги великие и ничего за то не делать под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения, но любят свободу», — писал двумя столетиями ранее президент Петербургской академии Кирилл Разумовский — 18-летний мальчишка, вознесенный в кресло главы академии альковными заслугами старшего брата. Однако в отличие от юного президента пожилой первый секретарь в принципе имел возможность оглянуться на исторический опыт — тем более что самые яркие и страшные эпизоды этого опыта творились не только на его глазах, но и с его деятельным участием.
Ласковый взгляд Горгоны
Если забить в строку поисковика слова «наука и власть», не менее половины выпавших ссылок (по крайней мере из числа более или менее релевантных) будут вести к текстам, в которых одно из ключевых слов — фамилия Лысенко. «Народный академик» и его облеченные абсолютной властью покровители создали своего рода архетип, хрестоматийную схему вмешательства власти в фундаментальную науку. Невежественная и самоуверенная власть доверилась шарлатану и авантюристу, обеспечила ему возможность беспрепятственно воплощать самые дикие и абсурдные фантазии в масштабах всей страны, силой, угрозами и прямым физическим уничтожением несогласных подавила все попытки научного сообщества противостоять этому помрачению, в течение более чем полутора десятилетий старательно поддерживала господство этого гротескного персонажа в огромной области науки — и в конце концов закономерно осталась у разбитого корыта, обеспечив своей стране непоправимое отставание в биологии именно тогда, когда эта наука превратилась в основу самых передовых и многообещающих технологий. Во всей истории мировой науки трудно найти случай, хотя бы сопоставимый с эпопеей лысенковщины — как по радикальности и масштабам вмешательства государства в науку, так и по сокрушительности последствий. История выглядит настолько гротескной и невероятной, что многие пытаются найти ей хоть какое-то рациональное объяснение: гипнотические (или даже экстрасенсорные) способности самого Лысенко, хитроумная операция вражеских разведок, борьба за власть в высшем партийном руководстве, в которой и сами ученые, и защищаемые ими теории были лишь пешками и имели несчастье оказаться на проигравшей стороне... словом, что угодно, что хоть как-то могло бы уложиться в голове.
Между тем всякому, кто хотя бы поверхностно знаком с историей отечественной науки, известно, что лысенковщина была, возможно, самым ярким и масштабным, но отнюдь не уникальным явлением такого рода в СССР конца 40-х — начала 50-х годов прошлого века. Идеологическим погромам подвергся целый ряд фундаментальных дисциплин: физиология, химия и т. д. Причем если в генетике и смежных с ней областях (эволюционной теории, цитологии и других) в качестве «единственно верного» учения насаждалась бессвязная и внутренне противоречивая смесь из обрывков устаревших теорий, средневековых суеверий и собственных фантазий безграмотных «теоретиков», то, например, в физиологии идеологической основой для погрома стала вполне респектабельная и безусловно научная концепция — теория условных рефлексов Ивана Павлова. На результате это, впрочем, никак не сказалось: после «Павловской сессии» АН и АМН СССР, прошедшей в июне-июле 1950 года, серьезные фундаментальные исследования по физиологии оказались на некоторое время так же невозможны, как серьезные исследования по генетике после сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Ничего не меняла даже степень лояльности того или иного ученого новоявленному «символу веры»: ортодоксального павловца Леона Орбели травили и шельмовали едва ли не азартнее, чем еретика Петра Анохина. Отныне советским ученым оставалось лишь бесконечно подтверждать верность взглядов Павлова и Сеченова (и шире — устаревающей на глазах классической рефлексологии) на все новом и новом материале.
Еще более парадоксальный оборот приняли события в лингвистике. К концу 1940-х в ней была налицо типичная картина «предпогромного состояния»: активная группировка фанатиков и авантюристов вела яростную атаку на общепринятые теории и методы, используя в основном идеологизированную демагогию и инсинуации в адрес оппонентов. Идеологическим знаменем для этой кампании служило «новое учение о языке» Николая Марра — своеобразной и неоднозначной фигуры, человека, начинавшего как серьезный и перспективный ученый и превратившегося к концу жизни в сочинителя совершенных фантасмагорий, не имевших уже никакого отношения к реальной науке о языке. Сам Марр, правда, умер еще в 1934 году, но это, пожалуй, только облегчало задачу деятелям его «научной школы». В начале 1950 года Академия наук провела специальную сессию, посвященную 15-летию со дня смерти Марра и выдержанную в хвалебно-панегирическом тоне. Наиболее видных и стойких противников «нового учения о языке» начали потихоньку увольнять с работы. Участь научной лингвистики, казалось, была уже решена, но тут случилось чудо: 9 мая 1950 года не где-нибудь, а в «Правде», появилась статья мало кому в то время известного Арнольда Чикобавы с резкой (и вполне справедливой) критикой теории Марра. В течение последующего месяца с лишним главная газета страны усердно печатала полемические статьи по лингвистике, щепетильно, словно какая-нибудь «Нью-Йорк таймс», соблюдая баланс «марристов», «антимарристов» и сторонников компромиссной точки зрения. А 20 июня небеса разверзлись окончательно: очередным материалом в дискуссии стала статья «Марксизм и вопросы языкознания», в которой теория Марра подвергалась жесткой критике, научная лингвистика бралась под защиту, а ее оппонентам вежливо, но недвусмысленно напоминали элементарные правила научной полемики. С точки зрения любого знакомого с предметом читателя в статье не было ничего удивительного или необычного[2]... кроме имени автора — И. В. Сталин.

Иными словами, в лингвистике произошло именно то, на что горячо и отчаянно надеялись защитники советской биологии: великий вождь лично разобрался в споре науки и лженауки и решительно встал на сторону первой. Причем не в виде негласных устных распоряжений (как это было в случае с теоретической физикой, о чем речь пойдет ниже), а публично, с открытым забралом. И — для вящего торжества добра и справедливости — осудил научный монополизм и подмену научных аргументов политическими обвинениями и предостерег от «охоты на ведьм» в отношении поверженных оппонентов. Чего же еще и желать?
Оказалось, однако, что такой хеппи-энд по существу ничего не меняет. В течение последующих трех лет жизнь в советской лингвистике замерла почти так же, как в менее счастливых науках, — реальные исследования и научные дискуссии уступили место бесконечному «изучению» и цитированию сталинской статьи и «разоблачению» теории Марра. Не возымел видимого действия и призыв к свободе дискуссий и отказу от шельмования противников. Буквально через считанные дни после выхода сакраментальной статьи началась вышеупомянутая «Павловская сессия», проходившая по привычному инквизиционному сценарию. Можно считать, что в лингвистике был поставлен контрольный эксперимент, со всей наглядностью продемонстрировавший: дело не в том, что именно говорит всесильный властитель и чью именно сторону в научном споре он принимает, а в самом факте его вмешательства в научный спор.
Медузе Горгоне, вероятно, тоже случалось иногда глянуть на кого-нибудь ласково или ободряюще. Но это не спасало несчастного от превращения в камень.
Неарийские кванты
Советский Союз последних лет сталинского правления был, конечно, своеобразным рекордсменом: ни до ни после ни одно государство не разрушало собственную фундаментальную науку с такой глубиной и последовательностью[3]. Однако СССР был не только не одинок в этом самоубийственном занятии — он даже не первым его начал.
Еще в 1920-е годы группа немецких физиков заговорила об «арийской», или «немецкой», физике — настоящей истинной науке, которой противостоит деятельность окопавшихся в академических кругах расово чуждых элементов, и прежде всего, конечно, физиков-евреев. Понятно, что подобный методологический подход естественным образом сочетался с политическими симпатиями к партиям и организациям вполне определенной ориентации — и не в последнюю очередь к НСДАП, в поддержку которой наиболее видные деятели «арийской физики», нобелевские лауреаты Филипп Ленард и Йоханнес Штарк[4], недвусмысленно высказали в совместной газетной статье еще 8 мая (оцените иронию истории!) 1924 года. После прихода нацистов к власти физики-националисты получили долгожданные административные полномочия и принялись с усердием очищать научные учреждения Германии от «антинациональных» сотрудников. Вслед за физикой подобные процессы охватили и другие фундаментальные дисциплины, вплоть до психологии и археологии.

Казалось бы, коль скоро разделение ученых на «чистых» и «нечистых» проводилось не на основании их научных взглядов, а по их этническому происхождению, эта кампания могла привести к более или менее резкому снижению интеллектуального потенциала Германии — но не к полному блокированию исследований в обширных областях науки, как позже в СССР. Но все оказалось не так просто. «Еврейской физикой» и «отвратительным порождением азиатского духа» были объявлены целые направления в науке — в частности, теория относительности и квантовая механика, то есть фактически вся фундаментальная физика того времени. Собственно, ничего удивительного в этом не было: вероятно, главным фактором, приведшим Ленарда и Штарка к позорной роли нацификаторов науки, было именно то, что стареющие корифеи просто перестали понимать новую физику и ее язык. И по вполне понятному механизму психологической защиты приписали это непонимание не угасанию собственных интеллектуальных способностей, а тому, что тут, дескать, и понимать нечего: мол, все эти новомодные теории не имеют никакого отношения к действительности. Но тогда их все более многочисленные экспериментальные подтверждения и вообще триумфальное шествие по научному миру можно было объяснить уже только скоординированным заговором неких враждебных сил — на роль которых быстро нашлись подходящие кандидатуры.
«Еврейскому духу» же было приписано и то чрезмерное место, которое, по мнению основателей «арийской физики», стала играть теоретическая физика как таковая. По мнению Ленарда, в центре физики должен стоять эксперимент, теория же должна играть сугубо вспомогательную роль, не забираясь в дебри построений, которые невозможно проверить экспериментально; созданные теоретиками модели должны быть наглядно представимыми[5]. До такого, пожалуй, не договаривались даже ведущие теоретики «единственно верных учений» в СССР — хотя во всех антинаучных кампаниях шельмуемых ученых непременно обвиняли (в числе всего прочего) в «отрыве от практики», а саму науку всякий раз обещали развернуть лицом к нуждам народного хозяйства.

Впрочем, нацистских правителей больше интересовали сами фигуры Ленарда и Штарка (как безусловно авторитетных, признанных в мире ученых), нежели их философские и методологические взгляды. Выдавив из научных учреждений (а по большей части и из страны) ученых «неарийского» происхождения и предоставив «арийским физикам» составлять и контролировать учебные программы, нацисты, тем не менее, не препятствовали «чистокровным» ученым заниматься «еврейской физикой». Ленард и Штарк получали партийные награды, президентствовали в научных обществах и писали учебники, а тем временем физик-теоретик Карл Фридрих фон Вайцзеккер исследовал излучение, возникающее при столкновении сверхбыстрых электронов, и определял энергию связи в атомном ядре (очевидно, что ни ту ни другую проблему нельзя даже поставить, не прибегая к понятиям и аппарату квантовой и релятивистской физики). Лизу Мейтнер изгнали из науки и из страны, но ее соавторы Отто Хан и Фриц Штрассман продолжили начатые вместе с нею эксперименты с радиоактивными материалами, приведшие к открытию деления ядер урана. Начавшаяся война и замаячившая почти одновременно с ней возможность создания атомной бомбы еще более подорвали влияние «арийской физики» и укрепили позиции ее оппонентов.
В итоге в ноябре 1940 года произошло то, что немецкие физики в шутку назвали «Мюнхенским разговором о вере» — обстоятельные переговоры представительных групп «арийской» и нормальной физики, завершившиеся подписанием подробного формального соглашения. По сути дела это была капитуляция «арийской физики»: ее адепты выторговали только ритуальные оговорки о том, что квантовая физика и теория относительности «требуют дальнейшей проверки» и «более глубокого понимания» и что принятое в теории относительности четырехмерное представление физических процессов есть лишь «математическая абстракция». «Еврейские измышления» восстанавливались в правах как неотъемлемая часть современной физики и единственная возможность описания атомных процессов. Ленард, не участвовавший в «разговоре о вере», воспринял его итоги как измену соратников, но его мнение уже никого не интересовало. Расовая чистота научных теорий была принесена в жертву мечте о чудо-оружии.
Жертва, как известно, оказалась напрасной: до появления атомной бомбы рейх не дожил (хотя накануне превращения ядерной физики из сугубо фундаментальной области в сферу практических военных разработок в ней бесспорно лидировали именно немецкие ученые). Само по себе это может показаться исторической случайностью: ведь прикладные исследования и разработки в нацистской Германии часто опережали аналогичные работы в других странах. Достаточно вспомнить реактивную авиацию (Германия была единственной страной, успевшей до конца войны начать серийный выпуск боевых реактивных самолетов), программу «Фау», торпеды с акустическим самонаведением, широкомасштабное производство синтетического бензина и т. д. Технические эксперты союзников с завистью отзывались о попавших им в руки немецких красителях, искусственных каучуках, конденсаторах. Но все это так или иначе было усовершенствованием уже существовавших (хотя бы в виде принципиальных схем или лабораторных образцов) изобретений и разработок, реализацией фундаментальных идей, выдвинутых еще до установления нацистского режима.

Совсем по-другому выглядит атомная неудача рейха, если взглянуть на нее в контексте других научно-технических новинок, родившихся или получивших широкое распространение в 30—40-е годы: компьютер, голография, антибиотики, «зеленая революция»... Германская наука времен нацизма не сделала заметных шагов в этом направлении. И это невозможно объяснить ни отсутствием соответствующих научных школ или приборно-инструментальной базы, ни сосредоточенностью германской науки на военных задачах. В самом деле, военное значение тех же антибиотиков очевидно, а немецкие школы микробиологов и химиков были до войны в числе несомненных мировых лидеров.
У всех этих столь разнородных достижений есть одно общее свойство: для их появления на свет нужны были новые фундаментальные идеи или хотя бы новый, неожиданный взгляд на вещи, выход за пределы привычных направлений исследований. В обстановке, когда не только направление исследований, но и назначение или увольнение ведущих исследователей определялось нацистскими чиновниками на основе идеологической лояльности (а нередко — личных связей того или иного претендента и его способности к интригам и демагогии), такие идеи почему-то упорно не хотели рождаться даже у безусловно одаренных ученых. А родившись, не получали оценки по достоинству: для нацистских бонз, всерьез веривших в «учение о вечном льде»[6] и возможность превращения металлов в золото[7], настоящая наука была слишком непонятной и «оторванной от жизни».
Именем налогоплательщика
Разумеется, столь масштабные вивисекции над фундаментальной наукой возможны только в тоталитарных странах. Для неограниченных владык природа с ее демонстративным равнодушием к их величию и гениальным предначертаниям всегда представляла собой постоянный вызов — вспомним хотя бы Ксеркса, повелевшего выпороть море. Ученые, толкующие об объективных закономерностях и соотношениях и об ограничениях, которые они налагают на человеческие возможности, неизбежно должны восприниматься как нерадивые слуги, не сумевшие добиться полной покорности вверенной им области, да еще и имеющие дерзость утверждать, что это вообще невозможно. Отсюда возникал соблазн заменить этих ученых другими, более усердными и послушными, для которых нет ничего невозможного. Поразительное доверие «великих диктаторов» ко всякого рода шарлатанам, сохраняющееся даже после того, как проекты очередного «великого ученого» раз за разом проваливаются, — это оборотная сторона их имманентного, неистребимого недоверия к науке.
Разумеется, тираны и диктаторы учитывали собственный опыт и опыт своих «коллег». Как уже упоминалось выше, в конце 1940-х очередной погром готовился и в фундаментальной физике. Кампания борьбы с «физическим идеализмом», направленная против теории относительности и квантовой механики[8], шла полным ходом. Уже сложилась и активно выступала в печати ударная группа «патриотически мыслящих» физиков, и на 21 марта 1949 года было назначено открытие Всесоюзного совещания физиков, на котором вредные концепции (а заодно и разделяющие их ведущие физики, в том числе будущие нобелевские лауреаты Лев Ландау, Игорь Тамм и Петр Капица) должны были подвергнуться окончательному осуждению и соответствующим оргвыводам. Но буквально за несколько дней до начала оно было отменено — внезапно, негласно и без каких-либо объяснений. Злобные публикации еще продолжали некоторое время выходить, но погрома, аналогичного тому, что уже случился в генетике и вскоре предстоял в физиологии, не произошло. Видимо, Сталин — сам или с чьей-то помощью — осознал, что «наведение порядка» в физике оставит страну без ядерного оружия. Но при этом ему, похоже, так и не пришло в голову, что аналогичные действия в биологии оставят страну без мяса и масла: генетика все еще воспринималась как сугубо академическая дисциплина, которая не имеет отношения к урожаям и надоям и с которой поэтому можно творить все что угодно.
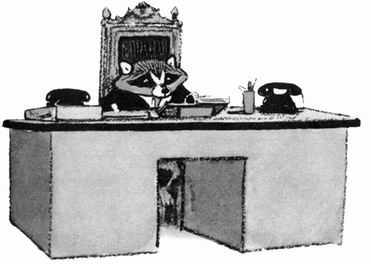
В странах с более сбалансированной системой власти (не обязательно даже демократических в нашем сегодняшнем понимании) до такого все-таки не доходит. Ни в прошлом, ни в позапрошлом веке невозможно представить себе, чтобы политический лидер или руководство правящей партии в Великобритании, Франции или США предписывали ученым, каких теорий они должны придерживаться. Не говоря уж о судилищах в духе сессии ВАСХНИЛ или этнических чистках научных кадров.
Тем не менее желание навести порядок в науке время от времени охватывает и политиков в этих странах. Так, например, 8 августа 1958 года сенатор Стюарт Симингтон обвинил не кого-нибудь, а знаменитую корпорацию РЭНД, любимое детище военной и научной элиты США, в том, что она якобы «изучает, как Соединенные Штаты должны сдаваться» своим врагам. На самом деле речь шла об исследовании под названием «Полная капитуляция», выполненном и обнародованном РЭНД незадолго до этого. В нем привлеченные корпорацией эксперты рассматривали эпизоды военной истории, в которых США требовали безоговорочной капитуляции от своих врагов, и оценивали, насколько такое требование в каждом из этих случаев можно считать оптимальным решением (например, не было бы выгоднее предложить противнику более мягкие условия мира и тем самым добиться прекращения его сопротивления раньше и с меньшими потерями). РЭНД немедленно выступила с необходимым разъяснением, однако это не предотвратило двухдневных дебатов в сенате, вылившихся в принятие закона, прямо запрещающего бюджетное финансирование любых исследований поражений или капитуляции (не отмененного, кстати, по сей день). А в сентябре 2006 года США сотряс скандал, когда выяснилось, что администрация Джорджа Буша-младшего с 2004 года настоятельно требовала от ученых, работающих в государственных учреждениях или по контракту с ними, избегать публичного обсуждения — не только в прессе, но и на университетских лекциях — темы глобального изменения климата (в ту пору администрация Буша подвергалась резкой критике внутри и вне страны за фактический выход США из Киотского протокола). К тем же годам относится скандальный запрет на финансирование из федерального бюджета исследований, требующих создания новых линий эмбриональных стволовых клеток человека — запрет, наложенный тем же Бушем из религиозных соображений.
Формально в этих запретах и ограничениях нет даже ничего криминального: как и любой донор финансовых средств, государство вправе решать, какие исследования оно намерено или не намерено финансировать и как поступать с добытыми в этих исследованиях знаниями. (Отметим, что ни в одном из этих скандальных случаев не было и речи об отказе от финансирования исследований, основанных на «неправильных» теоретических взглядах.) Тем не менее результат подобных вмешательств всякий раз оказывался хотя и не таким катастрофическим, как последствия идеологических кампаний в тоталитарных странах, но явно направленным в ту же сторону. Трудно сказать, насколько успешнее была бы внешняя политика и военные операции США в последние полвека, если бы их специалисты могли анализировать поражения: роль США в современном мире слишком уникальна, чтобы можно было сравнить их опыт с опытом других стран. А вот ограничения в климатологии и исследовании стволовых клеток заметно ослабили позиции США в области клеточных технологий и проблемы энергоэффективности.
Вопрос о том, насколько адекватно определяет перспективность и приоритетность исследований само научное сообщество, весьма интересен, но требует отдельного разговора. Здесь достаточно сказать, что каковы бы ни были издержки такого способа определения приоритетов, в долгосрочной перспективе любые другие опробованные человечеством подходы к этой проблеме оказываются гораздо хуже. Любая попытка управлять ходом развития науки на основании каких бы то ни было вненаучных соображений (как и выделение «доверенной группы» ученых, наделенных монопольным правом решать судьбы той или иной дисциплины) приводят в лучшем случае к проигрышу в развитии, чаще же — к расцвету всякого рода шарлатанов и имитаторов.
Если бы действие известной басни Крылова «Свинья под Дубом» происходило в наши дни, то современная Свинья, овладевшая элементарными навыками пиара и оттого еще более самонадеянная, наверняка заявила бы, что она вовсе не подрывает корни Дуба, а придает им правильное, общественно значимое и социально ответственное направление. Но это вряд ли предотвратило бы скорое падение урожая желудей.
[1] В конце своего правления Н. С. Хрущев совершенно серьезно рассматривал возможность упразднения Академии наук и передачи подведомственных ей исследовательских учреждений в «профильные» ведомства.
[2] Несколько позже крупнейший американский лингвист Ноам Хомский охарактеризует эту статью как «вполне разумную, но совершенно ничего не объясняющую» (perfectly reasonable but quite inilluminating).
[3] Впрочем, возможно, конкуренцию ему может составить Китай времен «культурной революции», где разрушению подвергались не только те или иные институции или исследовательские направления, но и сама социальная группа научных работников и даже в целом тот социальный слой, из которого они рекрутировались или могли быть рекрутированы. Но поскольку фундаментальные исследования в естественных науках в тот период в Китае находились в зачаточном состоянии, эта потеря оказалась менее заметной и полностью скрылась в тени других социальных последствий «культурной революции».
[4] Пожалуй, наиболее разительным отличием нацистской идеологизации науки от советской является то, что первые роли в «арийской науке» играли не полуграмотные выскочки и даже не научные посредственности, а действительно крупные ученые, порой с мировым именем. Причем, что называется, не за страх, а за совесть: Ленард и Штарк, например, начали свою кампанию и открыто связали себя с нацистской партией задолго до прихода последней к власти.
[5] В то же время в этой позиции Ленарда явственно слышится эхо основных идей «Второго позитивизма» (эмпириокритицизма), чрезвычайно популярных в научной среде в начале ХХ века, в годы наибольшей научной продуктивности будущего основателя «арийской физики».
[6] «Учение о вечном льде» (Welteislehre) — ненаучная космогоническая теория, выдвинутая в начале ХХ века австрийским инженером Гансом Хёрбигером на основе мистического прозрения. Согласно ей Вселенная образовалась из огромной массы льда, и значительная часть видимых небесных тел, включая Млечный путь, состоит из льда. Теория активно поддерживалась Гиммлером и идеологами СС в качестве примера достижений «арийской науки» в естествознании.
[7] На рубеже 1920—1930-х годов руководство НСДАП официально поддержало проект баварского жестянщика Франца Таузенда, объявившего о создании технологии превращения дешевых металлов в золото. Позднее Таузенд был уличен в мошенничестве и в 1931 году приговорен к нескольким годам тюрьмы.
[8] По иронии судьбы в сталинском СССР «идеалистическими» считались те самые направления физики, которые в гитлеровской Германии были объявлены «догматично-диалектическими» и едва ли не марксистскими. Этот пример показывает, что конкретное содержание той или иной тоталитарной идеологии не имеет ровно никакого значения: каково бы оно ни было, по-настоящему глубокие научные теории неизбежно окажутся враждебными ему.
