Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Социальное пространство как физическое: иллюзии и уловки
Чем обширнее объект, захватывающий обыденное восприятие и воображение, тем сильнее соблазн мыслить его естественно — как органическое или физическое единство. И чем глубже это единство погружено в напряженное течение политической борьбы и акробатику господства ее участников, тем тщательнее оно ограждается от лишних вопросов и размышлений. Естественность — центральная иллюзия господства. Она мягко пропитывает всю сложную ткань социального порядка, размывая социальные различия и скрывая их под общей поверхностью однородного и протяженного монолита: нация, традиция, территория, стабильность, неделимость...
Обыденный рассудок спонтанно воспринимает сложное как природное, а политическое господство усиливает его своим интересом, изначально выраженным в различии между жреческим знанием и знанием для профанов. Не случайно в публичных дебатах в остальном непримиримые политические противники обретают согласие в одном парадоксальном пункте: давайте перестанем заниматься политикой и займемся делом![1] Иначе и, возможно, более ясно этот пункт согласия звучит так: не будем выставлять наши внутренние дрязги перед избирателями! Такой призыв к порядку, вернее к политическому этикету, должен восстанавливать в глазах непосвященных иллюзорную гармонию системы господства (в форме государственных интересов, заботы о народе и общем благе), за которой скрывается множество профанных разногласий, стратегических разрывов и тактических смычек, образующих действительную материю политической жизни. Общее дело, к которому призывают друг друга политические противники, — это поддержание границы, по ту сторону которой респектабельность, единство и непостижимое знание народного блага обеспечивают их самыми «естественными» условиями господства.
Какова же механика, которая связывает иллюзии обыденного восприятия, профессиональные политические интересы и пространственное, физико-органическое определение социальных «вещей»? Начнем расколдовывать ее с последнего пункта — с физического взгляда на обширные социальные объекты и, в частности, на политико-географические границы, которые являются обыденному (и не только) восприятию как нечто естественное.
Если посмотреть на вопросы физической географии политически не предвзятым взглядом, нужно будет признать, что природное пространство безразлично к границам. В противоположность тому, что утверждает географическая морфология, которой, как у Карла Хаусхофера, возвращено органическое, если не духовное содержание, ни горы, ни реки, ни леса не содержат в себе естественной сущности границы, которую они неизбежно отдают политическому порядку. Они воплощают лишь неоднородность пространственной протяженности, которая в одних случаях используется (социально) как граница, а в других — вовсе нет. И если они выступают препятствием для физических перемещений, они остаются не более чем, пользуясь военным понятием, «рубежами», т. е. порогами политической экспансии и случайностью по отношению к тому политическому порядку, который, в свою очередь, является случайным по отношению к физической морфологии.[2]
Наиболее отчетливый пример политического произвола по отношению к чистым пространственным формам — это государственное административное деление, которое не подчиняется повсюду единому принципу (только физическому, этническому, промышленному и т. д.), а значит, не содержит в себе ничего, напоминающего естественный закон. История больших длительностей обнаруживает тот же исходный произвол и в формировании таких крупных политико-географических единств, как национальные государства с их границами и спорами вокруг границ. Производящий территорию принцип заключен не в физических свойствах самой территории, а в политической борьбе и вписанных в нее военных победах и поражениях. С изменением политического баланса сил изменяются географические границы или, по крайней мере, возникает повод к их пересмотру. Иными словами, пространственные границы — это социальные деления, которые принимают форму физических.
Итак, с географической точки зрения единая Россия едина повсюду. Значит ли это, что Татарстан — в той же мере Россия, что и Смоленская область, или все же вторая — больше Россия, чем первый? На этом скользком месте пространственной неопределенности, неявно опротестованной от имени государственных интересов, и начинаются сомнительные танцы геополитики. Заинтересованные профессионалы господства и ясности кружатся в вихре взаимно согласованных и взаимно подтверждающих определений. Фигуры этих танцев: единая нация, единая территория, цивилизационная общность (в целом, физические и органические монолиты), воскрешая «исконную» историю, удивительно неточны именно в историческом плане, но столь же удивительно отзывчивы к политическим требованиям стабильности и неделимости. Подменяя историю географией, а географию текущей политикой, они пытаются наделить актуальный политический порядок авторитетом всех возможных наук. Между тем, настоящее научное исследование всегда грозит обнаружить «исконное» разнообразие там, где привычно видится органическое единство.
Так, именно Фернан Бродель, чьи работы порою включаются в программы курсов по геополитике, на месте единой Франции, столь милой консервативному взгляду, восстановил историческое разнообразие и показал, что ее единство— совместный труд правителей и историков.[3] Настоящая научная работа с вопросами географии, истории или политики подозревает единство, углубляется в различия, проясняет происхождение. Если германцы, Европа или империя становятся отправными точками такой работы, они не могут пройти сквозь эту работу и выйти из нее все теми же неизменными органическими сущностями, какими они кажутся обыденному или политическому мышлению. Как указывал Бродель: «Нация, находящаяся в процессе становления или изменения, не является действующим лицом, “личностью”… Взрослым людям другая нужна история… открывающая взору самые невероятные сочетания и сплавы, самые поразительные повторения уже свершившихся событий, пласты времени, исполненные громадного смысла, фантастическую массу, содержащую вечно живое и по большей части не внятное сознанию наследие…»[4]

Действительно, чем более сложен и разнообразен в своих формах социальный объект, тем менее он «внятен сознанию», точнее непосредственному личному опыту, и тем больше специальных усилий требуется, чтобы установить его происхождение. И здесь от вопроса о профессиональных интересах политиков мы снова возвращаемся к обыденному, но уже политизированному восприятию. Предельный случай сложного и обширного объекта — весь социальный мир, история которого настолько несоразмерна личному опыту, что он предстает чем-то естественным. Мы можем сомневаться в его отдельных истинах или исследовать происхождение тех или иных установлений. Но даже совокупные усилия цеха историков или социологов не могут полностью расколдовать обыденный взгляд, который превращает социальный мир (и само его наличие) в нечто само собой разумеющееся. Для любого восприятия существует обширная область того, что не ставится под вопрос, не требует объяснений, не нуждается в историческом расследовании,т. е. воспринимается и используется как часть природы. Это своеобразная ловкость обыденного рассудка, который замещает чрезмерное, а потому интуитивно непостижимое разнообразие воображаемым единством. Вместо длительных изменений баланса сил, эволюции инструментов контроля, институциализированного стремления к дистанции и близости и т. д. перед обыденным рассудком в четких противопоставлениях являются естественные монолиты: Россия/Запад, мы/они, империя/цивилизация, государственный интерес / частная корысть…
Исходный произвол, постоянно воспроизводящаяся неоднородность, внутренние изменения и революции оказываются погребены под массой непостижимого социального тела, точнее под произведенной обыденным рассудком иллюзией единства, которая становится предметом активной политической эксплуатации.Источник постоянных изменений, социальные различия, поглощаются неразличимостью. И обыденная иллюзия, этот результат спонтанной ловкости и экономии сил, с легкостью порабощается столь привычными для холодного господства уловками: «нам нужна национальная идея».
Однако чем слабее связь с крупными ставками политической игры, тем менее действенным и востребованным становится единство на всех уровнях и любой ценой. То, что иллюзии обыденного восприятия, выдающего социальные различия за органическое единство, наиболее полно используются именно в политических целях, может показать пример, уводящий в сторону от политики — здесь наглядная и неоспоримая целостность уже не наделена столь безусловным значением. Речь идет о промышленных предприятиях, расположенных в городской черте. Точнее, о случаях, когда построенный в советское время производственный комплекс со своей территорией после акционирования или передачи его части в ведение другого собственника превращается в несколько формально независимых подразделений или предприятий. Объекты такого рода: прежде разветвленные, но централизованные службы быта, крупные промышленные или пищевые комбинаты, переприсвоенные несколькими старыми и новыми владельцами.
Осязаемое тело прежнего предприятия остается на своем месте, за одной оградой: ворота, дорожки, корпуса, столовая, гаражи — медленно старятся вместе. Изредка территории, принадлежащие разным собственникам, также могут разделяться забором, но гораздо чаще, окруженные общей оградой, они отграничены друг от друга тонким слоем поверхностных физических различий, отражающих глубину различий социальных: таблички с названиями фирм и должностями, отличие отделки и качества материалов (и даже давность последнего ремонта) в оформлении кабинетов и стен, одежда работников и секретарш, проходящих по коридорам… Однажды прибыльное подразделение или новое предприятие в составе старого — в лице его администрации, при изменившемся балансе сил — приобретает собственное здание на другой территории, позже эмансипируется от прежнего центрального предприятия, эволюционирует, сменяет ассортимент и состав наемных работников. На каком этапе этого сдержанного смещения границ в системе разделения труда и в разнообразии действующих на рынке сил можно говорить о появлении нового предприятия?
Этот риторический вопрос требуется вовсе не для того, чтобы предвосхитить простой ответ: ну конечно же, когда оно становится юридическим лицом! Напротив, наша цель состоит в том, чтобы показать: стоит только на одни пункт расширить область обозрения и включить в нее вопрос о происхождении, как иллюзия органико-юридической внятности рушится. Юридическое оформление — лишь важная частность и, в некотором смысле, завершающий этап в формировании нового предприятия. Но и до, и после этого акта, который придает сложному сцеплению практик и тактик видимость единого замысла и единого тела, развертывается малая история, колеблется баланс сил, намечаются и отпадают возможные исходы локальных столкновений, появляются новые (подраз)деления внутри предприятия и сливаются отделы… Одним словом, в тени иллюзии органического или юридического единства оказывается сам источник движения, которое в одних случаях приводит к появлению этой иллюзии, а в других — нет. Ограда предприятия, которая физически удостоверяет это единство, выполняет и свое прямое назначение — скрывает его отсутствие. Однако вопрос о единстве предприятия никогда не стоит с той остротой, какая присуща вопросам о единстве нации или целостности территории. Физическое тело предприятия — объект управления, но не политического господства — всегда сохраняет право на экономически оправданную разнородность.
Взяв за основу наиболее устойчивое и законченное положение дел, оформленное юридически, можно составить карту размещения в городском пространстве постоянно действующих предприятий, зафиксировать их численный и этнический состав, размер территории, близлежащие дороги и т. д. Но что сможет объяснить эта карта, если она будет содержать лишь наиболее общие и очевидные данные, если она будет сообщать о временном (на момент составления карты) окончании длительных и диффузных смычек и разграничений? Кажется вполне очевидным, что применить геополитическую риторику для этого случая — пустая и несостоятельная идея. Бессмысленно объяснять борьбу на рынке между «Красным Октябрем» и Бабаевской фабрикой исторической субъектностью их работников или тем, что одна фабрика расположена на воде, а другая — на суше. Ни то, ни другое не является ни условием, ни ресурсом рыночной конкуренции, которая остается противостоянием специфических капиталов и стратегий, а значит, обязана своим наличием совсем иному источнику, нежели физическое пространство. Этим источником является порядок отношений производства/потребления, т. е. пространство различий между классами потребительских товаров, способами их производства и распространения, взаимообращенными действиями участников. Пространство, в котором умещаются эти различия, неосязаемо и не наблюдаемо напрямую, поскольку несводимо к физическому. Это пространство, которое формирует собственную реальность, а потому требует самостоятельного языка описания и объяснения.
Городские промышленные предприятия, эти сложные социальные объекты в подвижной среде, нельзя рассматривать как естественные монолитные единства. Но тогда почему для объяснения суммы фактов политического противостояния между США и Россией — как если бы они были монолитными единствами, более простыми, нежели промышленные предприятия — вдруг оказывается приемлемой риторика географического положения, цивилизационных особенностей или исторической субъектности, которая едва ли не напрямую замыкает социальные различия на крови и/или почве? Различия между этими политическими образованиями отнюдь не исчерпываются протяженностью береговых линий, формами религиозности и степенью смешения рас. Политическая борьба развертывается в особенном пространстве различий, не сводимом ни к административно-географическим, ни к экономическим, ни к религиозным: все они вовлекаются в политическую борьбу, но переопределяются ее внутренней логикой. Участие крупных политических противников в общей игре предполагает, помимо всего прочего, постоянный поиск и производство различий в отношении друг друга, но на том общем основании, которое делает возможным саму политическую игру. Это означает, что целый спектр отличий между противниками не предпослан политическому противостоянию, а произведен непосредственно в его ходе и ради его поддержания. Иначе говоря, состязание государственных аппаратов России и США в споре о стали и курицах определяется не их предвечной цивилизационно-географической сутью, но самой логикой состязания между участниками игры, которым есть что поставить на кон.
Во всем разнообразии подобных частных случаев и открывается автономная действенность политических делений, которые вписаны изнутри в сами акты политического взаимодействия и определяются не изолированными участниками игры, но обменом между ними, т. е. существуют «inter-esse» — в виде разделяемых или, по крайней мере, признаваемых интересов, категорий восприятия, практик и обозначений, у которых нет индивидуального владельца.
Следуя далее по шкале примеров, связь которых с вопросом о границах в физическом пространстве, на первый взгляд, становится все слабее, перейдем от промышленных предприятий к государственному контролю за качеством продукции. Принцип разграничения содержится в такой форме контроля, как, например, сертификация[5]. Весной 2000 года было принято постановление Правительства России об обязательной сертификации часов. Примечателен комментарий специализированного издания, сопровождающий этот официальный акт: «Скорее всего, не все часы вообще сумеют преодолеть сертификационный барьер. Видимо, исчезнут из продажи поддельные Rolex и Seiko по цене 2–3 доллара, многие марки из Китая… Тем, кто торгует исключительно отечественными часами и часами всемирно известных марок, беспокоиться нечего. Скорее всего, нововведение затронет их не сильно, эти часы получат сертификаты без особого труда»[6]. Итак, за официальной формулировкой государственного постановления скрывается установление границы: допустимое/недопустимое качество товара, китайские подделки/ российские и престижные марки.
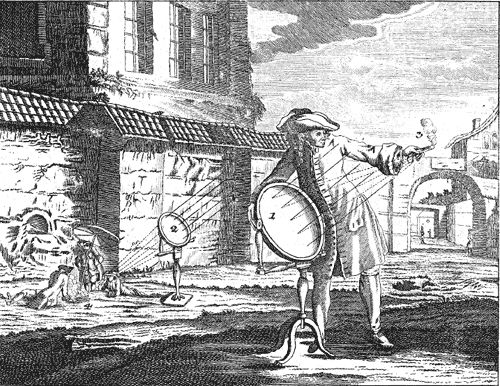
На первый взгляд, постановление не имеет отношения к пространственным границам — по крайней мере, если пытаться глядеть на этот единичный случай сквозь призму физического пространства как самостоятельного порождающего принципа. Но если рассматривать сертификацию как постоянный, рутинно функционирующий (и при этом вовсе не исключающий состязательности) аппарат классификации всей массы товаров и услуг, можно обнаружить пространственные эффекты, которые косвенным образом порождает его работа. Введение стандартов, разграничивающих классы продукции в пространстве производства/потребления, определяет товарам их социальное место: качественные часы — законопослушным и состоятельным покупателям, подделки — бедным и безответственным. В свою очередь, согласованность разнообразных эффектов классификации делает маловероятным, чтобы «хорошие» часы продавались в«плохом» магазине и наоборот: работа контрольных инстанций иерархизирует магазины (услуги) по качеству продаваемых ими товаров, а кроме того, они спонтанно иерархизируют себя, подстраиваясь под платежеспособность и кодекс достоинства своих покупателей. Таким образом, ужесточение границ между классами товаров вне физического пространства увеличивает вполне осязаемую однородность ассортимента, представленного на полках каждого магазина. А это, в свою очередь, усиливает пространственное разделение между местами продаж: в результате санкционированной иерархизации товаров «обычный» магазин вынужден следовать правилам «респектабельного» магазина, тогда как несертифицированные товары перемещаются в не престижные — одновременно социальные и физические — места: «толкучки», оптовые склады и т. д.
Каков характер этого разграничения в физическом пространстве? Сертификация как разграничение не обязана своим появлением физическому пространству и даже не имеет его своей целью. Ее цель — сделать менее вероятным само существование того или иного класса объектов. Но, лишенная средств полностью исключить его существование, на деле она создает социальные классификации, которые производят устойчивый пространственный эффект: вся система стандартизации и сертификации, отделяя подобающие свойства и вещи от неподобающих, изменяет закупочные стратегии, организацию продаж, в конечном счете, влияет на инвестиции в оформление магазина (т. е. его «европейскую»/«совковую», «v.i.p.» / «middle class» и т. п. пространственную организацию) и выбор места его расположения в городском или даже в международном географическом пространстве (центр/периферия, престижный/не престижный район, высокая/низкая платежеспособность и т. д.). Если приподняться над частным случаем, можно обнаружить, что механика развертывания и осаждения социальных различий в физическом пространстве определяет его организацию и способы использования. Например, как убедительно показал Пьер Бурдье, городская сегрегация — это объективация социального пространства в физическом.[7] Таким образом, и здесь мы обнаруживаем социальное пространство в качестве самостоятельного порождающего принципа, который является своего рода энтелехией[8] пространства физического.
Примеры, удаленные от арены политической борьбы, заставляют еще раз задуматься об универсальной значимости физического разграничения — уже как принципа политического действия. Стоит задаться вопросом о том, какая доля рутинной практики государственного деятеля или работника аппарата приходится на решение вопросов, связанных с пространственными делениями. Не оказывается ли, что, как и в случае с сертификацией или производственным предприятием, чиновник или политик оперирует частными различиями в той или иной области социального пространства, а эта его активность, встроенная в совокупное действие всего государственного аппарата или политического состязания, в свою очередь, вызывает изменения физического пространства? Физические изменения наиболее легко доступны внешнему наблюдению, а потому они часто принимаются за действующую причину, на деле являясь лишь результатом. Социальное пространство можно сравнить с электромагнитным полем в физике или с генетическим механизмом в биологии: они не наблюдаемы непосредственно, но от этого не менее действенны. Как и эти «невидимые» принципы, социальное пространство материализуется в наглядных и осязаемых формах, но к ним отнюдь не сводится[9]. Было бы так же нелепо пытаться изъять — во имя «внятности» — невидимые основания из естественных наук, как сводить весь сложный ансамбль социальных различий к наглядным органическим или юридическим сущностям.
Актуальный порядок, подтвержденный весомыми инстанциями и официальными актами, постоянно воссоздает иллюзию внятности и очевидности, склоняя обыденный взгляд воспринимать этот порядок как в целом естественный. В подобном сцеплении политического интереса с обыденным рассудком и кроется успех уловки, выдающей социальное за физическое, различия за единство, текущий исход политической борьбы за геоцивилизационную судьбу. На сцене очевидности являются фигуры неделимой России и неизбежной демократии, потребительских групп и качественной продукции, западной экономики и российского менталитета. В этом представлении для анонимного зрителя нехватку органического единства восполняют их символические заменители, обеспеченные работой «экспертов» и «аналитиков». Но сами участники политической борьбы, товарного производства или государственного контроля за качеством продукции действуют и сталкиваются в совсем иной системе координат.

Неопределенная ясность официального порядка лишь удостоверяет успех или тщетность их усилий. Сами же они мыслят и действуют в пространстве ближайших практических задач и неизбежностей. В практике чиновника «Россия» — это, прежде всего, папки ежедневно обрабатываемых документов, результаты проведенных переговоров и согласований, наблюдения над характером сослуживцев и тонкостями аппаратной игры, а также полученное образование, шансы карьерного роста, доступные ему поездки и магазины. Поэтому для главы департамента в МИДе «Россия» — нечто совсем иное, нежели для главы отдела в Министерстве энергетики, а в рамках каждого из ведомств — нечто нетождественное для разных фракций, разделенных взглядами, уровнями иерархии, предпочтениями, интересами.
Иными словами, не существует такой естественной, вплоть до физической, предзаданности, которая делает единственно возможным текущий исход политической игры и большой истории в целом. Не потому, что естественное (природное) не вовлекается в эту игру, а потому, что все природное используется социально, будучи так или иначе встроено в ансамбль социальных различий. Объяснение социальных фактов через социальное пространство требует больших усилий и навыков, чем сведение сложного социального разнообразия к простым физическим констатациям. Но кто нуждается в простоте? Прежде всего, тот «эксперт» и «аналитик», который, не упустив своей выгоды, услужливо протаптывает дорожки расчетливого господства к иллюзиям обыденного восприятия.
[1] Этот аргумент нередко звучит на заседаниях Государственной думы (органа par excellence политического), а также в теледебатах с участием противоборствующих политических партий, как, например, «Народный депутат» и КПРФ в «Свободе слова» (НТВ, 05.04.2002; текст передачи см.: www.svobodaslova.ru/svobodaslova).
[2] Эта случайность превращается в естественный, если не неизбежный факт посредством понятийного строя географии и того взгляда на пространство, который он предполагает. В интервью, взятом у М. Фуко в редакции историко-географического журнала «Геродот», с обеих сторон неоднократно звучит мысль о происхождении географического взгляда на пространство из духа военной практики и воспроизводства власти: «Пространственные метафоры в равной степени имеют и географический и стратегический характер, что естественно, так как география взращена под крылом военных. Можно наблюдать определенную циркуляцию понятий между стратегическим и географическим дискурсами. Регион географов — это военный регион (от «regere», командовать). Провинция — это завоеванная территория (от «vincere»). Поле вызывает ассоциацию с полем боя… Существуют администрация знания, политика знания, отношения власти, которые проходят через знание и которые при попытке их транскрибировать приводят к рассмотрению форм доминирования, обозначаемых такими терминами, как «регион», «поле», «территория».
И политико-стратегический термин показывает, как военные и администрация действительно приходят к тому, чтобы закрепиться одновременно и на материальной почве, и в дискурсивных формах» (Foucault M. Questions on Geography // Power-knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977. N.Y.: The Harvester Press, 1980. P. 69 [цитируется по неопубликованному переводу С. Гавриленко]).
[3] См., в частности: Бродель Ф. Что такое Франция? / Пер. с франц. под ред. В. Мильчиной. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1994. Кн. 1. С. 80–81.
[4] Там же. С. 8.
[5] Историческая семантика порой предоставляет дополнительный ключ к содержанию практики. В западноевропейскую письменную практику слово «certificare» вошло в Средние века — во французский язык, например, с XII века, а слово «certificat» — с XIV века (Le Petit Robert, 1999), откуда оно перешло в русский на рубеже XVIII–XIX веков (первое словарное упоминание относится к 1806 году, см.: Словарь современного русского литературного языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 13. С. 714). В исходном слове «сертифицировать» соединяются два латинских корня «certus» и «facere», т. е. «делать определенным, удостоверивать, гарантировать». В свою очередь, латинское «certatio» означает «состязание, публичное обсуждение», а «certare» — в т. ч. «разбирать дело, состязаться, чтобы добиваться преимущества» (Петрученко О. Латинско-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Шичалина, 1994. С. 91). Таким образом, за нынешним значением рутинной процедуры получения официального свидетельства о соответствии стандартам имеется нисходящая линия, которая указывает на процедуру публичного состязания с целью разграничения вины и невиновности, а также на борьбу за преимущества. Она позволяет уточнить: сертификация— это акт классификации, символическая борьба за определенность, исход которой назначает предметам спора подходящее место в социальном пространстве.
[6] Романов В. Опять сертификация? Чье здоровье улучшится // Часовой бизнес. 2000. № 2).
[7] Бурдье П. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение / Пер. с франц. Н. А. Шматко // Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.
[8] В философии Аристотеля и Лейбница — актуальная действительность предмета, начало, оживляющее материю и придающее ему наличную форму.
[9] Создатель наиболее проработанной и продуктивной на сегодня концепции социального пространства, П. Бурдье, подчеркивал трудности в обнаружении объективных социальных связей: «Взаимодействия… [которые] можно наблюдать, снимать, регистрировать, короче, трогать пальцами, заслоняют структуры, которые в них реализуются. Это один из тех случаев, когда видимое (непосредственная данность) скрывает невидимое, которым она определяется» (Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдье П. Начала / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 187
