Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Гетеротопология родных просторов
...The space between objects was believed to grow old and die; it was a way of assigning mortality, and fatality, to the entire universe.
Peter Ackroyd. The Plato Papers[1]
I .
Разговоры о пространстве подобны Гераклитову огню — они то затухают, то вновь разгораются, и в них — исток и пружина/движитель многих наших дискуссий[2]. Важные сдвиги совершаются в общественной жизни, если интересы авторов и читателей снова прикованы к больной и трудной теме: пространству современной России.
Кто намерен писать о пространстве, того подстерегают теоретические ловушки. Кто попадает в такие ловушки, тот совершает также и практические ошибки. Практические ошибки — это ошибки в понимании реальности и в планировании действий, относящихся к реальности. Мы все расположены в пространстве. Мы действуем в пространстве. Мы ведем разговоры о пространстве, находясь в пространстве. Наши действия, наши проекты, наши воспоминания — все это осмыслено также и благодаря тому, что это пребывание в пространстве имеет некоторое значение не только для разговоров, но и для действий. Действия совершаются также и под влиянием разговоров. Говорим ли мы о «естественных границах» или «спорных территориях», об «отчужденном в частную собственность публичном пространстве» или о «канонической территории», о «дизайне жилых помещений» или о «поездке за город», все эти разговоры имеют значение для наших действий, для взаимодействий с другими людьми, для сетей и систем взаимодействий. Науки о действии давно уже отказались от простой схемы: сначала подумал, потом стал действовать, а в промежутке мог еще и сообщить о своих намерениях. Но разговоры тоже суть действия, а действия с действиями сплетены в сложную сеть взаимных влияний и обусловленности. Действие в пространстве не безразлично к теориям о действиях в пространстве, а значит, и теории о действии в пространстве имеют социальное и социологическое значение.
Лишь подозрительно наивные авторы и теперь еще станут писать о «власти пространств над русской душой». Более просвещенные предпочтут, быть может, рассуждения о «власти русской души над пространством». Несмотря на видимую замысловатость, обе формулы весьма просты и совершенно ложны. Первая говорит о том, что мягкая закругленность холмов, необозримость равнин и непроходимость лесов наложили существенный отпечаток на склад характера и особенности мировосприятия типичного русского человека. Вторая указывает на историческую и культурную обусловленность элементов ландшафта: именно русский человек с его специфическим восприятием мира прирастил все эти скругленные и бескрайние территории. Великая тайна его продвижения скрыта во взаимосвязанных символах культуры, незыблемой в своей сердцевине. Она передается из поколения в поколение невменяемыми носителями, как из рода в род передают свои инстинкты живые твари.
Нетрудно будет смышленому критику атаковать обе точки зрения. Первая хотя бы потому сомнительна, что устарела лет на сто, а то и двести[3], так что соблазнять должна бы людей отсталых либо, как сказано, подозрительно наивных. И скольким поколениям типичных нерусских должно прожить среди холмов и равнин, дабы уподобиться типичным русским? И почему так много нетипичных русских? И как это удается ландшафту быть столь постоянным в своей культуротворческой сердцевине, столь инвариантным на таких просторах? И что происходит с народом по мере продвижения его самых типичных представителей то в степи, то в леса дремучие, то в горы? В общем, говорить здесь не о чем: за исключением остроумных наблюдений, которых и впредь, можно ожидать, будет немало, все соображения такого рода не стоят бумаги, на которой записаны. У географического (климатического и проч.) детерминизма есть достоинство: вечная правда простой схемы, под которую можно подверстать хорошие наблюдения и плохие выдумки. Вряд ли оно искупает недостатки.
На первый взгляд, иначе дело обстоит с культурой. И то правда: любое пространство дано нам, вроде бы, через схемы восприятия и категории описания. Любые схемы и категории, с известным усилием, можно интерпретировать как культурные феномены. Культурными феноменами их делает, во-первых, смысловая составляющая или, в иных терминах, принадлежность к системам значений; во-вторых, — мотивационная составляющая или, виных терминах, способность направлять человеческую активность. Системы значений потому и системы, что каждый элемент в них обусловлен связью других элементов. Связь устойчива и способна к воспроизводству и замещению элементов. Вот почему, без дополнительных доказательств, мы можем свободно перемещаться по полю русской истории, обнаруживая за разными именами и событиями все тот же вечный рисунок власти, собственности, права и, конечно, пространства.
Разумеется, и такие объяснения устарели, и тянет от них плесенью, способной у всякого отбить аппетит к подобным блюдам на пиршестве духа. Но дело, конечно, в другом. Чрезмерное значение, придаваемое системам значений, будь то растворение реальности в тексте или приписывание культурным смыслам роли исключительного источника активности, нигде не оказывается столь неудовлетворительным, как в случае с пространством. Пространство, по словам Анри Лефевра, — это не текст, но текстура[4]. Говоря более определенно, сам смысл пространственности состоит в том, чтобы быть чем-то, кроме смысла, чем-то превосходящим символические коды и навязывающим себя нам с той несомненностью, которая неведома текстам. Именно поэтому, если в терминологии последовать тому же Лефевру, мы не только воспринимаем и постигаем, но и проживаем пространство.
Замечательный пример различения воспринятого, постигнутого и прожитого (конечно, вне соответствующей идеологии и терминологии, да и вообще за полвека до выхода работы Лефевра) мы находим у Курта Левина. В статье «Военный ландшафт», соединяющей профессиональные изыскания психолога с личным опытом участника боевых действий, он пишет о необходимости различать «феноменологически подлинный» ландшафт и те представления, которые мы могли бы о нем составить. Мы можем представить себе, говорит Левин, «одинокий холм» просто как «изгиб поверхности», т. е. в качестве двухмерной фигуры[5]. Или, эстетически переживая во время прогулки в поля и луга, мы можем представить себе, как увидел бы их земледелец (далекий от наших эстетических восторгов и озабоченный обработкой земли). Но эти «представления» — не то же самое, что наше реальное переживание. Прожитое и пережитое сообщает нашим представлениям особый оттенок, которого нет у представлений о представлениях других людей, не говоря уже о «феноменологии подлинного ландшафта». Однако здесь-то и таится подвох. Описывая военный ландшафт, Левин проницательно замечает, что взгляд его во многом был предопределен службой в артиллерии. Пехотинцы увидели бы иначе[6]. То есть восприятие не пассивно, оно вбирает лишь то, на что был направлен вышколенный практикой, а значит, и потребной для этой практики теорией взгляд. Значит, несомненность пространства как переживания если и не ставится под сомнение, то обусловливается спецификой концептуального — концептуализированного — взгляда.
Об этом — хотя в связи с иной проблематикой — говорит современный немецкий географ Герхард Хард. Нередко бывает так, что ученые, представляющие «зрелую», т. е. замкнутую и инертную, дисциплину, перестают различать язык науки и язык наблюдения, они буквально видят то, о чем говорят им их теории. Именно это произошло с представителями зрелой географии ландшафта, сложившейся в 50-е — начале 60-х годов XX века. «Здесь то, что выдавалось за “непосредственные наблюдения” (вроде того, что вот там-де проходит граница ландшафта, а вот тут — пространство ландшафта), часто оказывалось аббревиатурой очень сложных теоретических высказываний и предпосылок. Специалист по ландшафту некоторым образом жил в мире, где нередко полагал возможным непосредственно наблюдать и даже невооруженным глазом “видеть” столь сомнительные теоретические конструкты, как геотопы, геофакторы и ландшафты».[7] Очевидно, что проблема, которая здесь обозначилась, не может быть решена каким-то простым и единым способом. Переживание подлинности пространства — это единственное, что делает обращение к нему чем-то иным и большим, нежели исследование образов и схем пространства как частного случая в общей культурной картине мира. Но само это переживание подлинности может оказаться не подлинным, точнее говоря, противоположность подлинного и не подлинного рискует утерять смысл в той же мере, в какой не только физическая география, но и вообще любой более или менее внятный способ концептуализации местности может быть интерпретирован как социальный и культурный феномен.
Эти рассуждения лишь на первый взгляд носят абстрактный характер. Не просто множество характеристик, которые мы даем тем или иным территориям, но и сам принцип выделения этих территорий социально и культурно обусловлен, и это (что важно помнить участникам публичных дискуссий) относится не только к «простому человеку» и «обыденному знанию», но и к их собственным построениям. Из тех, кто дерзает рассуждать о пространстве, территориях и прочем, никто не имеет привилегированного доступа к пространству. Единственным достоинством ученого является рефлексия также и собственных предпосылок, сомнение, направленное на то, что ему самому кажется наиболее очевидным, — будь то неведомые простому человеку «геотопы» или «знакомые всем» административные границы города Москвы. А внимательное, непредубежденное рассмотрение этих предпосылок может привести к самым неожиданным результатам — не только научным, но и социально значимым.
Так, в современной социальной географии кризис, связанный с неудовлетворительной постановкой проблемы пространства, предлагается разрешить, например, через истолкование этой почтенной дисциплины не как «науки о пространстве» (хорологии), но как науки о действии-в-пространстве. Пространство, говорит один из самых глубоких исследователей этой темы швейцарско-немецкий географ Бенно Верлен, — не вещь, не предмет, но схема классификации. Объекты бывают разнородными, и схемы тоже должны быть разнородными. А проблема географов состоит в том, что они пытаются разместить в схемах, пригодных для одних объектов, совсем другие объекты. Так бывает, когда в физическом пространстве пытаются локализовать символические, смысловые объекты. Задача же состоит втом, чтобы изучать человеческое поведение. Люди действуют в условиях физического мира и при этом ориентируются на символы и смыслы[8]. Это значит, что исследовать все надо по отдельности: одно дело — физическое пространство, будь то горы, реки и равнины или жилые дома, улицы, транспортные магистрали, т. е. творения человеческих рук, артефакты. Другое дело — смыслы и символы, даже если носителями смыслов и символов оказываются вещи, принадлежащие к физическому миру. География как описание пространства (хорография, не хорология) занимается миром физическим. Социальная география — осмысленными действиями в физическом мире[9].

Точка зрения Верлена, несмотря на все ее достоинства, далеко не бесспорна[10]. Но и другой крупный современный автор, английский географ Найджел Трифт выводит на передний план проблематику социального действия. Несомненно, говорит он, что региональная география может начинаться с описаний «регионального окружения», т. е. прежде всего с тех «географических детерминант», которые, в общем, относятся к топографии, — «геологии, гидрологии и климатических условий, весьма вероятно, уже претерпевших изменения под многолетним воздействием обществ. Затем необходимо описание организации производства в регионе… Акцентировав значение производства, особенно в условиях капитализма, надо обрисовать классовую структуру региона и историю формирования классов». За этим последует описание религиозных, расовых, этнических и прочих делений. Наконец, придется обратить внимание и на «локальную форму государства»[11]. Но, хотя такое рассмотрение весьма сложно и многие на нем останавливаются, считая его предельным уровнем анализа, требуется сделать нечто большее. Необходимо «конституировать регион как структуру [социальных] взаимодействий». В регионе, продолжает Трифт, возможны одни действия и невозможны другие. «В любом регионе жизненные траектории отдельных индивидов могут взаимодействовать, просто потому что они пролегают рядом, в пространственной и временной близости друг от друга», но состоится ли в действительности такое взаимодействие, — это зависит от характерного для данного региона типа производства и потребления. А тип производства и потребления взаимозависим с «характерным типом локалов, которыми перемежается ландшафт. Всякая жизненная траектория, в конечном счете, есть распределение времени между этими различными локалами. При каждой особой организации производства определенные локалы будут господствующими, т. е. распределение времени должно будет происходить в их пользу»[12]. В этом рассуждении, быть может несколько непривычном для свежего взгляда, нет ничего мудреного. Пожалуй, только к слову «локал» надо отнестись с особым вниманием. Этот термин, который используют и Верлен, и Трифт, введен в оборот английским социологом Энтони Гидденсом[13]. «Локал» — не место, не местность, не ландшафт, вообще не территория как таковая. Он означает привязку физического окружения к «типичным взаимодействиям», из которых, собственно, и состоят социальные образования (очень нестрого, вслед за Гидденсом, их можно называть «социальными системами»). В зависимости от характера социального образования, соответствующий «локал» может охватывать и очень ограниченное пространство (жилище, офис, фабрика), и очень обширное (государство или империя). «В пространстве-времени локал можно понимать в терминах доступности присутствия. Малое сообщество можно определить как такое, в котором “сплетения” взаимодействий простираются лишь на короткие дистанции в пространстве-времени. Взаимодействия, конституирующие социальную систему, “близки” как в пространстве, так и во времени: присутствие других людей легко доступно на основе [их пребывания] лицом к лицу. Локалы обычно регионализованы на основе пространства-времени. Регионами внутри локалов я называю те аспекты физического окружения, которые нормативно имплицированы в системах взаимодействий, так что они некоторым образом выделены для определенных индивидов или типов индивидов, или деятельности, или типов деятельности».[14] Это емкое рассуждение, видимо, нуждается в дополнительном переводе — не только с английского на русский, но и с языка науки на язык публичной дискуссии. Гидденс говорит о том, что участники социальных взаимодействий в большей или меньшей мере доступны друг для друга как тела. Есть такие взаимодействия, где присутствие другого человека или других людей ощущается нами совершенно безусловно. Его называют «лицом к лицу», хотя, конечно, взаимное положение тел может быть при этом очень разным, например, вполоборота друг к другу. Более точное общее название таких ситуаций — соприсутствие или даже сотелесное присутствие, говоря по-русски: совместное присутствие тел[15]. И, конечно, любая удаленность друг от друга может быть измерена не только в категориях пространства, но и в категориях времени. Не все и не всегда могут проникнуть всюду. «Нормативная импликация» означает, что для каждого действия или взаимодействия предполагается «свое место». Существуют ограничения и разрешения: кому-то что-то можно в определенном месте. Другим — нельзя, или можно здесь, но нельзя в другом месте, или можно таким-то индивидам или типам индивидов, но нельзя другим, и т. п., а те, кому можно, ведут себя здесь определенным образом. «Так, например, жилище — это локал с определенными архитектурными свойствами, которые социально релевантны, поскольку связаны с распределением и характером поведения в пространстве-времени. Жилище с несколькими комнатами “регионализовано” не только в том смысле, что в нем содержатся различные “места”, но и в том смысле, что комнаты обычно используются для разных дел, дифференцированных и распределенных в порядке повседневной жизни».[16] И получается, что мы не только определенное физическое пространство квалифицируем по тому, какие именно и чьи именно действия здесь возможны или запрещены, но и наоборот: всякий раз, когда говорим о действиях, мы связываем с самим понятием того или иного действия возможность происходить только в определенного вида «окружении». Разумеется, скажет чуть ли не любой современный автор, человека нельзя представлять как марионетку культуры, простого исполнителя значимых в обществе предписаний. Возможны любые исключения, нарушения любых запретов. Но, как правило, повседневная рутина именно такова: действия определенного типа соотносятся с определенными регионами. А регионы мы знаем как таковые лишь потому, что с ними соотносятся определенного типа действия. Мы говорим о действиях в квартире, но саму квартиру мы называем квартирой только потому, что составленные в некотором порядке бетонные блоки связаны (сейчас, в прошлом, в будущем) с определенными действиями. И эти действия могли бы показаться нам бессмысленными (неуместными), если бы совершались вне и помимо этих бетонных (деревянных, кирпичных, саманных и проч.) стен.
Мы видим, что, поскольку речь идет о действиях и взаимодействиях людей, география переплетается с социологией. Значение этого обстоятельства, равно как и непривычность некоторых неизбежных здесь аргументов, трудно переоценить. И наиболее сложным оказывается именно вопрос о пространстве, т. е. о том, что и где может размещаться. Вопрос этот, как мы увидим, не праздный, а сложность его не допускает ни сжатой, ни популярной трактовки. Поэтому, не рискуя вдаваться в доказательства, мы выбираем путь демонстрации. Быть может, несколько простых примеров и рассуждений помогут внести сюда хотя бы некоторую ясность.
Может ли быть размещено в пространстве человеческое действие? Допустим сначала, что может. Ведь нам обычно известно, где произошло то или иное событие (где мы купили книгу, где состоялись маневры, где гастролирует Большой театр). Но в физическом пространстве, как мы видели, могут быть размещены только протяженные вещи. А действие — не вещь, значит, у него нет протяжения. И цепочки действий и взаимодействий — тоже не вещи. И цепочки цепочек, те большие и устойчивые комплексы взаимодействий, которые называются социальными системами, тоже не размещены в физическом пространстве. У них не может быть протяжения, потому что его нет ни у одного из их элементов. Значит, в физическом пространстве их разместить невозможно.
Разве не удивительно? Действия совершают и во взаимодействия вступают люди во плоти, занимающие места в пространстве. Но то, что они совершают, вфизическом смысле непротяженно. Книга — вещь; человек, ее покупающий, телесен. Пространство магазина ограничено. Но действие «покупка» — все равно не вещь и простой локализации не поддается. И с маневрами дело обстоит так же. И с Большим театром[17]. Утверждать обратное — все равно что полагать, будто мысли размещаются в голове как этакие маленькие штучки, каждая из которых находит в мозгу свое место[18]. Научные способы объяснения гораздо более сложны, но это не значит, что они полностью противоречат нашему повседневному опыту. Просто и о мышлении, и о пространстве, и о местоположении действия надо говорить по возможности аккуратно. «Я купил книгу в магазине» — это вполне осмысленное высказывание. Но что оно значит? Что мое тело находилось среди стен, стеллажей и томов? Что физическое тело книги переместилось с одного места (стеллаж) на другое место (прилавок), а оттуда на третье (так сказать, в руки моего тела)? Или что было совершено некое действие, предполагающее существование определенного социального института (точнее, нескольких институтов), в том числе денежной системы, книгоиздательства, образования, науки и прочего, без чего ни написание, ни потребление книг, ни обмен их на денежные знаки были бы невозможны. И тогда книга не оказалась бы там, где оказалась. И не переместилась бы туда, куда переместилась.
Конечно, здесь не обойтись без «традиционных мест» — ограниченных пространств, вмещающих физические тела покупателей и книг. Это не представляет трудности, но как раз здесь очевидность нашего опыта вступает в противоречие с мудреными и совсем неочевидными теориями и часто проигрывает им. Выглянув в окно, мы обнаруживаем бетонную коробку. Сейчас там мебельный магазин. А год назад был продуктовый. А еще раньше торговали стройматериалами. А до этого снова продуктами. И долго-долго полуразрушенное строение пустовало. Куда делся продуктовый? Не то разорился, не то переехал. Как это — «переехал»? Снялся с места вместе с фундаментом, стенами, крышей, подвалом? — Да нет же! Все это осталось. Переехала на другое место организация. — То есть люди, товары, бухгалтерская отчетность? — Ну, в общем, не совсем. Пока переезжали, большую часть персонала уволили, набрали новых. Потом директора застрелили, замдиректора уволился, главный бухгалтер ушел на пенсию, старший кассир слег в больницу, название поменяли, и так далее. А если кто вздумает настаивать на том, что место (бетонная коробка) осталось то же самое, то позволительно будет спросить: что значит «то же самое»? А вдруг завтра уберут и эти стены и воздвигнут на месте магазина дворец с фонтаном и садом? А если не будет тех домов, из окон которых жители наблюдали за переменчивой судьбой означенного здания? Что тогда? — «Я больше не узн ю это место! Оно теперь совсем другое!» — Или наоборот: «На этом месте, где сейчас стоит… раньше находился…» То есть придется приложить усилия, чтобы отвлечься от всех перемен и продолжать называть это место «тем же самым». И, как ни странно, окончательного ответа на вопрос «то же самое или нет?» быть не может. Поэтому все дело в том, какую систему отсчета мы выберем. В одной из них физическое тело описывает сложную и малопонятную траекторию. В другой совершается акт купли-продажи. В одной меняется вид ландшафта, в другой — функции строения. И самое любопытное, что часто нам не обойтись без нескольких систем отсчета сразу. «Пейзаж современной городской улицы полностью создан человеком, и только потому, что все предметы на ней имеют особые названия (то есть символические метки), мы можем понять, что эти предметы собой представляют».[19] Но эти знаки появились в результате организации практической деятельности, а не фантазий или иных сугубо ментальных операций. Так, например, если бы не было системы товарного обращения, не было бы инвестиций в строение с определенными функциями. И, значит, этот материальный объект не появился бы на местности, меняя ее «ландшафт». «Обмен материальными товарами предполагает изменение местоположения и перемещение в пространстве. Любая сложная система производства предполагает пространственную организацию (хотя бы только торговых и офисных помещений). Для преодоления этих пространственных барьеров нужны время и деньги. Эффективность пространственной организации является, таким образом, важным вопросом для капиталистов».[20] И, разумеется, результат важен не только для капиталиста. Появление магазина, фабрики, автодороги — словом, всего, что необходимо для движения товаров, меняет повседневную жизнь людей, придает ей совсем иные пространственные рамки. Если бы магазин не появился на местности, «жизненные траектории» жителей окружающих домов не пересекались бы в данном месте, которое становится тем, что оно есть только потому, что деятельность одних связана с продажей, других — с куплей, и это — типичная деятельность по правилам в такого рода местах (или, если угодно, локалах). Но сами эти места как таковые возникли не по воле и намерению продавцов и покупателей, встречающихся в пространстве магазина как физические тела. Магазин — это функциональное место в системе обращения товаров, но он не появился бы на этом месте, если бы, с одной стороны, здесь не было выгоды, а с другой, — способности придать данному участку местности именно такой смысл. Эту способность можно называть властью. Эта власть — в отличие от политического насилия — может быть совершенно незаметна для подвластных. Они разумны, ответственны и компетентны на своих функциональных местах. Но они не замечают сконструированного характера этих мест. Лефевр называл это «молчанием пользователей пространства»[21].
Вот почему в рассуждениях о пространстве нужна точность. Определенные действия относятся к определенным пространствам как схемам классификации, в которые могут попадать, а могут и не попадать элементы «ландшафта», взятые не со стороны своей несомненной объективности, а со стороны принадлежности к некоторому смысловому комплексу. Например, покупки товара в обычном магазине, покупки по каталогу через почту и покупки в электронном магазине могут попасть в один класс. Но только обычный магазин мы сможем локализовать на карте города и только материальный товар, в какой бы системе он ни был куплен, проделает путь в физическом пространстве[22]. Если мы все сведем к перемещениям протяженных тел, то никогда не сможем разместить в пространстве никакой иной вид покупки. Напротив, куда проще и понятней сразу рассматривать и магазин, и банк, и школу, и квартиру и т. п. как смысловые комплексы. Нет территорий и нет границ, фиксируемых безотносительно к наблюдателю, к участнику взаимодействия, к действиям людей. Нет физического пространства как действующей причины социального взаимодействия[23]. Есть определенное значение пространства для тех, кто действует, и для тех, кто за действующими наблюдает и про них пишет. Иначе говоря, холмы, равнины, расстояния, размеры территорий, объемы, плоскости и проч. — все это само по себе не значимо для постижения социальных действий[24]. Значимы действия, взаимодействия и те идеи, схемы, способы поведения, которые так или иначе соотнесены с этими пространственными условиями и образуют вместе с ними единый смысловой комплекс, который мы готовы затем называть пространством квартиры, пространством большого города и даже пространством современной России. Готовы назвать? Или готовы стерпеть, как молчаливые пользователи?
II.
Почему «родные просторы»? Потому что это — не задумываясь. Потому что затвержено на всю жизнь, до невменяемости пишущего-говорящего, до автоматизма восприятия, безразличного к особенностям ландшафта. Поэт — Пушкин, композитор — Чайковский, а просторы — родные и, само собой, русские (метонимически именуемые также советскими). Доказать здесь, как водится, ничего нельзя, ну а показывать можно бесконечно, благо ресурс электронных отходов нашей жизнедеятельности прирастает непрерывно.
Поисковые машины в Интернете дают, в общем, не много. Среди прочего — несколько репродукций одной и той же трогательной картины с непременными березками и прочими принадлежностями закругленного ландшафта, а также серия шоколадных конфет фабрики «Россия». Специальный поиск по материалам прессы оказывается продуктивнее[25]. Продуктивность его, разумеется, не в том, что он открывает нам нечто неожиданное. Напротив, все ожидаемо. Вот ностальгическая истерика:
Несокрушимые прежде части без боя и без славы оставляли места своей дислокации не только в бывших странах социалистического содружества, но и на прежде родных советских просторах когда-то единого СССР.[26]
Вот исторический пафос:
Десятки тысяч упряжек полетели по дорогам России и сделали ее просторы манящими. Каждый раз, отправляясь в путь, русский человек чувствовал, что впереди открывается бездна неожиданного. … Удивительно, но на донских просторах трех лошадей в упряжке оказалось маловато. И тогда в начале XX века была придумана связка из четырех лошадей донской породы. Нам она знакома как тачанка-ростовчанка. Памятник ей стоит при въезде в город, к нему частенько отправляются молодожены в день свадьбы, и он не символизирует военную машину времен гражданской войны. Это символ наших родных степных просторов…[27]
Вот, наконец, большое повествование о просторе, которое мы предлагаем читать как единый текст, фрагменты которого написаны разными авторами и по разным поводам:
Так что «мелкотемье» — это для тех, у кого зашорен взгляд. А для других эти просторы родных полей — простор для творчества.[28] Он полюбил Сибирь, Байкал, тайгу, просторы. А позднее признался, что эти места напоминают ему родные степи Донбасса, где прошла молодость, счастливые и горькие моменты его жизни…[29] Чуть раньше его картины, объединенные общей темой «Родные просторы», успешно экспонировались в Республиканском общественно-политическом центре.[30] А на созданных им полотнах остались весна и лето. Остались увиденные добрым взглядом просторы земли, уголки чрезвычайно близкой сердцу сибирской природы.[31]
Таких фрагментов можно набрать множество. Да только какие новые сведения можно из них извлечь? Что пространство нашей страны будет названо «родными просторами», что ему, несмотря на видимое разнообразие, будет приписано некое единство, что единство это не фиксируется на уровне воспринимаемых и постигаемых характеристик ландшафта, а коренится в чем-то более глубоком, возможно, проживаемом нами помимо его конкретных особенностей, наконец, что формулы публичной коммуникации могут не только не совпадать, но и решительно противоречить формулам повседневного общения, — все это мы знали и раньше. Именно потому смысл приведенных примеров — не доказательный, а иллюстративный. Мы напоминаем о том, что известно, и задаемся вопросом: ну и что?
А вот что. Смысловому комплексу «родные просторы» не соответствует никакой определенной реальности. Или еще более точно: родными просторами всякий раз может быть поименована какая-то определенная местность. Но точно так же и другая, и третья, и четвертая, которые оказываются, при всем различии для незаинтересованного наблюдателя, чрезвычайно сходными, представителями некоторого высшего единства, которое, как таковое, остается не поименованным. Поволжье, Сибирь, донские степи — все одно: просторы.
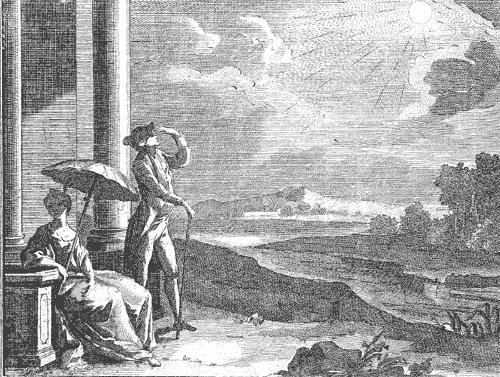
Но если это не ландшафт и не территория, не место и не местность, то, может быть, тогда это локал? Увы, и локалом «родные просторы» быть не могут. Не только потому, что они не привязаны к конкретной местности, но и потому, что нет правила или совокупности предписывающих/запрещающих правил, которые бы определяли соответствующий тип поведения. «Родные просторы» — не объект, созданный деятельностью людей, не овеществление практики, но эмоционально окрашенный образ пространственного единства или, еще точнее, как говорил вслед за Марксом Лефевр, «конкретная абстракция», но взятая не со стороны познания или социальной функции, а со стороны эмоционального переживания. Тот, кто видит родные просторы, видит не фрагмент ландшафта, но общую идею, обретшую вид пространственной текстуры. Родные просторы — это проживаемое большое пространство.
Что значит «большое»? На протяжение десяти последних лет[32] мы подчеркивали, что величина пространства измеряется не количеством квадратных километров, а отношением к нему[33]. Но дело не только в этом. Отношение к пространству (территории, просторам) может быть познавательным. И тогда большое пространство может выступать как «фон и смысловой горизонт» по-разному вычленяемых местностей. Если считается, что при всей своей необозримости оно все-таки не беспредельно (только пределы его обычным образом не видимы), а границы имеют характер политический, такое большое пространство можно называть империей[34]. Поясним еще раз. Есть пространство малое (место — неделимое, элементарное единство) — пространство взаимодействий «лицом к лицу». Здесь присутствие участников доступно непосредственному восприятию. Есть пространство, которое самым условным образом можно назвать пространством регионов (место мест). Это пространство, о котором у действующих людей нет исчерпывающих сведений. У них есть практические схемы[35], которыми можно пользоваться не задумываясь, чтобы сориентироваться, выбрать направление, соотнести свое место с другими местами, пусть неизвестными, но в данной схеме возможными («На каком я этаже?», «На какой я ветке метро?»). Благодаря дорефлексивной практической схеме становится возможной рефлексия, планомерное поведение, связанное с соблюдением правил локала и производством новых пространственных объектов. И есть еще большое пространство, применительно к которому схемы отказывают, но которое, в свою очередь, выступает как предельная возможность всяких схем (Советская страна, Священная Римская империя, Западный мир, Глобальное общество). Вопрос, собственно, состоит в том, каким образом это полуосознанное ощущение большого мира соопределяет наше к нему отношение. В плане познавательном мы скажем, что пространство человеческого общества совпадает, в конечном счете, с населенной территорией земного шара. А в плане эмоциональном? Как невозможно ощущать солидарность со всем человечеством, так невозможно одинаково индифферентно, сугубо когнитивно относиться к большим пространствам. И если есть какое-то промежуточное звено между пространствами практических схем, сознательного планирования и действия и пространствами наименее доступными и наиболее абстрактными, то именно это звено и можно (сознательно пользуясь метафорой вместо понятия) назвать родными просторами — большим пространством, квалифицированным более расплывчато, чем регион, но более определенно, чем пространство глобального общества.
Но, допустив, что такое эмоциональное отношение к некоторому слабо определенному виду пространства возможно, мы не можем уйти от следующего вопроса: насколько сильна эта эмоциональная привязанность и насколько она продолжительна? Точно ответить на этот вопрос можно, наверное, лишь при помощи специальных исследований. Но некоторые гипотезы можно сформулировать уже сейчас. Ведь главное, что нам удалось зафиксировать в наших примерах,— это ощущение единства. Единство, последовательность, непрерывность, связность — все это характеристики, которые мы привыкли относить к тем или иным текстам. Но их можно применить и к пространству, причем, заметим, не к пространству как тексту, а к пространству как текстуре. Связность и последовательность — это когда в больнице вы не ведете себя, как в суде, а у станка — как в ресторане. Именно поведение и определяет специфику места. Место — это смысловой комплекс. Но одновременно место — это элемент сложной текстуры пространства, которая тоже обладает своей внутренней последовательностью. Или не обладает. Место связано с местом, как деятельность связана с деятельностью. Переходя от места к месту (от локала к локалу!), мы можем ощущать, что их различия соединены в систему различий, что храм и рынок суть места для соответствующих действий, которые уместны, потому что храм и рынок на своем месте.
Но бывает и другое ощущение пространства: не порядка, но беспорядка, неуместности не только отдельных действий, но и целых фрагментов пространства. С легкой руки Мишеля Фуко такие «иные пространства» называются гетеротопиями[36]. Если утопии — это «местоположения без реального места», то гетеротопии есть именно как другие места. Нет ни одного общеста, ни одной культуры, где бы не существовало гетеротопий. Но в примитивных обществах, говорит Фуко, они имеют вид «кризисных гетеротопий», т. е. особых, выделенных, священных, запретных и т. п. мест, куда отправляют людей, пребывающих в особых состояниях— будь то женщины в период беременности или менструации, молодежь, как мы бы сказали «переходного возраста», старики[37]. В современном обществе такие места исчезают, и на смену им приходят «гетеротопии девиации», «куда помещают индивидов», поведение которых отклоняется от господствующего смысла и норм[38]. Таковы психиатрические клиники, тюрьмы и, конечно, дома престарелых как переходная форма между кризисной и девиантной гетеротопиями.
Однако более интересно то, что говорит Фуко далее: «Гетеротопия может разместить в одном реальном месте несколько несовместимых между собой пространств…» (например, на театральной сцене)[39]. Наконец, «гетеротопическое местоположение не так открыто для свободного доступа, как публичные места[40].
Эти идеи, постепенно завоевывающие все большее внимание, в том числе и географов[41], могли бы сыграть свою роль и в описании того, что ныне совершается с родными просторами. Поставим вопрос — лишь вопрос, ибо ответ пришлось бы искать долго и специально, — не является ли утверждение о «функциональности» гетеротопий, о том, что они играют свою необходимую роль в каждом обществе, также и намеком на то, что чрезмерная «гетеротопизация» пространства несет в себе для общества угрозу? Если иные пространства — это пространства девиации, то чрезмерная разнородность пространств означает разнородность и многообразие девиаций. Поведение сопряжено с местом, и место, как мы видели, «нормативно имплицировано» в поведении. Но место не только «имплицировано», оно не «ждет» соответствующего поведения, а именно создается им. Поведенческая девиация в определенных масштабах — это действие, вырывающееся из своей резервации и обустраивающее себе новые места (как, например, погромщик, выходящий из пивной в цивильное место). Но может быть и другого рода действие — например, отчуждение публичного пространства в частное владение[42], появление запретных зон в местах, еще недавно открытых для всех. Наконец, может быть вмещение столь разностильных, разнотипных пространств в одно физическое место, что это ставит под сомнение самое идею единства, могущего объять эти «иные пространства». Пожалуй, это самый тонкий момент. Взаимодействие не может быть только взаимодействием присутствующих, это ясно. Но «комбинация отсутствия и присутствия», одна из любимых тем Гидденса, не снимает проблему более широкой солидарности, более абстрактного отождествления себя с людьми и пространствами, чем это возможно «лицом к лицу». Зайти из офиса в ресторан— это одно, а сойти с поезда в тюремный барак или из кинотеатра в сумасшедший дом — это другое. Ощущение более широкого пространства как «своего», квалификация его как единства и т. п. — все это не может быть безразличным к повседневному опыту алогичной, неожиданной и опасной фрагментации.
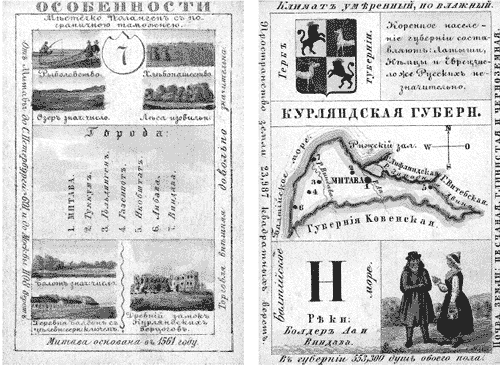
Собственно, вопрос — но вовсе не ответ — и состоит в том, не миновал ли век нашего пространства, не поддались ли эрозии родные просторы, не стала ли опасно дисфункциональной чрезмерная гетеротопия? Один ответ на этот вопрос известен: иной и не может быть фрагментированная и полистилистическая жизнь эпохи постмодерна. Другой ответ тоже напрашивается сам собой: за каждым инородным фрагментом стоит девиация, и кто скажет, насколько она безопасна? Впрочем, девиация стала нормой, а родные просторы? Должно быть, они еще продержатся. Если только производство пространства, непрерывное творение разнородных фрагментов не оттеснит бескрайнее и родное в тесные резервации духа.
[1] «…Считалось, что пространство между объектами стареет и умирает; таким образом, смертность и обреченность приписывали всей вселенной». Питер Акройд. Повесть о Платоне/ Пер. с англ. Л. Мотылева // Иностранная литература. 2001. № 9.
[2] Здесь и далее речь идет о «пространстве» в публичных дискуссиях. Точные науки смотрят на дело часто совершенно иначе, но их результаты лишь очень медленно просачиваются в повседневную тематизацию пространства.
[3] Это — в зависимости от того, что мы согласимся считать последним крупным достижением вэтом роде — изыскания Г. Т. Бокля и Ф. Ратцеля или все-таки И. Г. Гердера и Ш.Л.Монтескье.
[4] См.: Lefebvre H. La production de l’espace. (1974) 4e Оd. Paris: Anthropos, 2000. P. 154–156: «Пространство содержит сообщение, но сводится ли оно к сообщению? Не заключает ли оно в себе и нечто другое: другие, кроме дискурса, функции, формы, структуры? … Всякий язык размещен в некотором пространстве. Всякий дискурс что-то говорит о пространстве… всякий дискурс исходит от пространства (parle d’un espace). Надо различать дискурс в пространстве, дискурс о пространстве и дискурс пространства. … Теория пространства описывает и анализирует текстуры. … Кто говорит “текстура”, тот говорит “смысл”. Но смысл для кого? Для какого-нибудь “читателя”? — Нет. Для того, кто в этом пространстве живет и действует, для “субъекта”, наделенного телом, а иногда — и для “коллективного субъекта”».
[5] Лучше бы переводчики писали не об «изгибе» и «поверхности», а о «кривой» и «плоскости», тогда бы мысль Левина была куда яснее его русским читателям.
[6] См.: Левин К. Динамическая психология. М.: Смысл, 2001. С. 87. Левин благоразумно не задается вопросом об авторстве «феноменологии подлинного ландшафта».
[7] Hard G. Die Geographie. Eine wissenschaftliche EinfЯhrung. Berlin; New York: De Gruyter, 1973.
S. 71.
[8] См.: Werlen B. Gesellschaft, Handlung und Raum. Grundlageeiner handlungstheoretischen Sozialgeopgraphie. 3. Aufl. Stuttgart: Franz Steiner, 1997. S. 392 ff.
[9] См. также более подробное развитие этой концепции в двухтомном труде того же автора: Werlen B. Sozialgeographie alltaeglicher Regionalisierungen. Bd. 1. Zur Ontologie von Gesellschaft und Raum. Stuttgart: Franz Steiner, 1995; Bd. 2. Globalisierung, Region und Regionalisierung. Stuttgart: Franz Steiner, 1997.
[10] См. дискуссионный том: Handlungzentrierte Sozialgeographie. Benno Werlens Entwurf in kritischer Diskussion / Hrsg. v. P. Meuseburger. Stuttgart: Franz Steiner, 1999.
[11] Thrift N. Spatial Formations. L. etc: SAGE, 1996. P. 80.
[12] Ibid. P. 81.
[13] Большой англо-русский словарь рекомендует переводить the locale как «место действия». К сожалению, наш язык пока весьма беден в сравнении с английским или немецким. По ряду причин, обговаривать которые пришлось бы слишком подробно, в данном случае калька (и неизбежные переклички со словами «локальный», «локализовать») — лучше, чем такой вариант перевода.
[14] Giddens A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 1. Power, Property and the State. L.: Macmillan Education, 1981. P. 39–40.
[15] Этот термин введен знаменитым американским социологом Ирвингом Гофманом. См.: Goffman E. The Interaction Order // American Sociological Review. 1983. Vol. 48. February. P. 4. (См. также только что появившийся русский перевод: Гофман И. Порядок взаимодействия // Теоретическая социология. Антология / Под. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2. С. 64 и сл.). Значение лица при этом отнюдь не преуменьшается, но как раз специально подчеркивается. См. особенно: Goffman E. Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour. Harmondsworth: Penguin Books, 1972.
[16] Giddens A. The Nation-State and Violence. Volume Two of A Contemporary Critique of Historical Materialism. Cambridge: Polity, 1985. P. 13.
[17] Вот почему знаменитый американский теоретик Толкот Парсонс, которому поклонялось целое поколение советских социологов, полагал, что для анализа действия пространство вообще значения не имеет. См.: Parsons T. The Structure of Social Action. New York; London: McGraw-Hill Book Company, 1937. P. 45 Fn 1, 474 Fn 1, 763.
[18] Более подробно о значении ошибки, стоящей за такими утверждениями, можно прочитать
в первой главе обманчиво доступной книги: Г. Райл. Понятие сознания. М.: Идея-Пресс, 1999.
[19] Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. С. 43.
[20] Harvey D. The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989. P. 229.
[21] См.: Lefebvre H. La production de l’espace. Op. cit. P. 63.
[22] Впрочем, это как посмотреть. Всего лет шесть-семь назад в одном из московских отделений Сбербанка меня уверяли, что деньги, перечисленные из-за границы, не могут поступить на мой счет, потому что «Англия далеко». Представив себе курьера с мешком золотых монет, вбурю пересекающего Ла-Манш, загнавшего десяток лошадей на дорогах Европы и ныне отбивающегося от лихих людей на польско-белорусской границе, я содрогнулся и оставил свои попытки.
[23] Приведем замечательные формулировки Георга Зиммеля, автора гениальной работы «Социология пространства», значение которой все еще недооценено в ученом мире: «Если некоторое количество лиц изолированно селится [hausen] друг подле друга в определенных пространственных границах, то каждое из них наполняет своей субстанцией и деятельностью непосредственно свое место, а между этим местом и местом следующего лица — незаполненное пространство, практически говоря: ничто. (Практически — т. е. для самих этих людей, не для нас, наблюдателей, с нашими схемами — А. Ф.) В то мгновение, когда оба они вступают во взаимодействие, пространство между ними оказывается заполненным и оживотворенным. … Граница — это не пространственный факт с социологическим воздействием, но социологический факт, который принимает пространственную форму. [Социологический факт — это то, что люди вообще отграничивают себя от соседей. А будут ли они считать границей гору, реку, ущелье или же, за неимением таковых, проведут межу вчистом поле, — это уже конкретное «пространственное наполнение». Пространство само незначимо. Это люди придают ему смысл и действуют соответственно.]» (Simmel G. Soziologie. Untersuchungen Яber die Formen der Vergesellschaftung. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 11. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992. S. 689, 697).
[24] Безотносительно к Зиммелю об этом же говорит крупнейший современный географ Дэвид Харви: «Писать о “власти места”, как если бы места (местности, регионы, районы, штаты ит.д.) обладали каузальной силой, значит предаться вульгарнейшему фетишизму, если только мы не ограничим себя самым строжайшим образом определением места как социального процесса. В этом последнем случае можно сформулировать более определенные вопросы: почему, какими средствами и в каком смысле социальные существа индивидуально и, что более важно, коллективно сообщают местам (местностям, регионам, штатам, общинам или чему бы то ни было еще) достаточное постоянство, чтобы стать локусами институционализированной социальной власти, и как и для каких целей эта власть используется?» (Harvey D. Justice, Nature and the Geogreaphy of Difference. Oxford: Blackwell, 1996. P. 320. )
[25] Ниже цитируются публикации, обнаруженные в свободном доступе электронной библиотеки www.public.ru. Сколько-нибудь внятный анализ поистине необъятного материала, накопленного с начала 1990-х годов, здесь, разумеется, невозможен. Мы приводим лишь несколько типичных высказываний из немногих прошлогодних публикаций. Мы выделили курсивом слова «простор» родной» в каждом фрагменте.
[26] Маевский А. Любим ли мы Россию? // Липецкая газета. 01.12.2001. № 233.
[27] Зограбян Н. Тройка, четверка плюс пулемет // Ростов официальный. 28.12.2001. № 057. C. 16.
[28] Реунов Н. Родом из «районки»... // Рязанские ведомости. 14.12.2001. № 241.
[29] Смирнов А. Он дарил людям тепло и свет... // Восточно-Сибирская правда (Иркутск). 18.12.2001. № 241.
[30] Марийская правда (Йошкар-Ола). Подготовил Дмитрий Шахтарин. 19.12.2001. № 239.
[31] Ляхов И. Память // Кузбасс (Кемерово). 19.12.2001. № 235.
[32] Начиная со статьи: Филиппов А. Ф. Наблюдатель империи // Вопросы социологии. 1992. № 1.
[33] Эта мысль, впрочем, куда как не нова. См. у того же Зиммеля: «Не географический размер встолько-то и столько-то квадратных километров образует огромное царство, но это совершают те психические силы, которые, исходя из господствующей срединной точки, удерживают вместе жителей такой области» (Simmel G. Soziologie. Op. cit. S. 687).
[34] См., помимо указанной выше статьи в «Вопросах социологии», развитие той же темы встатье: Филиппов А. Ф. Смысл империи: к социологии политического пространства // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 3. Россия как идея / Ред.-сост. С.Б.Чернышев. М.: Аргус, 1995.
[35] О практических схемах см. очень подробно классическое сочинение: Бурдье П. Практический смысл. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001.
[36] На основе лекции, прочитанной Фуко в 1967 году, в 1984 году была опубликована небольшая статья «Об иных пространствах». Мы цитируем ее по английскому переводу: Foucault M. Of Other Spaces // Diacritics. 1986. Spring. P. 22–27. О гетеротопии и, соответственно, гетеротопологии см.: Soja E. W. Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined places. Oxford: Blackwell, 1996. P. 154–163.
[37] См. Foucault M. Op. cit. P. 25.
[38] Ibid. P. 25.
[39] Ibid.
[40] См.: Ibid. P. 26.
[41] См.: Gregory D. Geographic Imaginations. Oxford: Blackwell, 1994. P. 151, 158, 297
[42] Этот процесс, имеющий глобальные масштабы, Зигмунт Бауман иронически назвал «space wars», что можно перевести как «войны за пространство» и «космические войны». См.: Bauman Z. Bauman. Globalization. The Human Consequences. Cambridge: Polity Press, 1998. Ch. 1.
