Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Развивая Тамерлана
В июле 1812 года, осмысляя начавшееся вторжение Наполеона в Россию, Гете в стихотворении, адресованном французской императрице, а на деле — ее великому мужу, написал следующие строки: Все ничтожное рассеялось, лишь море и земля имеют здесь значение[1].
Карл Шмитт, считавший эти строки эпиграфом к своему замечательному позднему опыту продумывания отношения земли и моря, удивительным образом так и не попытался обдумать — почему эти строки Гете написал именно по поводу битвы Франции и России? Россия для Шмитта была такой же сухопутной державой, как и Франция, и потому для объяснения строк Гете он вводил окольными путями Англию, очевидно представлявшую сторону моря в конфликте с Наполеоном. Вероятно, возможна и такая интерпретация (тем более что дальше Гете воспевает Закон, который дает твердой земле Император).
Однако мне кажется, что Гете ощущал ситуацию куда глубже и его строки толкуют именно столкновение Франции и России, как суши и моря. Но если Франция— сторона Земли, то неужели Россия тогда — сторона Моря? На первый взгляд— абсурд, интерпретация Шмитта куда правдоподобней.
Нижеследующие заметки — попытка хотя бы отчасти разгадать великую загадку пространственных интуиций о природе России, оставленную нам «уравнением Гете».
1. Геополитика
Нам нет преград ни в море, ни на суше.
Д’Актиль. Марш энтузиастов
У высказывания о России есть некоторое скрытое, но весьма существенное измерение, незаметное тому, кто исходит из абсолютного тождества своих речей о России и самого этого «объекта». Между словами и их объектом находится срединное пространство, назовем его «топологическим воображаемым», в котором размещает свое тело высказывающийся. Некоторые, иначе говоря, представления о нормальном состоянии вещей, их естественном положении и однородности законов мира в любой точке, куда потенциально может попасть высказывающийся индивид. Применительно к объекту «Россия» это выглядит так: в Москве, Чугуеве, Находке и Владивостоке — одни и те же способы организации социального пространства, одни и те же принципы поведения, ценности и стереотипы. Без постулирования такой однородности говорить об объекте «Россия» просто не имеет смысла. Различия вторичны по отношению к некоторой суверенной себе тождественности.
Точно таким же образом выглядит и оперирование словом «Европа» или «Запад». Далее можно затеять спор: одна ли ментальность в этих двух пространствах или совершенно различная, но идея «пространственной предвместимости» объектов Россия и Запад — нечто само собой разумеющееся.
Пространственная соположенность «двух миров», размещение их на земле как территориальных образований, граничащих друг с другом — сомнению, как правило, не подвергается. Именно эта интуиция лежит в основе геополитического мышления, поиска политических оснований размещения русского мира на земле. Собственные ли это основания или общечеловеческие — уже не важно. Самое главное уже свершилось до того, как высказывание о «геополитическом образовании Россия» сформулировано: высказывающийся разместил себя в некотором пространстве, и все дальнейшее — лишь работа его воображения с этими первичными интуициями.
Мое дело философа — ставить под сомнение первые причины и начала самого акта мышления, разрушать наивную веру сознания в тождество мышления и бытия. «Геополитика» как орудие мыслить русский мир мне представляется ловушкой для такой наивной веры, верховным императивом всех тех, кто не видит разницы между своими абстракциями и многообразием конкретного опыта в рассуждениях о русском мире.
Поэтому начну с размышлений о способах конструирования самого концепта «геополитика». Обычно геополитику определяют как стратегию расширения и контроля территорий на основе жизненных интересов наций.
Мне представляется, что такое ее понимание — весьма наивно и целиком основано на непроясненных представлениях о географии. В основе геополитического воображаемого лежит география, символом которой выступает всем нам привычная масштабная карта — карта азимутальной проекции. А ведь эта карта предполагает весьма мощные абстракции, и прежде всего — идею однородной, механической, универсальной сопряженности всех возможных точек наблюдения. Любое изменение в этом пространстве может происходить только с заранее определенным телом по заранее известным законам и траекториям. На этой основе создается представление о расчлененных географическими границами пространствах, вмещающих в себя компактные и однородные массы людей — народы — каждый со своими собственными заданными нормами поведения — «характерами». Так рождается идентификация государства и этноса через картографическое разграничение территорий. Только на этой основе может образоваться геополитика — идеология борьбы этнически обособленных государств, относящих себя к тому или иному месту на карте.
Но кроме «гео», в геополитике сокрыто и другое слово, еще более самоочевидное — «политика». Слово «политика» ведет свое происхождение от слова «полис», город. Город — не просто скопление домов. Как таковой он — не основа политики, а простой населенный пункт, который еще только надлежит вписать в некоторую культурную систему. Городом он становится, когда обретает защитные стены и внутреннее самоуправление, противостоящее тем или иным образом натиску внешней стихии. Можно сказать, что город — это внутри себя размеренная остановка, препятствие на пути распространения скорости движущихся потоков людей, товаров, животных. Обычно город складывался в каком-то стратегическом месте, в ландшафтно обусловленном узловом пункте скопления движущихся людей и товаров — в устье реки, месте перетаскивания лодок из одной реки в другую, остановки караванов, контроля за узким проливом и т. п. Контроль над движущимися потоками людей и товаров — главная функция, которая превращает населенный пункт в город, дает ему устойчивость и перспективу развития. Иными словами, город — точка господства над скоростью осуществляемых через данную местность перемещений. Контроль этих перемещений, контроль над скоростью — и есть суть города, суть политики. Политика — контроль над скоростью.[2]
Карл Шмитт в этой связи противопоставляет земельную цивилизацию иморскую, как дом и корабль. Мол, дом — это основа недвижимая, а корабль— движущаяся, отсюда — различие двух типов жизненно-цивилизационной стратегии. Однако Город — отнюдь не дом, и его недвижимость — характеристика функциональная. Город недвижим как цитадель контроля над скоростью, и в этом смысле он ближе к кораблю, чем к дому. Караваны, кочевники, бандиты, стада животных и стаи птиц — все это образует подвижное, нестабильное целое, омывающее своими потоками город и дающее ему жизнь и энергию. Город, вероятно, можно представить как авианосец, увенчивающий эскадру кораблей охранения и являющийся для них центральной цитаделью. Подобно этому и город на суше окружен более мелкими населенными пунктами, составляющими его жизненно необходимый эскорт, а также войсковыми выдвижными заставами, дальними оборонными сооружениями и т. п. Город организует вокруг себя пространство, ранее не имевшее никакого собственного значения, он расчерчивает это пространство: прокладываются дороги, вырубаются леса, растительность, и земли приобретают значимость чьей-то собственности, вода приобретает значение контролируемого ресурса — и все это увенчивается возникающей границей, отделяющей территории, подвластные городу, от «ноумэнслэнд» — т.е. земель, скорость потоков на которых город контролировать не в состоянии… Контроль этих границ вызывает к жизни концепт суверенитета и«межгосударственные отношения» — т. е. отношения с другими городами и государственные союзы.
Безусловно, два кочевых рода не менее ясно представляют себе границы своих охотничьих или пастбищных угодий, но практика их контроля носит принципиально иной характер, здесь нет никакого особого пункта остановки на пути потоков с целью контроля за скоростью, племена кочуют вслед за мигрирующими животными или по мере исчезновения растительности, уничтожаемой выпасаемым скотом.
Земля и земельная репрезентация приобретают в городской культуре особое значение, и городские культуры — это прежде всего и по преимуществу — культуры земледельческие, культуры растениеводов[3]. Но существуют примеры и морских городских культур, расчерчивающих море с такой же непреложностью, с какой расчерчивают растениеводы землю. Контроль над рыбными местами, удобными бухтами, стратегическими проливами и местами скопления пурпурных водорослей — такая же часть городской стратегии, как контроль над караванами, рынками и источниками воды. С этой точки зрения противопоставление морского и земельного — весьма условное. Безусловно, существуют цивилизации пиратов, живущих разбоем на морских путях и нападением на прибрежные города, но все они достаточно быстро вынуждены устраивать свои собственные города-базы с соответствующим самоуправлением, устанавливать систему раздела контролируемых участков берега и вод, сбора дани с покоренных пространств и т. п.
Так или иначе, но контроль скорости через остановку на пути потоков — суть любой городской цивилизации, и восточный город как место пребывания деспота со свитой или военного поселения-заставы и город западный как самоуправляемое собрание ремесленников или место проживания этноса — в этом различаются не много.
Но кочевое временное поселение отличается от них обоих принципиально. Легко разбираемые дома, имущество, которое целиком умещается на повозке, готовность в любой момент переместиться на значительные расстояния вместе со всем скарбом, отсутствие привязанности к земле[4] — все это создает основы для «политики» совсем другого типа, с полисом никак не связанной. Не обездвиживание скорости — основа контроля жизненных потоков в этом мире, но скорость движения, большая, чем скорость движения этих потоков (будь то стада животных или караваны людей). Сама территория измеряется скоростью передвижения по ней, есть функция от этого передвижения, гладкая поверхность, по которой скользит кочевое племя. Не города и дороги, а места остановки дают организацию земле, по которой движется кочевой народ. Ритм этих остановок тождествен ритму жизни, и его регуляция — и есть «политика» (иерархия господства) в этом мире. На деле кочевники никуда и не движутся — это растет их творящий ландшафт, степь или пустыня.
Все такого рода цивилизации — без различия того, плавают они на кораблях или движутся в кибитках — будут цивилизациями «морского» типа, цивилизациями контроля скорости через движение, а не через обездвиженность. Между хуннами или монголами азиатских степей и викингами или карибскими пиратами различий здесь куда меньше, чем между всеми ними и египетской, греческой или венецианской городской культурой.
Кочевые цивилизации предлагают другой тип мироустроения, и этот тип имеет другие принципы политического регулирования. Если городские цивилизации, контролирующие скорость через точки перманентного обездвиживания, расчерчивают мир бороздами как устойчивое, внутри себя тождественное целое, то кочевые цивилизации противопоставляют расчерченному миру мир гладкой поверхности, мир безостановочного скольжения, ритмизуемого остановками, после которых земля быстро стирает все следы прошедших. Миру контроля над скоростью через обездвиживание противопоставляется мир контроля над скоростью через сверхскорость. В степи и на море господствует тот, кто движется быстрее, кто более неутомим и внезапен. Летописцы, сопровождающие в степь или на море орды, посланные городом для наведения бороздчатого порядка, с презрением описывают этих трусливых бродяг, появляющихся ниоткуда, подло ударяющих в спину — и исчезающих в никуда. Городская цивилизация просто живет в мире других принципов[5]…
Мне представляется, что о геополитике имеет смысл говорить только применительно к городским цивилизациям, к цивилизациям расчерчивания пространств с целью разделения суверенитета с другими городскими цивилизациями. Геополитика — отношение полисов по поводу расчерчивания пространства. Как таковое, пространство всегда будет землей, вне зависимости от того, море это или суша.
Отношение же кочевых племен между собой, отношения по поводу ритмизации остановок в мире скольжения по гладким поверхностям — никоим образом геополитикой не являются. Никакого «гео», в смысле городских цивилизаций, для кочевников не существует, существует только «море» — бескрайняя поверхность, не поддающаяся однозначной разметке и обездвиживанию. Контролируется не «гео», не разметка пространства бороздами, а ритм перемещения, суверенность длительности от одной остановки до другой, и в этом смысле — время. Но время не как абстрактная расчисленная последовательность, определяемая по часам, а время как конкретная длительность, длительность, измеряемая дыханием, усталостью коня, запасом воды, воплем жен и движением светил, — время в бергсоновском его смысле. С этой оговоркой можно сказать, что контролируется не «гео», а «хроно», и кочевники устанавливают отношения между собой в рамках хронополитики[6].
Если геополитика связана с физикой твердых тел, с вечными ценностями, константами и «идентичностью» и теоремами, то хронополитика — с гидравликой, потоками, густотами и проблематами. В хронополитическом мышлении действует не дедуктивное выведение видов из рода, а движение от проблемы к«случаям» («а вот еще был случай»…), которые эту проблему обуславливают и разрешают. Не функциональная зависимость, а привязанность, «избирательное сродство» связывает одну фигуру мысли с другой. В мире геополитики господствует вертикаль, отложение перпендикуляра, гравитационное притяжение к центру. В хронополитике — горизонталь, марионетка, гравийный эксцентризм, «легкость», рассогласование, поле сил. Метрическому пространству геополитики противопоставляется векторно-топологическое пространство хронополитики. В геополитике власть прикладывается к организмам, в хронополитике — она взрастает из избирательного сродства тел, складываемого в вихре Вражды…[7]
2.Внутренняя Монголия
— А где оно, это место?
— В том-то и дело, что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположено в географическом смысле. Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово «внутри» здесь совершенно не подходит.
В. Пелевин. Чапаев и пустота
Можно ли сказать, что природа российского способа контроля территорий — геополитическая, что пространство контролируется посредством его расчерчивания и установления преград на пути скоростных потоков? На первый взгляд — да. Достаточно вспомнить хотя бы упоминаемую во всех учебниках борьбу Руси со Степью, трогательную историю русской миссии — защищать Европу от нашествия кочевников. Не говоря об ужасной истории завоевания Руси кочевниками-монголами, истории татаро-монгольского ига, замедлившего развитие страны, струдом сохранившей свою оседлую христианскую идентичность… Россия — крестьянская страна, страна земледельцев, и вопрос о ее геополитической природе как бы и неприлично поднимать, чтобы не выглядеть идиотом.
Впрочем, существует и другая точка зрения на природу российской политии, сегодня широко известная и даже до некоторой степени популярная. Это — точка зрения евразийства. Напомню, что согласно этой точке зрения культура и государственная структура постмонгольской Руси — кочевая[8]. Т. е. до некоторой степени можно говорить о городской, геополитической природе домонгольской Руси. Хотя более детальные исследования и здесь указывают на сложный симбиоз наемных, по сути кочевых, дружин викингов с собственно городской структурой сословий, а в более широком плане — на весьма гибкую структуру сосуществования славянских племен со своими кочевыми степными соседями. Землепашеская оседлая природа самих славянских племен домонгольской Руси— во многом поздний миф, жили эти племена в основном собирательством, войной, торговлей, контролем пути из варяг в греки, и эта их основа помогала им легко находить общий язык со своими кочевыми соседями. Тенденция кгеополитическому способу контроля территорий, безусловно, имеется, но даже система наследования княжеской власти на Руси ближе к номадической дистрибуции, чем к земельно-репрезентативной древовидной структуре.

Приход монголов — вовсе не выглядевший нашествием-катастрофой, как его рисуют пристрастные летописатели, мерявшие Русь чуждой ей византийской культурной ситуацией — лишь кульминация долгого пути становления адекватного симбиозу кочевников, землепашцев и городских цивилизаций мирозиждения. Более того, еще Ключевский отмечал, что климатические и иные изменения к концу XI – началу XII века вызвали упадок цивилизации, именуемой «Киевская Русь». Приход монголов как бы вдохнул новую прану в угасающее мироустройство. Княжеско-военный элемент, торговое сословие города и земледельцы — все нашли свой интерес в приходе монголов, все имели с ними общий язык. Княжеский элемент отчасти привык к гибкой, нестабильной системе наследования уделов, отчасти даже получил третейского судью, у которого можно было искать справедливости в спорных случаях наследования. Торговое сословие, живущее дальними путешествиями, налоговыми льготами, вытеснением конкурентов в закупках — получило большие гарантии безопасности в далеких путешествиях, новые торговые пути и рынки, стабильные системы взимаемой пени на огромных пространствах, контролируемых новыми хозяевами степи. Земледельцы-собиратели получили стабильную систему взимаемых налогов, гарантии от произвола, идущего со многих, заранее неопределимых сторон, возможность поддерживать и далее свое участие в контроле за потоками, проходящими через жизненные территории. Военное кочевое сословие получило новые пространства для войны и обогащения за ее счет — причем в тени могучего союзника. Даже церковь — привыкшая жить в «поганом окружении» (степень христианизации славянских племен сильно преувеличена в расхожей учебной литературе) — только выиграла от монгольского господства, получив освобождение от налогов и защиту от наступления западных церковных конкурентов ( а ведь пример германской власти, инициировавшей откол от Византии прежде всего по политическим причинам, мог стать весьма заразительным для русских князей).
Словом, монгольское завоевание угасающей, впадающей в маразм Киевской Руси было не только счастливым лотерейным билетом для распадающейся системы жизни и власти, но и единственным способом ее поддержания и развития.
Такой взгляд, разумеется, и сегодня не общепринятый. А если есть противники — найдутся и аргументы против. Но необходимо подчеркнуть: принятие «евразийской» системы взглядов на русскую историю и оценку монгольского нашествия или ее отвержение — выбор, происходящий до начала знакомства с реальными историческими фактами, на уровне выбора мировоззренческой установки историка и всякого, историей интересующегося. И этот предварительный выбор будет интересовать нас куда больше самих исторических фактов.
Однако немного продлим наш экскурс в русскую историю. То государство, которое выходит на арену исторический деятельности после распадения монгольской империи — так или иначе — продукт уже монгольского этапа.
И потому действует оно в своей внутренней и внешней политике (если их можно различить) — средствами кочевой машины войны. Московская власть относится к подвластным территориям как к пространству для набегов и сбора дани. Институт наместников, стравливание разных территориальных образований, карательное отношение к мятежным самостийностям, рассеивающее опустошение подвластных земель — все это те утрированные черты Золотой Орды, которые составили суть постмонгольской российской государственности и с которых ретроспективно была списана «летописцами» и «историками» сама Золотая Орда (куда более гибкая в своей политике).
Геополитический тип суверенности собирает себя через расчленение земель на строго определенные сегменты и последующую их административно-законодательную сборку в однородное целое, подвластное наблюдению и контролю из единой точки.
Русский же — постмонгольский тип собирания целого основан на принципе прямо противоположном, который я обозначил бы как «гетерогенный монтаж конкретных длительностей». За этой ученой фразой скрываются вещи вполне понятные. Усвоение монгольских принципов политической сборки создало весьма своеобразные отношения «центра» и «периферии». «Центр», инстанция власти строит свои отношения с подвластными территориями на основе абсолютной чуждости, на основе постоянной угрозы набега и разорения. Подвластные земли могут частично страховать себя от внезапной смены милости на гнев лишь непрерывным потоком жертвенных даров — количество и качество которых отнюдь не находится в прямой связи с гарантиями безопасности и размером привилегий. Развивая и дополняя монгольскую политику ярлыков, Иван Грозный довел почти до совершенства эту политическую технологию «Внутренней Монголии». Институт опричнины, набеги на окрестные территории, полная непредсказуемость политических решений, отчужденность от аборигенов — все эти и тому подобные приемы стали с тех пор классическими в арсенале технологий власти. Петр Первый или Иосиф Джугашвили, с точки зрения приемов, какими они строили свою власть и проводили преобразования, лишь верные ученики гениального учителя.
Смысл политической технологии «Внутренней Монголии» в том, чтобы превратить институт власти в нечто абсолютно внешнее пространству, над которым эта власть осуществляется, в своего рода Золотую Орду, кочевое, неподвластное никакой логике и расчислимости аборигенами «начало» (на деле — вовсе и не «начало», а в нечто, начало которого — нигде, а центр — везде, в постоянно готовую взорваться в любой точке под ногами аборигенов землю). Вместо расчерченной по законам ньютоновской физики территории, подчиняющейся заранее заданным законам и из самой себя испускающей импульсы власти, мы наблюдаем дикую, неподвластную никаким законам, непрерывно блуждающую и обнаруживающую себя в самых неожиданных местах кочевую линию власти. Зачем нам погружаться в глубины истории, достаточно присмотреться к способам осуществления власти в ельцинской и путинской России. Современная политика московской власти — хрестоматийный пример кочевой политической стратегии. Такой она была в советскую эпоху, еще более ясные формы приобрела она — как всегда в моменты напряженных изменений — в ельцинскую эпоху, такой вид она имеет и при Путине. Наместники, воюющие всеми средствами с местными туземными вождями, стравливание самих туземных вождей, опустошение подвластных земель, выбор карательной стратегии как главного средства умиротворения, разор как способ утверждения власти — всему этому читатель найдет десяток примеров, открыв любую свежую газету. Дело не в злонамеренности или там глупости конкретного местоблюстителя. Дело — в логике, посредством которой устраивается власть в московском царстве. Внезапное (и что характерно — задним числом, т. е. власть неподвластна даже линейному порядку времени) изменение законов в самых неожиданных областях; перемена целых кабинетов министров по внезапному наитию, с вознесением на самый верх неизвестных лиц; не менее внезапное образование и распадение политических союзов; внезапные исчезновения и появления в самых неожиданных местах верховного деспота; внезапные же военные кампании, столь же внезапно, впрочем, и обрывающиеся… И т. д. и т. п. Словно «внезапность», как видите, я вынужден употреблять непрерывно, ибо это единственное, что объединяет в целое столь удивительным образом складывающееся мироздание.
Немыслимо собрать это пространство геополитически, расчерчиванием, разметкой и установлением универсальных законов. Каждое тело в этом пространстве живет через нетождественность самому себе. Изменение ради самого изменения, черпающее наслаждение во внезапности, беспричинности и экстатическом возрастании, в расцеплении всякой связи со смыслом — таков основной закон существования в этом «пространстве».
Русский город, заново сложившийся в период монгольского господства[9], приобретает совершенно новый вид: вид военного поселения, ставки и караван-сарая одновременно. Симулятивный фасад отчасти европейского типа (стены, крепкие дома) скрывает совершенно кочевое по своему типу поселение, не отличимое по своей сути от монгольских ставок. Такой город находится в ином культурном пространстве по сравнению с пространством самоуправляемого западного города. Он— отнюдь не политическое пространство остановки на пути скоростных потоков с целью контроля через обездвиживание. Это — мобильный пункт отдыха на пути потоков скорости, источник самых скоростных импульсов и точка наивысшей интенсивности в перераспределении «номадических дистрибуций».
Только на основе вышеизложенных разъяснений можно ввести важнейший для описания отношения русского мира к геополитике концепт «геополитический идиотизм».
Учреждение Петербурга — самый, вероятно, знаменитый из символов геополитического идиотизма, — высшее симуляционное достижение русского мира. Усвоение кочевой стратегии псевдооседлыми племенами вообще поощряет высокое развитие симуляционных способностей. Русский город — столь похожий внешне на европейский — и столь радикально отличающийся от него по сути — топос симуляционной стратегии. Петербург как бы увенчивает собой и итожит этот симуляционный проект. Жертвенно-разорительное основание столицы-на-болоте — начинание бессмысленно дорогое и трудное не только в начале, но ивообще при всем регулярном поддержании жизнедеятельности города-призрака — закрепляет культурный статус за тем типом городской стратегии, который стихийно складывается в ходе инкорпорации монгольских завоевателей в поры туземной жизни бывшей Киевской Руси.
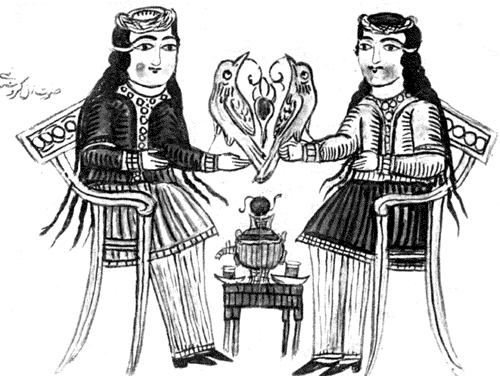
Способ учреждения и поддержания жизнедеятельности Петербурга наглядно показывает — каким образом, собственно, относится к геополитическому топосу и каким образом использует для своих нужд его достижения русский мир. Петровское собирание элементов этого топоса — лишь еще один, особенно эффективный способ осуществления властной стратегии Внутренней Монголии, начальственного удержания в точке «не-из-чего-не-изблеванности»[10]. Симуляция геополитического топоса дает возможность как находиться в абсолютной внеположенности имманентным жизненным процессам русского мира, так и удерживать сверхскоростное состояние Золотой Орды, бессмысленно и беспощадно сеющей жертвенный разор среди аборигенов. Модель «Петербург» — основополагающая для всех последующих проектов насаждения «нормальной западной (т.е. геополитической) жизни» на хронополитических просторах русского мира. Будь то отмена крепостного права, принятие конституции, созыв учредительного собрания или индустриализация — любое глобальное реформационное действие непременно осуществляется в категориях геополитического топоса — и вовсе не затем, чтобы действительно что-то реформировать. Цель — в жертвенном разоре, в удержании состояния Внутренней Монголии, вне которого русский мир просто не в состоянии нанизываться на вертикаль хрононачалия. Вероятно, основная причина горбачевского разворота «лицом к Западу» — как раз в очередной подпитке угасающего геополитического симулякра, необходимого для питания Внутренней Монголии энергией разора. Ельцин с поддерживающими его реформаторами-западниками — лишь идеальные марионетки осуществления этого необходимого повышения порога интенсивности состояния Внутренней Монголии, плодами которого сегодня с таким административным восторгом пользуются Путин и его единомышленники.
Геополитический идиотизм — заслуживающий, вероятно, отдельного подробного разбора, — важнейшая составная часть хрононачальствования, позволяющий и разговаривать с миром геополитики на его языке (симулируя свою хотя бы частичную вхожесть в него), и органично сеять начальственный разор, поддерживая состояние кочевой линии власти, сверхбыстрого стержня в реакторе русского хаосмоса.
Величественной трагедией предстает в этом свете на фоне русской истории судьба Екатерины II. Начав как европеоидная реформаторша, она попыталась вначале своей политической карьеры собрать народное собрание всех народностей и сословий И la Монтескье — и обнаружила невозможность конституирования геополитической суверенности из столичных генералов, уездных предводителей дворянства, донских казаков, оренбургских тептерей и сибирских самоедов. Именно она — впервые! — приказала повесить карту империи в Сенате, который, к ее удивлению, управлял страной без всякого представления о географии. Именно она же в геополитическом раже начала своей перестройки окончательно прикрепила крестьян к земле. И, умевшая всю жизнь учиться, она стала великой императрицей (возможно, самым великим из преобразователей в русской истории), поняв абсурдность своих французских геополитических взглядов на Россию и сумев переступить через них. Она сумела не просто развить в себе способность мыслить а-геополитически, наполнить петровский геополитический идиотизм позитивным содержанием, но и подобрать полководца, выковавшего непонятные европейцам принципы стратегии, создавшего новый тип машины войны. Суворовская машина войны — машина сверхскорости, способная как раз связать гетерогенные друг другу конкретные длительности столичных генералов и тептерей всуверенность линии чистого движения. Геополитический идиотизм перехода Суворова через Альпы — вовсе не идиотизм в том горизонте, в котором Суворов воплощал в себе вектор сверхскорости связывания стихий российской империи, тот вектор, который ставил в тупик привыкших к равномерным механическим перемещениям европейских политиков и мыслителей. Суворов был непобедим, ибо его противники сражались с ним в пространстве, тогда как он перемещался по линии чистой (временной) интенсивности. Переход через Альпы — это просто знак иной реальности, чем реальность геополитическая. Екатерина сумела понять ираспространить действие суворовской машины войны на все пространство российской жизни, сделать сознательным принципом то, что стихийно импровизировали Иван Грозный и Петр Великий. Ее «потемкинские деревни» — симукляры европейскости вдоль дороги, специально проложенной для скоростного перемещения императрицы, — прекрасный пример действия этой суворовской машины войны за пределами собственно военных действий. Другим хрестоматийным примером является переселение запорожцев на Кубань (и за Дунай) — Сталин лишь жалкий подражатель великой изобретательнице. Суворовская машина войны наглядно демонстрирует, что российское государство, хотя и соотносит себя с миром геополитического мышления, но не собирает себя в его горизонте и не строит свои действия геополитическим образом. Вместо того, чтобы замкнуться вкартографически определенное целое и построить политику союзных отношений со своими соседями на основе вытекающих из картографической определенности ясных территориальных задач, русские просто не в состоянии остановиться в своем движении. Русских, к примеру, на протяжении долгих столетий куда больше конкретных геополитических проблем интересовала идефикс «водрузить крест над Константинополем»[11] для «объединения православных» (совершенно ясно, что эта задача не имеет никакого отношения к геополитической репрезентации территорий, так что возможно даже начать в эпоху Екатерины объединение православных с войны за освобождение самого удаленного от России православного народа — сербов). Или, в советском изводе, мировое объединение пролетариата интересует сталинское государство настолько больше геополитической безопасности, что это приводит — как прекрасно показал Виктор Суворов (Резун) — к почти тотальному краху суворовской машины войны, едва оказались нейтрализованы ее главные качества — быстрота и натиск.
Этот универсум несобираем по законам, созданным для геополитической пространственности «нормальной» (практикуемой в европейском университете) наукой И la социология. Не расчерчивание разного рода пространств-вместилищ, а ритм локальных (временных) изменений дает устойчивость русской почве. Территория России, иными словами, образуется не на гео-, а на хроно-основаниях, икарта климатических колебаний погоды в Москве или поражений внутренних органов Ельцина куда важнее для этого типа территориализации, чем карта соседства между Польшей и Китаем. Территория между Москвой и Петушками, как прекрасно продемонстрировал классик[12], измеряется в первую очередь количеством выпитого и его качеством, ритмами отключек и сблевываний, а затем — временем передвижения электрички, и никогда — километрами (Москва и Петушки вообще оказываются не сопряжены в пространстве). Километры в этом пространстве важны только для инстанции надзора, и то — только в виде их перевода в граммы.
Фигура контролера Кузьмича из «Москвы-Петушков» прекрасно демонстрирует необходимые свойства власти в этом типе территориализации: контролер должен пить больше всех и быть самым экстатически возбудимым. Власть должна быть более скоростной и интенсивной, чем любое из конкретных длений. Старший ревизор знает, куда едет черноусый и куда — Митрич, он объемлет своей скоростью и вместимостью все конкретные длительности движения. Не слезь он в Орехово-Зуево, не полейся из него на асфальт все взятые им штрафы — не произошел бы коллапс территориализации на направлении движения Москва-Петушки. Ибо власть здесь — инстанция суверенности чистого движения. Она власть — только если она перемещается быстрее, внезапнее и бессмысленнее всех. Только на путях сверхскорости и сверхбессмысленности способно русское государство смонтировать воедино все локальные трансформации и бессмыслицы. Трезвый, здоровый, умный, тщательно рассчитывающий с хорошо подобранными помощниками все свои действия президент — просто не в состоянии управлять на этой территории. Так мечтал управлять Горбачев — и большего герострата трудно найти в русской истории. Стоило государственной машине потерять скорость и напор приумножения бессмысленности — и советский универсум развалился на запчасти.
3. Хронополитический ландшафт
Они грозятся стереть нас с лица земли.
Но как можно стереть с лица земли тех, у кого так много-много земли — и никакого лица?Венедикт Ерофеев
Следует хотя бы в самых общих чертах попытаться описать мир, высвобожденный из городского контроля над скоростью на простор имманентности тотальной войны и абсолютной скорости, мир, поднадзорный Кузьмичу.
Прежде всего, необходимо выделить невроз граничности. Движение в русском мире осуществляется не в силу экономических и т. п. причин, а в силу клаустрофобии перед ландшафтным замыканием.
Государство находится с землей, репрезентацией которой оно, вроде бы, должно являться, в весьма напряженно-проблемных отношениях. За постоянной проблематизацией роли и места субъектов Российской Федерации, за непрерывными размышлениями об их лучшем переподчинении и об «оптимизации управления» скрывается именно стратегия разрушения земельной репрезентации государства. Государство в России стремится не закрепиться на земле, стабильно расчерченной раз и навсегда, но предельно ослабить всякую зависимость от земельно-бороздчатой расчерченности. Поэтому деятельность этого государства основывается на лихорадочном и неустанном перекраивании всех возможных видов границ и демаркаций.СССР в этом отношении, конечно, представляет наиболее ясный пример стратегической «детерриториализации». Непрерывная и бессмысленная для любого рационального объяснения деятельность по перекраиванию границ между этническими образованиями, перемещения самих этих этнических образований на далекие расстояния (заставляющие вспомнить великое переселение народов), переподчинение гигантских областей в целях «дальнейшей оптимизации», образование и ликвидация новых этнических единиц, перевод языков с одного алфавита на другой — все это служит одной «цели» — оторвать этносы от земли и ввести государство между этносами и землей как максимально быструю и максимально сильную инстанцию скорости. Рассеяние рациональности в действиях государственного аппарата — необходимый момент достижения и демонстрации властной скорости суворовской машины войны, которой в этом случае становится государственный аппарат.
Эта детерриториализация производит удивительный эффект в отношении земле. Ее возделывание превращается в практику кочевого растениеводства. Собственно, уже древние славянские племена практиковали — через выжигное земледелие — кочевое растениеводство. Сельскохозяйственная стратегия колхозного советского строя лишь возвела практику выжигного земледелия в стройную систему сельскохозяйственной суворовской машины войны. Мичуринско-лысенковская дрессура растений с обучением их элементам коллективной взаимопомощи, хрущевское преодоление климатических ограничений в выносливости растений, магический подход к планированию урожайности — все это элементы единой стратегии репрессивно-кочевого растениеводства, растениеводства скорости[13]. «Трудовой десант» столь же хорошо отражает смысл хронополитического сельского хозяйства, сколь и «битва за урожай», которой наиболее соответствует «режим чрезвычайного положения» (каковым и является колхозно-совхозная хтоническая машина войны). Наглядная агитация при входе в правление колхоза или штаб трудового десанта со стрелками экстатического увеличения количества голов скота, яиц, центнеров с гектара и т. п. —понятная и привычная каждому диаграмматика хронополитики. (Экономика и в целом находится в рамках той же стратегии: диаграммы экстатического роста всего и вся — ее стратегическая цель, не рациональное накопление, но скорость — суть производства и его репрессивно-кочевого способа планирования. Рекордная плавка стали или невиданное количество болтов — цель, а не средство в этой экономии жертвы).
На визуальном плане хтоническая машина войны репрезентируется через катастрофу ландшафта. Я бы обозначил эту фундаментальную особенность русско-советского мира как «разрытость бытия». Недвижимости ландшафта еще со времен Петра объявлена тотальная война. Необходимо все время что-то рыть, менять течение рек, климат, местоположение болот, лесов и степей. Так происходит высвобождение из оков самых фундаментальных природных предпосылок, геозаданность топологии превращается в пластичный субстрат для воплощения диаграмматизмов суворовской машины войны.
Два самых существенных элемента хронополитического ландшафта — забор и канава. Если канава разрушает «место» территориальной репрезентации, то забор разрушает «момент», временную репрезентацию земельного типа. В этом пространстве время меряют от забора до обеда. И автомобилист, исходящий из бороздчатой организации пространства, может измерить своим экстатическим ступором перед заборами и канавами мощь хтонической машины войны. Локальные, без начала, конца и цели заборы, канавы, трубы — пороги интенсивности, заставляющие внезапно, вопреки всякой рациональности, менять направление и скорость движения водителям и пешеходам, ломая тем самым всякую связь движущихся с логикой земельной репрезентации, детерриториализуя их и вводя между ними и землей в качестве опосредствующего топологического элемента хтоническую машину войны и стоящую за ней власть Внутренней Монголии. Так из движущегося в ландшафте заборов и канав создается тело скорости, гражданин мира хронополитической суверенности. Ясный каждому знак суворовской машины войны в этом пространстве — работник ГАИ, господин скорости и знаков движения. Иррациональная, слабо поддающаяся логическому объяснению его репрессивная деятельность— один из ярчайших индексов хронополитической властной стратегии.

Совершенно ясно, что экстатике разрушения ландшафтов и стирания всяких намеков на бороздчатость может соответствовать только непрерывно возобновляемый соматический, физиологический экстазис. Пьяному море по колено — таков главный лозунг хронополитической суверенности. Трезвое тело скорости— нонсенс, ему нужна геополитическая, бороздчатая расчерченность пространства перемещения. Тело скорости должно быть опьяненным. Состояние алкогольного опьянения — единственно адекватное детерриториализации состояние сознания, только в таком состоянии и можно быть адекватным суворовской сверхскорости[14]. Быстрота и натиск суворовской машины войны уже самим Суворовым связывались с состоянием алкогольного опьянения. Иначе в гладком пространстве не сыскать пути. Лежащий в канаве или под забором пьяный, уже не могущий передвигать ногами гражданин мира хронополитической суверенности — на деле достиг абсолютной скорости. Подобно тому, как кошка находит силовые линии земли и ложится в точках их пересечения, так пьяный находит силовые линии ландшафтной ориентации хронополитического мира и располагается вдоль них. Он достиг максимальной интенсивности скорости, и все, чем суворовская машина войны может ему ответить — это изъять его с этих линий и отправить на принудительное протрезвление, доказывая тем самым, кто же хозяин скорости в этом мире.
Нельзя не вспомнить о еще одной эмблематической фигуре хронополитического суверенитета — о пограничнике. Если колебания пьяного по нерегулярной кривой между канавами и заборами, стоячим и лежачим положением — микросегментация хронополитического ландшафта, если мерцание сотрудника ГАИ между грозным стражем с полосатой палкой на дороге и охотником в кустах за забором или в канаве — макросегментация этого ландшафта, то на мегауровне ее репрезентирует пограничник, чья фигуративность колеблется между демонстративной видимостью (символа незыблемой совокупности ландшафтов, контролируемых суворовской машиной войны) и сокрытостью стерегущего Мухтара Ингуса (символа угрозы для врагов из геополитического пространства, безусловно день и ночь обдумывающих способы зловещего проникновения в пространства хронополитической суверенности). Если сегодня пограничника практически вытеснил в качестве стража границ таможенник, то по сути это не только ничего не меняет, но и усиливает эмблематическую мощь фигуры хранителя границ хронополитической суверенности. Иррациональная непредсказуемость таможенных реакций и волшебное умение вагон ботинок превратить в вагон щебенки лишь острее маркируют граничащую мощь Стража — высшего порога интенсивности в точке встречи двух миров.
Необходимо также описать, хотя бы кратко, каким образом строится социальная связь в пространстве хронополитической суверенности русского мира. Социальная связь в пространстве, складываемом через суворовскую машину войны — коммунальная, и ее топос, ее Внутренняя Монголия — коммунальная квартира, барак. Организуется она через суворовское разгораживание буржуазных, геополитических приватных пространств — квартир среднего класса, захваченных суворовской машиной войны. Переселенные туда пролетарии — идеальные граждане хронополитического мира (по определению у них нет отечества) — разгораживают эти квартиры моделируемыми в репрессируемом приватном пространстве заборами и канавами — картонными перегородками или самими капитальными стенами комнат, — с тем, чтобы собрать это репрессированное геополитическое пространство приватного проживания заново — вокруг квартирной («общественной») уборной, совместный контроль за которой, собственно, и собирает коммунальную квартиру как социальное пространство. Покончившая с приватизацией ануса[15], с геополитической собранностью тела, структура коммунального надзора за общественной уборной и становится той точкой кристаллизации, которая заново собирает и фрагментирует все бывшее городское пространство. Стратегия коммунального надзора над общественной уборной, собирающая топос коммунального квартирного сосуществования — склока, скандал[16]. Скандал (см. его мастерское описание у Ильфа и Петрова в жизни «вороньей слободки») эффективно разрушает всякую семейную эдипализацию, всякую возможность приватных пространств. Суворовская машина войны, конкретизируемая в пространстве скандала войной всех против всех на уровне микросреды обитания, уничтожает саму возможность индивидуального высказывания. Тотальная война проникает на атомарный уровень существования. Экстатика скандала собирает плоть в новый тип телесности — массу. Нет личного дела в коммунальной квартире, все является делом «трудящихся масс» — от поноса до совокупления. Перегородки между комнатами — такой же симулятивно-мерцающий тип границ, как и все прочие способы граничности хронополитического мира. Они служат не для разграничения пространства по бороздчатой модели, но для смены порогов интенсивности скоростного смещения поперек всяких расчерченностей. Звук проникает сквозь эти картонные квазистены и детерриториализует те остатки приватности, которые еще не выветрились в битве за коммунальный сортир.
Экстатика скандала выплескивается из квартир на улицу, в трамваи, подворотни, магазины, учреждения, везде производя работу по экстатической децентрации тел и занимаемых ими мест — чтобы собрать их в новую огромность массовидного тела. Эмблематами этой новой телесности становятся очередь в регистре буден и демонстрация в регистре праздников (на деле эти два регистра смешиваются в единое целое, В. Сорокин это прекрасно показал в своих ранних работах).
Вихрем носится скандал среди домов, превращенных в бараки, созидая среди разрытости бытия кочевые стоянки новой исторической общности. Рождение системы хрущоб, бесконечно повторяемых модулей домов и прилагаемых к ним инфраструктур лишь выводит барачный мир на уровень архитектурного мышления. Всепроницаемые стены квартир по-прежнему детерриториализуют внутреннее пространство, тогда как битва за коммунальный сортир выносится наружу — на лавочки перед подъездом, столы доминошников, песочницы и деревянные домики для детей, отделы «вино-воды» в ближайшем гастрономе — для мужчин, и «мясо-колбасы» — для женщин… Следует вспомнить и садово-огородные кооперативы, которые своей барачной структурой счастливо совмещают хтоническую машину войны с экстатикой скандала.
В постсоветской реальности из этой фрагментации вырастают ларьки — новый модуль конструирования социального пространства. От ларьков скандал воспаряет в электронное пространство средств массовой информации. Ареной его становится телевизионный эфир и разгородка вещания на частоты. Наконец, хронополитический человек, взращенный скандалом, получает доступ в интернет — и превращает его пространство в глобальную битву за коммунальный сортир и за репрессию приватности ануса Другого.
4. Что такое «ответ русского мира на вызов Запада»?
При сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, щитает нас за сто верст, а коли издалека, то в двух-трех стах и больше. Вдруг мы на него, как снег на голову. Закружится у него голова! Атакуй с чем пришел, с чем Бог послал! Конница начинай! Руби, коли, гони, отрезывай, не упускай! Ура чудеса творят, братцы!
А. В. Суворов. Три воинские искусства
Сегодня, после развала советской системы, важно верно осознать — в каком контексте этот распад произошел и что является искомой «нормальностью», которую жаждут создать.
На наших глазах творится некоторый двойной миф (или некоторая мифологическая оппозиция), который пытаются выдать за «возвращение к нормальным порядкам жизни». С одной стороны, творится миф о Русской империи, как о городской цивилизации западного типа, о цивилизации бороздчатой, живущей через расчерчивание и обездвиживание потоков скорости. Возвращение к этой фантастической, на деле никогда не существовавшей цивилизации — основная операция легитимации «возвращения к первоисточнику» для консервативного крыла современных политиков — будь то коммунисты-зюгановцы или путинские «центристы»-государственники. С другой стороны, творится миф о геополитической цивилизации Запада, столь же городской и бороздчатой. Она вводится либо через угрозу российским интересам, которой надо противостоять адекватным геополитическим усилием, либо через идеальный порядок «настоящей культуры», в которую надо всеми средствами вписаться. На деле, разумеется, обе эти стороны конструкции Запада дополняют друг друга (и у Павловского, и у Жириновского обе они равным образом выпукло представлены).
Мне представляется, что миф об оседлой и непоколебимой Российской Державе, как и миф о геополитическом Западе, — два необходимых момента одного способа мысли — симулятивного городского присутствия, утопии абсолютного контроля за скоростью через обездвиженность скоростных потоков. Этот способ мысли — необходимый момент петербургской симуляции, когда реальная кочевая дистрибуция находится в симбиозе с воображаемой геометрией абсолютного евклидова порядка. Геометрия петербургских пространств с туманами и коммунальным базаром в глуби жилищ — так описывалась эта конструкция русской классикой. Идеальная геометрическая упорядоченность Государственного Ума Аблеухова-старшего и хаотическое молекулярное движение его сына в мире неупорядочиваемых вечно-прохожих — так это было гениально изображено Белым.
Миф геометрической упорядоченности пространств и находит свое воплощение в политическом дискурсе восстановления властной вертикали и контроля за геополитической горизонталью. Перед нами держит речь политический дискурс Города-Полиса, у этой речи есть свой порядок и своя логика — и она пытается породить из себя реальность, на которой можно созиждить подобие тела этому призрачному дискурсу. Над фактической номадической дистрибуцией жизни, над ее кочевой логикой надстраивается как бы второй этаж, на бесконечный хаос войлочных юрт наползает туман, в котором они могут сойти за среднеевропейский город. Но необходимо отдавать себе ясный отчет — это только миф для учреждения определенного порядка господства, но ни в коем случае не некоторая «реальность сама по себе».
Чтобы понять всю опасность данного способа речи, необходимо глубже продумать способ, каким осуществляется сегодня политика на тех пространствах, где раньше торжествовала власть Города и обездвиживания скорости —т. е. «Запада».
Этот Запад между тем находится в процессе полного разложения прежнего типа городской цивилизации. Как показал Вирилио, контроль территорий уже давно потерял те формы, в которых он строился в рамках городской цивилизации. Город-полис окончательно утратил всякую значимость вследствие изменений, источник которых лежит в средствах войны. Еще в начале века война была одним из средств поддержания существования полиса, «продолжением политики иными средствами», средством контроля над обездвиживанием рассеченных бороздами территорий. Территория государства мыслилась как огромный город, обнесенный крепостными стенами, внутри которого реализуются городские права, свободы и привилегии, а за пределом находятся другие такие же города или дикие неконтролируемые территории. Отношения с другими городами по поводу этих диких территорий, или в рамках борьбы за доминацию в контроле за всевозможными потоками товаров и людей, и были политикой, которую решали мирными или военными способами. Безопасность территорий, их предсказуемый характер как внутри города, так и за его пределами — главный предмет такой политики, ее главная задача. Легко заметить, что главный предмет такой политики — земля, именно контроль над ней, над способами ее расчерчивания— вопрос мира и войны. Море интересно лишь в той мере, в какой оно обеспечивает безопасность земли и является пространством для нормального передвижения грузовых и пассажирских перевозок. С этой точки зрения популярное противопоставление континентальных и океанических государств не имеет никакого значения. Остров рассматривается как идеальный город (собственно, и города считались удачно основанными, когда их со всех сторон окружала вода), а океан — как разновидность земельной репрезентации[17].
Действительно, замечает Вирилио, проблема контроля над морскими пространствами рождает, начиная с конца XVII века, стратегию перемещающихся флотилий («fleet in being»), в которой главное — администрирование присутствия на море, создание состояния психологической незащищенности морских дорог ипланирование этого состояния незащищенности как центрального элемента стратегии. Прямое противостояние военных кораблей борт в борт, копирующее земельную битву городских цивилизаций, обнаруживает свою вторичность сугубо вспомогательного элемента по отношению к той стратегии, которую задолго до этого применяли кочевники в борьбе с регулярными городскими цивилизациями оседлых людей. Это — стратегия перманентной и нелокализуемой угрозы, роящейся пустоты, из которой кристаллизуются поперек всяких расчерченных пространств с невероятной скоростью силы быстроты и натиска, именно своей сверхскоростью опрокидывающие всякое сопротивление регулярных войск.
Однако до начала XX века эти силы — лишь элемент более широкого целого, в котором безопасность территорий и защита их границ — центральный пункт. В двадцатом веке, с мировыми войнами, сопутствующими им глобальными блоками и соответствующими этой стратегии новыми техническими средствами стратегия кочевников, повторенная в морском глобальном противостоянии, выходит на передний план. Тотальная война — экономическая, техническая, культурная — одного блока против другого ниспровергает прежний порядок «тотального мира». Уже Версальский мир — всего лишь продолжение войны другими средствами. Вся последующая история ХХ века — лишь развитие этого переворота. Он окончательно опрокидывает политику защиты территорий с развитием боевых средств ведения войны в воздухе. Перенесение боевых действий в воздух, как прекрасно показал Вирилио, преодолевает препятствия, накладываемые на стратегию fleet in being морской средой. Воздушная среда, равным образом обнимающая море и землю, смешивает древнейшее разделение, на котором основывает свой мир земледельческая городская цивилизация. Угроза в воздухе перманентна, постоянна и от нее нет никаких супернадежных средств защиты. Контроль границ-стен теряет всякий смысл. Эскадра летучих машин, прилетевшая из очень удаленного места, способна в считанные мгновения превратить в руины крупный населенный пункт или даже неприступную крепость (как это случилось в Кенигсберге). Пирл-Харбор, Дрезден, Герника — это надгробные знаки на городской цивилизации.
Но не самолет, а ракета[18] дает этой новой реальности ее современные очертания. От Фау-2 к современному ракетно-ядерному противостоянию, в котором территория — лишь база данных в системах спутникового слежения и наведения,— эта реальность опрокидывает все аксиомы геополитики. Контроль территорий средствами городских оседлых цивилизаций теряет всякий смысл. Территория просто больше не имеет смысла как область защиты. Мы находимся в мире тотальной войны, террористы, спутниковое наблюдение, «репортажи» с места событий и сверхконсумеризм — лишь элементы этой тотальной войны, в которой целью являются она сама и скорость как ее суверенность. И мы видим, как политика, ставшая продолжением тотальной войны иными средствами, приводит на наших глазах к совершенно новым представлениям о способах контроля за потоками скорости. Сегодня главным словом этих новых представлений является глобализация. Принцип суверенитета и территориальной целостности утрачивает всякий смысл перед лицом отношений транснациональных компаний и межконтинентальных стратегических союзов. Европейский союз, вероятно, — ярчайшее выражение происходящей катастрофы геополитической городской цивилизации.
На арену выступает новый тип политики — итожит Вирилио: хронополитика. Политика контроля скорости и времени как способа ее измерения. Скорость подлета ракет к цели, скорость доступа к информации и оперирования ею, скорость перемещения индивида с места на место, скорость принятия решения (покупать ли акции, нажимать ли на кнопку, отвечать ли на сигнал) — все это становится вопросом жизни и смерти.

Все эти констатации служат лишь одной цели: продемонстрировать, насколько несообразны современным глобальным изменениям представления адептов геополитики в России, насколько опасны для адаптации России к современной исторической ситуации возрождаемые мифы «стабильной Российской империи» и «геополитического Запада». Сами понятия Востока и Запада для современной цивилизации скорости уже не имеют никакого смысла. Имеет ли смысл солнце в ориентации бизнесмена, пересекающего экватор в ходе регулярных деловых полетов? Имеют ли смысл «геополитические» Восток и Запад для спутника, наводящего на цель атомную ракету? Имеет ли смысл эта полярность для трансконтинентальной компании? И о какой защите суверенитета и территориальной целостности России как геополитической реалии, о какой жесткой властной вертикали можно говорить в этом продолжающем на наших глазах формироваться мире?
Те, кто сегодня так настойчиво борется за укрепление границ, единое пространство суверенитета и против проникновения «иностранного капитала», — просто не ведают, что творят. Никакие они не консерваторы. Той реальности, к которой предполагают вернуться эти «консерваторы», просто никогда в России не существовало. Консерваторы — это самые страшные западники, каких только можно себе представить. Они предлагают в качестве образа необходимой к консервации реальности России образ европейской городской цивилизации уже не существующей геополитической эпохи. Поскольку в России этой цивилизации никогда и не было, а у соседей ее уже больше не существует, то более опасных мечтателей, пытающихся доказать один морок при помощи другого морока, и представить себе невозможно. Можно сказать, что нам пытаются продать морок всемирного Петербурга: войлочный становой лагерь из камня ив городской геометрии, зиждимый на болоте, но — в мировом масштабе (недействующая модель в сверхнатуральную величину). Надувная модель Венеции в натуральную величину, плавающая в бассейне «Москва».
Парадоксально, но «исконные российские ценности» — ценности цивилизации, сочетающей монгольскую скорость с викинговской берсекерской решимостью, цивилизации, способной в одном пространстве установить диалог немца и татарина, камня и болота — как нельзя более к месту. Российская цивилизация по природе — хронополитическая. Жизнь в ней всегда была и есть — продолжение тотальной войны иными средствами. И контроль скорости — основа российской жизни и на индивидуальном, и на коллективном уровне.
Любопытно сопоставить российский неоконсерватизм и его имперско-городскую риторику с оформляющимся ныне американским неоимпериализмом. Центральная пружина оформляемой ныне американской стратегии очевидна: закрепить свое положение единственной в мире сверхдержавы, этакого современного Рима. В попытках сформулировать концепцию такой стратегии американские политики, однако, попадают в положение, весьма сходное с положением российских неоконсерваторов. В самом деле, хронополитический мир рассеивает всякую национальную суверенность и всякое представление огороде(территории)-крепости. Интернационализация терроризма, перешедшего в новое качество как раз через реализацию угрозы в воздухе, только еще один знак происходящей глобальной мутации. Какую же стратегию в ответ предлагает американский президент? Превращение территории в крепость, укрепление национальных границ, космический щит — и политику глобального пресечения терроризма во всем мире посредством контроля над правильным формированием чужих национальных суверенитетов. Риторике геополитика, однако, сопутствует неизменный тезис о тотальной войне с терроризмом, т. е. одной кочевой стратегии с другой такой же стратегией. Корсары хотят воевать с пиратами. Кажется, американский президент решил построить свой собственный городской фасад на болоте. Провозглашаемая Бушем новая политическая доктрина не менее призрачно-симулятивна, чем неоконсервативная российская доктрина восстановления властной вертикали через суверенитет и территориальную целостность. Вероятно, именно в парах этого болота и свершается чудо нового горячего взаимопонимания Буша и Путина. Обе сверхдержавы окончательно уходящего в прошлое мира геополитического противостояния безнадежно пытаются удержаться в несуществующем больше пространстве обездвиженных земель-крепостей. И это сегодня — самая большая опасность. Именно этот неоконсерватизм и порождает мутацию всех попыток противостояния ему: антиглобализм — защита религиозных идеалов — «терроризм». На деле за этим терроризмом стоит попытка реализовать новую хронополитическую стратегию существования. Если бы строители китайской стены могли использовать слово терроризм — они бы с удовольствием его использовали против своих кочевых соседей. Стремительные кочевники, врывающиеся на расчерченное регулярное пространство и разрушающие его порядок — такие же террористы, как и нынешние антиглобалисты и борцы за «истинную Веру». Так террористами были кочевые германские племена для римлян, наблюдающих их с противоположного берега Рейна. Иная стратегия для геополитической цивилизации неизбежно обращается в стратегию неконтролируемого насилия. Та система насилия, которую осуществляет римское право, торжество закона или великие ценности демократии и частной собственности, составляет каркас городской цивилизации, и потому представляется как мир порядка. Вторгающаяся в этот мир иная система насилия (или осуществления доминации) выглядит чудовищной и неприемлемой. Империя Чингисхана обеспечивает не меньший порядок жизни, чем китайская, римская и любая другая оседлая геополитическая цивилизация. Но порядок этот иного рода, и мерять его обычаями и нормами геополитической культуры — не только бессмыслица, но и опасное безумие. Безумие того рода, какое и демонстрирует сегодня американская политическая стратегия, пытающаяся измерить стандартами геополитического суверенитета архаические кочевые цивилизации или новейшие хронополитические образования типа европейского союза. В любом подобном случае всякое отклонение от геополитического способа контроля территорий воспринимается как отклонение по шкале насилия — над свободой, частной собственностью, демократией, правами женщин. Когда Буш в своем послании к Конгрессу заявляет, что политика «должна быть изменена, чтобы еще более ясно служить не подлежащим обсуждению требованиям человеческого достоинства: власти закона, ограничению власти государства, уважению к женщине, частной собственности, свободе слова, беспристрастному правосудию и религиозной терпимости» — то констатация невозможности обсуждения этих базовых требований и есть констатация полной беспомощности перед лицом новых реалий. Легче всего объявить всякое отклонение от аксиом терроризмом. Учитывая, что современные средства ведения тотальной войны по ту сторону безопасности территорий становятся все более доступными, такой геополитический неоконсерватизм, не желающий встраивать территорию-крепость в новые порядки реальности, подстегивает всплеск неконтролируемого насилия. Машина скорости не подвластна геополитическим репрезентациям, для овладения ею необходимы совсем иные типы контроля и иные способы построения иерархии ценностей.
Интересно заметить, что американский геополитический симуляционизм находится с культурными реалиями страны в отношениях, весьма схожих с российским симуляционным неоконсерватизмом. США — страна, в которой георепрезентация вообще всегда была периферийным явлением, в которой контроль скорости через время, пафос перемещения и перемены — основа личной и коллективной идентичности. Эта цивилизация, более чем любая другая, имеет право свою оседлость производить от слова седло. Возвратный невротизм, реализующийся сегодня в речах Буша, — это невротизм скорости, и им можно измерять, насколько универсальны проблемы современной русской модернизации.
