Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Пределы большевистского реформизма
Нэп явился первой советской реформой. Переход к нему от военного коммунизма означал сознательное самоограничение большевизма, резкое сокращение сферы внеэкономического принуждения во имя восстановления народного хозяйства после масштабной Гражданской войны и голодной катастрофы 1921 года. Новая экономическая политика изменяла формы реализации государственной собственности. Переход к рынку предусматривал существенное ограничение принципа национализации производства в пользу частного хозяйства. Вопрос, как увязать развитие и положение промышленности с нуждами и положением крестьянства, был ключевым для судеб 1920-х годов. В ноябре 1921 года Председатель Госплана СССР Г. М. Кржижановский заявил, что это ведомство «не только ставит сельское хозяйство существенным базисом всего государственного хозяйства», но и считает необходимым «демократизировать промышленность в крестьянском направлении». Председатель ВСНХ Ф. Э. Дзержинский в 1923 году подчеркивал, что «сейчас в Советской России политическая диктатура пролетариата никоим образом не имеет своим источником диктатуру промышленности, а является результатом сознательной защиты пролетариатом интересов прежде всего крестьянства»[1].
Теперь власть видела задачу не столько в смене методов (то есть перенесении акцента с распределения на производство), сколько в «маневренном сочетании элементов хозяйства на основе рынка». Со всех партийных трибун доносилось: «на базе нэпа», «на почве товарно-денежных отношений», «учитывая экономический интерес»[2].
В то же время меры по выходу из кризиса предусматривали усиление роли госаппарата в экономике. Партийные установки предусматривали сохранение национализации земли, высокого объема регулирования и плановости, монополию внешней торговли. Последняя рассматривалась как важная командная высота. Н. И. Бухарин рассуждал следующим образом: «Если бы у нас не было монополии внешней торговли, то темп развития, на известный период, возрос бы, было бы больше товаров, интенсивнее шла бы их циркуляция. Однако мы этого не делаем именно из соображений о нашей независимости». Л. Д. Троцкий в 1925 году резонно замечал: «Если монополию снять, то ни диктатура пролетариата, ни национализация средств производства, ни коммунистическая партия не удержатся». «Монополия — это защита нашей советской промышленности от конкуренции иностранной и защита нашей индустриализации, и, во-вторых, — это защита планового хозяйства, социалистически строящегося хозяйства от мирового капиталистического», — говорил А. И. Микоян, народный комиссар внешней и внутренней торговли СССР на Февральском Пленуме ЦК ВКП(б) 1927 года[3]. На самом деле государственная монополия внешней торговли выступала как крупное препятствие для расширения экономических связей (в том числе международных), и тем более для прочного и долговременного хозяйственного подъема, поскольку отнимала у непосредственных производителей большую часть цены от продаваемой продукции.
Институциональные основы государственной политики наиболее рельефно проявились в земельной, налоговой, ценовой и кооперативной политике Советского государства. С принятием нэповских начал земельный вопрос, не решенный революцией, переводился из сферы социально-политической в сферу производственную. Дело в том, что разорение помещиков и «кулаков» в ходе общинной революции и Гражданской войны не дало ожидаемого земельного простора. До революции приходилось 1,87 десятины земли на едока, а после — 2,26 десятины. В расчете на одно хозяйство земельная прибавка составила 0,4 десятины, а на душу сельского населения — 0,08 десятины[4]. Как видим, прибавка небольшая. К тому же за период между 1917—1920 годами 8 млн семей перебрались из городов в деревни, тем самым до катастрофических масштабов усилив аграрное перенаселение[5]. «Черный передел» наглядно показал, что не величина надела и дополнительное наделение имели значение, а способность поднять уровень производства, изменить его технологию. Таким образом, революция означала на долгие десятилетия отрицание двух культурных достижений столыпинской эпохи — конституционного строя и народной земельной собственности.
Результатом аграрной революции было сильнейшее понижение уровня производства. Для русского же сельского хозяйства в целом эта революция оказалась громадной силы разрушительным процессом: обнаружилось, что переделить землю не значит еще преодолеть аграрный кризис. Голод 1921—1922 годов, разразившийся в России как следствие засухи и неурожая, революционного распределения земли и неумеренной продразверстки, унес жизни более 5 млн человек.
С переходом к нэпу на первый план хозяйственной политики выдвинулось упорядочение и укрепление крестьянского землепользования. «Основной закон о трудовом землепользовании» (май 1922 г.) и Земельный кодекс (октябрь 1922 г.) положили конец бесконечным общинным переделам и обобществлению земли в форме «совхозизации» и «коммунизации» согласно программному «Положению о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» (1919 г.). Если декрет «О социализации земли» 1918 года отменял «всякую собственность на землю», то Земельный кодекс 1922 года — только частную собственность на нее. Подтверждалась национализация земли, то есть собственность рабоче-крестьянского государства на землю и изъятие ее из товарного оборота. Национализация земли и отмена частной собственности на землю означали переход земельной ренты к государству. Надельное землепользование объявлялось неотчуждаемым. Земля, находившаяся в фактическом трудовом пользовании, закреплялась за земельными обществами, и дальнейшее ее выравнивание между волостями и селениями прекращалось. В Земельном кодексе были сформулированы и обобщены основные признаки существа права трудового землепользования, условий его возникновения и прекращения: трудовое крестьянское землепользование объявлялось бессрочным, права землепользователя трактовались весьма широко. Статья 26 Земельного кодекса РСФСР не допускала беззаконного вмешательства в хозяйственное землепользование[6].
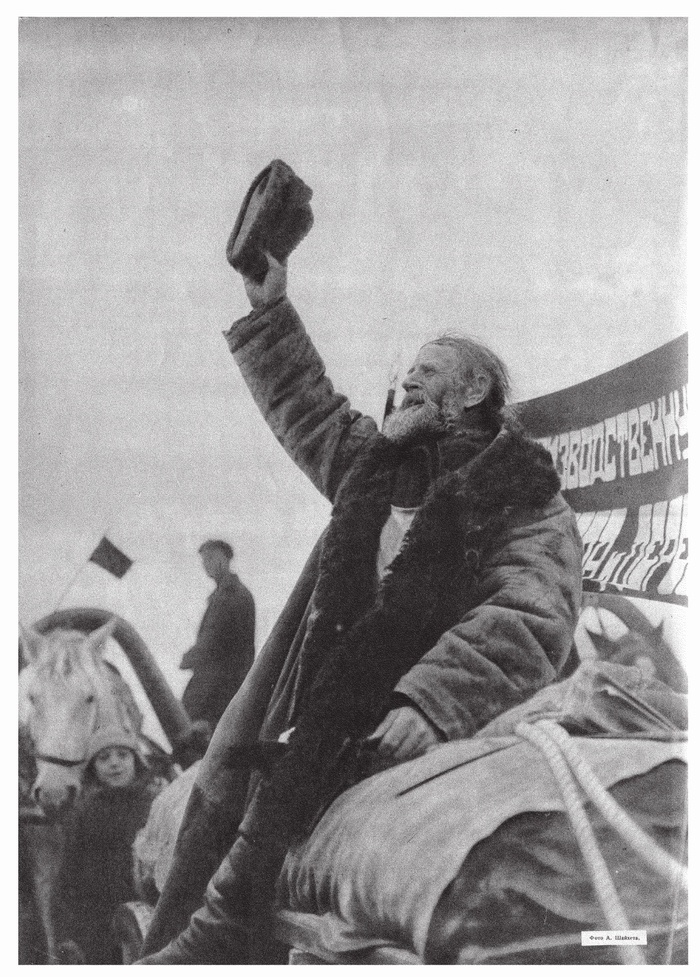
Теперь все виды единоличного землепользования уже не рассматривались, как в «революционную эпоху», в качестве «преходящих и отживающих». Напротив, новое законодательство разрешало трудовую аренду земли на период до трехкратного севооборота и наемный труд как вспомогательный. Закон не мешал выбору форм и порядка крестьянского землепользования: единоличное, отрубное или хуторское землепользование имели равные права на существование.
В целом гражданское, трудовое и земельное право начала 1920-х годов решало важные и спорные вопросы порядка предоставления и закрепления земли в трудовое пользование. Принцип трудового землепользования как пользования непосредственного, бессрочного и безвозмездного определял строй аграрно-крестьянских отношений. Крестьянин мог, хотя и с большими оговорками, реализовать все три права собственника — пользования, владения, распоряжения. Это создавало определенную психологическую уверенность крестьянства в стабильности своего положения как условного собственника земли.
Сам факт легализации торговли поначалу явился действенным стимулом. Положительным сдвигам в области земледельческого производства способствовало объявленное «расширение нэпа» в 1925 году. Оно проходило под лозунгом: «Лицом к деревне» и отражало совокупность различных мероприятий по отношению к селу. Согласно курсу XIV партийной конференции на дальнейшее развитие производительных сил, «на подъем и восстановление всей массы крестьянских хозяйств на основе дальнейшего развертывания товарного оборота страны»[7] раздвигались границы и нормы трудовой аренды, найма-сдачи земли, инвентаря, скота, рабочей силы. Подтверждался свободный выбор форм землепользования, более благоприятные условия для землеустройства, финансирования переселения и т. д. Исследователи, изучавшие «новый курс» 1925 года по отношению к деревне, приходят к выводу, что он был коротким и непрочным, во многом носил декларативный характер, что «об экономическом повороте в аграрной политике можно говорить более в теоретическом, нежели в практическом смысле»[8].
Государство сохранило в своих руках все командные рычаги. Оно доминировало в производстве, торговле, активно влияло на негосударственные отрасли хозяйства, определяло ценовую и налоговую политику. Действовавшая система прямого обложения характеризовалась множественностью платежей (вместе с местными налогами их насчитывалось более десятка); большим количеством объектов обложения (земля, скот, доход, имущество); подвижностью налогового законодательства (структура платежа, размер ставок, круг привлекаемых к налогу плательщиков могли меняться в течение одной налоговой кампании несколько раз); широкой системой льгот (результат социальной протекционистской политики государства с одной стороны и несовершенного налогового законодательства — с другой). Стремление государства придать всем платежам социальный характер исключало стимулирующую роль налогов и отрицательно отражалось на развитии сельского хозяйства.
Крестьяне ценили то положительное, что принес нэп. Их настроения улучшались в связи с хорошими видами на урожай или сокращением «ножниц цен» (неблагоприятного для сельского хозяйства соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию). Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию шло под предлогом борьбы с кулаком и помощи бедноте. Такой подход трудно было согласовать с триединой формулой Госплана, одобренной Советом Труда и Обороны (СТО), а именно: директивные цены должны быть восстановительными для хозяйства, рентабельными для экспорта и приемлемыми для города[9]. На практике же политика цен на важнейшие сельскохозяйственные культуры не способствовала росту производительности и товарности. Если до войны «сельскохозяйственный рубль» был равен 90 коп., то в середине 20-х годов — около 50[10]. Лишь половина хлебной цены доставалась производителю, другая — поглощалась возросшими накладными расходами Внешторга, государственных и кооперативных предприятий. Добавим к тому ухудшение качества всех товаров — от сельскохозяйственных машин до мануфактуры, исчезновение импорта и постоянный товарный голод (до деревни доходило лишь 30 % промышленных товаров).
Высокие цены на товары широкого потребления, продовольственные трудности, дороговизна, дефицит вызывали широкое недовольство, которое отчетливо видно по регулярным обзорам политического и хозяйственного состояния страны и письмам трудящихся. Отмечались массовые отказы крестьян от приема окладных листов и уплаты налога. Крестьяне протестовали против высоких налогов: «Мало того, что берут прямые налоги, берут еще в 30 раз больше косвенным путем» (Сталинградская губ.)[11]. Их возмущали непосильные изъятия в счет единого налога с многосемейных хозяйств, что, к тому же, заставляло их дробиться (из письма крестьянина М. С. Щербакова из села Бобылевка Романовской волости Балашовского уезда Саратовской губернии в «Крестьянскую газету» 21 апреля 1924 г.)[12].
Ликвидация частновладельческих и крупных крестьянских хозяйств пагубно сказалась на урожайности и общем уровне производства. «Кулацкая» аренда уменьшилась по сравнению с дореволюционным периодом в 9—10 раз; число арендующих хозяйств сократилось в 3—4 (по районам) раза, а по площади арендуемой земли — в два раза. То же касается и размеров наемного труда. Лишь 1 % крестьянских хозяйств нанимали свыше одного работника. Очевидно, что сочетание аренды земли с наймом рабочей силы выступало не как признак эксплуатации, а как показатель способности к расширенному производству. Прежний уровень товарности земледельческого хозяйства не был достигнут в большинстве производящих районов: Восточном, Юго-Восточном, на Северном Кавказе, Средней и Нижней Волги, где в 1925/26 году, по данным бюджетных описаний, в 11 % хозяйств было сосредоточено 76 % всех товарных излишков[13].
Для обеспечения центра теперь не хватало хлеба, производимого в районах европейской части страны. Его приходилось везти из Сибири, что значительно удорожало производство и означало потери для крестьянства в цене. Довольно низкие темпы прироста посевных площадей определялись сокращением посевов зерновых культур, падением их конкурентоспособности в сопоставлении с другими продуктами полеводства из-за низких цен. Удельный вес хлебов в составе крестьянских посевов уменьшался в течение второй половины 1920-х годов: в 1927 году данный показатель оказался ниже уровня 1913 года.
Итак, анализируя основные институциональные условия новой экономической политики, следует подчеркнуть, что она вводилась с запозданием, фрагментарно, без твердых правовых гарантий. А это значит, что уже на старте на нее были наложены серьезные ограничения, а идеологические соображения определили временность и принципиальную половинчатость этой политики. В самом деле: краткосрочная аренда, прогрессивная шкала обложения (вместо взимания пропорциональных налогов) и многое другое были такими тормозами развития, которые изначально снижали его потенциальную экономическую эффективность и привлекательность для крестьян-хозяев. Такова была плата за национализацию, директивное планирование, «классовую линию», за худшую организацию народного хозяйства вообще.
Допущение хозяйственной свободы, раскрепощение инициативы способствовали умеренно быстрому восстановлению сельского хозяйства. Российское крестьянство сполна использовало скромные возможности новой экономической политики.

Неравноправное, но все же сотрудничество государства и частного хозяйства состоялось: крестьянство подняло на своих плечах все народное хозяйство, заплатив полновесными товарами и продуктами за обесцененные бумажные деньги.
Ленинская установка для нэпа — «ограничить кулака, не приостанавливая роста производительных сил» — не могла быть реализована, поскольку социальная справедливость понималась как уравнительно-распределительная. Бедняцко-батрацкие массы целиком зависели от власти, ждали от нее льгот и благ: от 25 до 35 % маломощных хозяйств были освобождены от налогов к 1927 году. Письмо селькора Ивана Зольникова из села Краснослободка Пензенской губернии в «Крестьянскую газету», датированное февралем 1926 года, дает представление о некоторых новых бедняках. «На всю деревню в 357 хозяйств не более 10 кулацких хозяйств, по сравнению с довоенным процент незначительный... но, с другой стороны, в старое время деревня была как-то богаче. На 250 домов было около 200 лошадей и 15 % бескоровных. Теперь на 357 хозяйств 185 лошадей (как и до революции) и 172 хозяйства безлошадные. Бескоровных сколько и ранее 15 %, но на самом деле не так, как прежде. Безлошадные у нас хозяйства, могущие купить лошаденку, и такие, которые купят двух, но не хотят: им не выгодно. Из этих 132 хозяйств сотня живет очень хорошо, имеют по корове, пьют, едят отлично, обувь и одежда в избытке и налогов не платят: существует доход для хозяйства — самогоноварение (из 20 фунтов муки и меры картофеля выходит ведро самогона, продукты стоят 1 р. 40 коп., а ведро самогона продают за 10 руб., а землю отдают пополам. 70 хозяйств можно считать беднотой (молодых, недавно отделившихся)... Самогонщики живут превосходно, налогов с них не возьмешь. Что продать? Одна корова. Они уже приспособились — этот элемент в деревне, пожалуй, опаснее всяких кулаков»[14].
Неудивительно, что постоянной темой крестьянской жизни была «ревность» к городу («рабочие — наши фактические хозяева»); стремление к созданию «Крестьянского союза» как «экономического и правового объединения по примеру рабочих профсоюзов». Сводки ОГПУ в сочетании с письмами, жалобами, посланиями во власть помогают полнее понять повседневность с ее испытаниями и проблемами. Грамотные и хозяйственно активные слои выступают с критикой и предложениями. В середине 1920-х годов в этих посланиях появляются настойчивые сравнения с дореволюционным временем о работе кооперации, кредите, землеустройстве и т. д.[15]
По сравнению с дореволюционным периодом резко изменилось соотношение сельскохозяйственных и промышленных цен. В 1913 году за один пуд ржи крестьянин мог купить 4,06 метра ситца, а в 1925/26 году — лишь 2,04. Невыгодным и неустойчивым было соотношение по соли, мылу, гвоздям. Сводки ОГПУ передают высказывания крестьян на эту тему: «Почему за наш хлеб, доведенный до дореволюционной цены, дают промышленные товары в 3—4 раза дороже?». «Раньше рубашку можно было купить за пуд хлеба, а теперь нужно свезти 4—5 пуд., за сапоги же нужно отдать 15—20 пуд.» (Воронежская губ.). «Советская власть занимается спекуляцией: за одну пару рукавиц берет 4 пуда хлеба, когда при царизме эти рукавицы стоили 25 коп.» (Томская губ.)[16]. Сравнения с дореволюционным положением не в пользу нынешнего: «Чугун, железо, мануфактура — все это не сходится с довоенным», — отзывались крестьяне[17].
В крестьянских письмах звучат предложения государству: «Равняться на старательного крестьянина», то есть на такого, «который вкладывает свои средства в развитие своего хозяйства, вводит улучшения и этим улучшает свое благосостояние». «Если на него будут равняться другие, то увеличатся вклады в сберкассы и кредитные товарищества. Если в результате улучшения собственного хозяйства крестьянин сделался зажиточным, то его считают советские власти неблагонадежным». «Если нет заинтересованности в развитии хозяйства, то легче пропить и проесть», — пишет в «Крестьянскую газету» вологодский крестьянин А. Д. Долбилов[18]. А Д. А. Васюков выражает мнение, что «поднятие доходности крестьянского хозяйства возможно лишь только при полной свободе развития хозяйства передовых крестьян-интенсивников, на примере которых научится и остальное крестьянство»[19].
Рост численности крестьянского населения, усиление масштабов и давления аграрного перенаселения привели к тому, что средняя прибавка надельной удобной земли на хозяйство сократилась в 1926/27 году до 0,5 десятины, сведя на нет земельные приобретения крестьянства в ходе аграрной революции. В том же году стоимость капиталов в среднем на хозяйство составила 83,3 % от уровня 1913 года, а стоимость сельскохозяйственного инвентаря — 64,3 %[20].
Проблема нарастающего перенаселения российской деревни становилась коренной для дальнейших судеб страны. Масштабы безработицы увеличились в 2—3 (по районам) раза по сравнению с дореволюционным временем. Это было вызвано слабой мобильностью производственных ресурсов, потерей региональной специализации, а также разрушением сложившихся центров сельскохозяйственного и несельскохозяйственного отходничества. Увеличение товарности и ликвидация аграрного перенаселения выступали как самые насущные проблемы. К 1928 году прирост населения целиком поглотил небольшие прирезки земли, полученные в результате революции.
Реальная экономическая политика должна была строиться на учете интересов крестьян, имевших излишки сельскохозяйственной продукции. Поиск путей выращивания и укрепления таких хозяйств составил важную проблему к середине 1920-х годов, когда выявилось исчерпание восстановительных резервов и во всей полноте встала задача роста народнохозяйственных накоплений. Не борьба с кулачеством и предпринимательством, принимавшая все более разнообразные формы (отказ в приобретении тракторов, кредитов и т. д.), а гибкость сочетания труда и капитала способствовали бы подъему земледельческого производства и рассасыванию аграрного перенаселения. Чем богаче был крестьянин, тем продолжительнее и интенсивнее был его труд, тем острее он испытывал необходимость в аренде земли.
Нарастание кризисных явлений в экономике в 1920-е годы происходило на фоне острых партийно-политических дискуссий о судьбе «социализма в одной стране». Индустриальная модернизация была целью и смыслом всей хозяйственной политики большевиков. Ставшие ныне доступными материалы партийных пленумов, документы большевистской элиты, переписка руководителей государства позволяют полнее представить характер теоретико-практических споров. Их содержание можно свести к двум крупным взаимосвязанным проблемам: 1) преимущественное развитие промышленности по сравнению с сельским хозяйством и 2) характер отношений города и деревни в свете классового подхода.
О складывающихся в народном хозяйстве диспропорциях «вследствие неправильного расчета возможного темпа и необходимых направлений инвестирования» с тревогой писал Н. А. Осинский в секретном письме, адресованном А. И. Рыкову и И. В. Сталину 12 декабря 1927 года непосредственно перед началом XV партийного съезда: «Нам нужно было в гораздо большем масштабе развертывать отрасли производства, производящие готовые продукты, и нам надо было больше вложить средств в их рационализацию, на удешевление их продукции. А мы чересчур нажали на тяжелую индустрию, заторопили здесь темп», — делал вывод управляющий ЦСУ СССР[21].
В современных дискуссиях о нэпе звучит довольно дружный и доказательный исследовательский вывод о непротиворечивом и взаимодополняющем характере экономического содержания теорий «правых» и «левых», несмотря на их драматическое противостояние[22]. Ведь «правые», «левые», «центристы» рассматривали все явления жизни через социалистические очки, коммунистическую перспективу. «Правые» выступили в защиту нэпа поздно, были непоследовательны и неубедительны для партийного большинства, возглавляемого Сталиным и другими сверх-индустриализаторами.
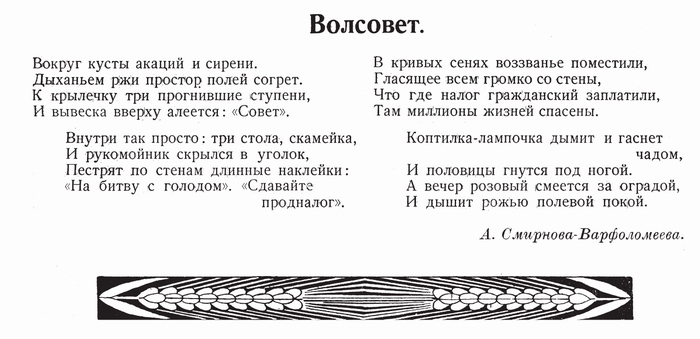
Свертывание нэпа началось без официального провозглашения такого курса, более того, на партийных форумах продолжались заявления о «верности нэпу». Даже в проблемном плане партийными теоретиками не был поставлен вопрос о жизнеспособности предложенной экономической модели, сконструированной из двух разнородных элементов — одного в социалистической промышленности, другого в мелкотоварном хозяйстве. В ее неустойчивости и таилось главное противоречие, не разрешаемое в рамках сложившейся системы. Асинхронное функционирование двух сфер создавало перманентные кризисы, которые власти не могли преодолеть, поэтому и отказались от рыночных отношений как бесперспективных.
По систематическим сводкам ОГПУ видно, что режим боялся крестьянских волнений, сознавая собственную непопулярность. К советской власти крестьяне относились отчужденно и с недоверием. В работе И. И. Климина рассмотрены разнообразные формы массового пассивного и, как правило, стихийного сопротивления крестьянства политике советской власти[23]. Следует согласиться с выводом итальянского историка Андреа Грациози, что «уже тогда крестьяне чувствовали себя гражданами второго сорта». Человеку, его интересам и нуждам оставалось мало места, о чем свидетельствует и содержание посланий во власть «снизу» в разных их видах и формах[24].
Можно ли было «переформатировать» нэп? Спорам на эту тему не видно конца. «Пессимисты» получили из новых архивных фондов и публикаций убедительные подтверждения вывода об исчерпанности объективных возможностей дальнейшего нэповского развития. «Оптимисты» же видят преграды такому переформатированию преимущественно в сфере политических и субъективных факторов.
Анализ «нормального» нэпа середины 1926 года и «щадящей» индустриализации до 1927 года на базе вновь открывшихся «документальных обстоятельств» приводит к выводу, что государство укрепилось быстрее, чем восстановилась экономика. Это также позволяет яснее представить перспективы (отнюдь не радужные) первой пятилетки образца мая 1929 года. Нэповский рынок неуклонно дезорганизовывался государственной монополией на принятие хозяйственных решений. Система, основанная на дешевом крестьянском хлебе, должна была зайти в тупик. Искусственно занижаемые цены в сочетании с товарным голодом — это была бомба, взорвавшая хрупкий гражданский мир 1920-х годов. Именно соединение экономической и политической власти в лице государства создавало перманентные кризисы нэпа.
Незавершенность восстановительного этапа в количественном, а главное в качественном отношении ставила объективные пределы индустриальному рывку. Жизнь в который раз подтвердила максиму Адама Смита о том, что экономика не может быть развита более, чем позволяет ей сельское хозяйство. Однако экономическая политика исходила из нереальных возможностей одновременного значительного повышения жизненного уровня и накопления в стране. На практике программа капиталовложений в промышленность второй половины 1920-х годов строилась на увеличении государственных расходов без согласования с требованиями рынка и вела к нарастанию диспропорций между сельским хозяйством и промышленностью. Промышленность развивалась вместо, а не вместе с сельским хозяйством, рывковыми и толчковыми усилиями, ущербно для народного хозяйства на практике и в потенции.
1920-е годы закончились тем же, с чего начались — тотальным кризисом: народное хозяйство попало в ловушку, выход из которой состоял или в постепенном и сознательно долгом возвращении к нормальной рыночной системе, формировавшейся в начале века, или в некапиталистической модернизации. Сложившиеся институциональные условия, механизм принятия решений, практика нерационального и затратного хозяйствования закладывали будущие противоречия, накапливая предпосылки для последовательного огосударствления и централизованного планирования первых пятилеток. Нужны были время и терпение, а главное — повседневная кропотливая работа по завершению восстановительных процессов и созданию твердых предпосылок для модернизации экономики в виде здорового производственного накопления, нормализации рыночных отношений, приемлемой структуры и уровня цен, налогов и т. д. Однако идеология и политика определяли задачи в области хозяйственного строительства.
Благодаря новым документальным и исследовательским публикациям тема «Новая экономическая политика как реформа» получает более объемное «хозяйственное» и «партийное» измерение. Период 1920-х годов не выглядит как некая интерлюдия или мирная передышка, и тем более как благополучный этап восходящего развития, на что нацеливали нас официальные данные, отраженные в партийных решениях разного уровня. Напротив, властная политика была активной, наступательной, она стремилась к преодолению дифференциации, имущественного неравенства, препятствовала несанкционированной хозяйственной инициативе — всему тому, что являлось реальными двигателями нэпа и могло бы прочнее закрепить его в хозяйственной структуре и общественном сознании.
Фактический материал из центральных и местных архивов показывает процесс свертывания нэпа. Отчетливее проступают его стадии, внешнее и внутреннее содержание событий. Более определенно обнаруживаются степень и масштабы незавершенности восстановительных процессов, объективно не позволявших делать «рывки» и «скачки». Обозначено место 1920-х годов в модернизационных процессах и в строительстве государственного социализма, когда накапливались предпосылки для последовательного и импульсивного огосударствления всех сфер, чему способствовал уравнительный эффект общинной революции, процесс архаизации социальной структуры, натурализации и обеднения производственных отношений.
Нэп 1920-х годов в «укороченном» виде (с 1921 по 1927 год) выглядит не как подготовительный к большим свершениям, а самоценный этап, наполненный новыми подходами и связанный с восстановительными процессами. Мы вправе рассматривать нэп как реформу, то есть управляющее воздействие на процессы, идущие в народном хозяйстве, и, как любая реформа, она должна расцениваться по критериям социально-экономической эффективности. Что положительного дал опыт нэпа? Он обнаружил, что можно достаточно быстро восстановить потребительскую часть крестьянского хозяйства, показал, как можно использовать товарно-денежные отношения в интересах социализма. Но вырастить хозяйства рыночного, товарного типа, сметенные аграрной революцией и всей политикой советской власти, оказалось совсем непросто. Нэп выступает как своеобразная модификация мобилизационной экономики. В 1920-е годы боролись два несовместимых пафоса — пафос хозяйствования и пафос революции. В конце концов победил пафос революции. Не было привито чувство уважения к частной собственности — напротив, индивидуальное хозяйствование делалось все более бесперспективным и даже опасным. Попытки преодолеть «неудобства» рынка и товарного обращения внеэкономическими методами привели к хозяйственным методам военного коммунизма и «чрезвычайщины».
Практическая актуальность нэповского опыта не увядает. Годы перестройки и современного аграрного реформирования выявили ценность нэповского эксперимента как широкой антикризисной и компромиссной программы, очертившей примерные пределы отступления к нормальной жизни. Сегодня этот опыт приобрел новую актуальность: как и тогда, ныне, в условиях неудачных и затянувшихся реформ, обнаружилась мощная сила спонтанных социально-экономических процессов, поддерживающих наше народное хозяйство, неистребимый инстинкт выживания средствами среды не благодаря, а вопреки воле и поведению государства. Портрет эпохи спустя почти девять десятилетий еще рельефнее подчеркивает значение законодательной среды, не случайно отсутствующей в экономиках переходного периода и лишающей тем самым социум стабильности, политику — предсказуемости, а власть — ответственности перед гражданами.

[1] Индустриализация Советского Союза: Новые документы. Новые факты. Новые подходы. М., 1997. Ч. 1. С. 34.
[2] Индустриализация Советского Союза... Т. 1. С. 34, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 73, 80.
[3] Индустриализация Советского Союза... Т. 1. С. 53, 136, 142.
[4] Литошенко Л. Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. С. 373.
[5] За 5 лет. М., 1922. С. 295.
[6] СУ РСФСР. 1922. № 36; Земельный кодекс РСФСР. М., 1923. Ст. 11, 32, 33.
[7] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 8. Т. 3. М., 1970. С. 346—375.
[8] См.: Вернер М. Лицом к деревне: Советская власть и крестьянский вопрос (1924—1925 гг.) // Отечественная история. 1993. № 5. С. 86, 98—99; См. также: Климин И. И. Российское крестьянство в годы нэпа. Ч. II. СПб., 2007. С. 191.
[9] Индустриализация Советского Союза... Т. 1. С. 61.
[10] См.: Экономическое обозрение. 1927. Февраль. С. 62—63.
[11] «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину. О положении в стране (1922—1934 гг.). Т. 4. Ч. 2. 1926 г. М., 2001. С. 817; С. 633, 680.
[12] Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг. М., 1998. С. 111.
[13] Сельское хозяйство СССР. 1925—1928. М., 1929. С. 84.
[14] РГАЭ. Ф. 396. Оп. 4. Д. 23. Л. 1—2.
[15] «Совершенно секретно»... Ч. 1. 1926 г. С. 177, 314, 633; Ч. 2. С. 719—720; Голос народа... С. 96, 99, 113, 115, 204, 211; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. 1927—1939. М., 1999. Т. 1. С. 72.
[16] «Совершенно секретно»... Т. 4. Ч. 2. 1926 г. С. 720; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 5. Д. 715. С. 71.
[17] Письма во власть. 1928—1939 гг. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям. М., 2000. С. 62.
[18] РГАЭ. Ф. 393. Оп. 5. Д. 46. Л. 19—20.
[19] Кооперативно-колхозное строительство в СССР. 1923—1927. Документы и материалы. М., 1991. С. 248—249.
[20] Н. Д. Кондратьев — В. М. Молотову, 4 октября 1927 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 196; Перспективы развития сельского хозяйства в СССР. М., 1924. Т. 1. С. 43.
[21] Большевистское руководство: Переписка. 1912—1927. М., 1996. С. 359—360.
[22] См: Современные концепции аграрного развития // Отечественная история. 1994. № 4—5. С. 48—49; статьи В. Булдакова, Г. Гимпельсона, Л. Суворовой в сб.: Нэп в контексте исторического развития России ХХ века. М., 2001. С. 50, 79, 80, 216; статьи Ю. Бокарева, В. Гусева, Н. Рогалиной в сб.: НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты. М., 2006.
[23] Климин И. И. Российское крестьянство в годы нэпа. Ч. II. СПб., 2007. С. 176—177.
[24] Грациози А. Великая крестьянская война. М., 2001. С. 41.
