Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
«Штурм небес» как зеркало русской смуты
Черная книга («Штурм небес»). Сборник документальных данных, характеризующих борьбу советской коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей. Составил А.А.Валентинов. С вводной статьей Петра Струве. Париж, 1925. 294 с.
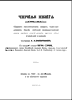
«Черная книга» А. А. Валентинова, более известная как «Штурм небес», по-хорошему «тенденциозна». Ее цель — рассказать сперва европейскому (первоначально она была опубликована на английском и немецком языках), а затем и русскому читателю о превосходившем всякое разумение попрании религиозной свободы в Советской России. К этой труднодоступной книге, почему-то не попавшей в накрывшую наш книжный рынок в 1990-егоды волну репринтов и переизданий, восходит большая часть ярких свидетельств о беспрецедентных гонениях на церковь. Разумеется, основной материал касается православной церкви, но не только ее — говорится и о преступлениях против католичества, иудаизма, мусульманства. Подробно описываются антирелигиозный террор в годы гражданской войны, судебные процессы над церковными иерархами, методы атеистического воздействия на народ. Составителем собраны устные и документальные свидетельства, обобщены материалы советской прессы (бывшей в то время довольно откровенной в описании революционных «подвигов»). Есть в книге и характерные умолчания — например, практически ничего не сказано о развязанной большевиками кампании по «изъятию мощей». Это произошло потому, что для английских читателей эта тема была непонятна и неинтересна.
«Штурм небес» нужно читать как яркий разоблачительный документ, уникальное собрание свидетельств. Но интересен еще один аспект этого труда. Автор, принадлежащий к кругу известного русского мыслителя и публициста П. Б. Струве, пытается представить народ в качестве пассивной жертвы, развращенной большевиками. Для «народнического» сознания русской интеллигенции начала века такой ход мысли был естественен. Но насколько он справедлив? Представляется, что проблема намного сложнее.
Русское крестьянство того времени не было забитой серой массой. В 1905–1907-м и в1917-м крестьяне громили помещичьи усадьбы и убивали их владельцев. Во время гражданской войны крестьяне в большинстве своем были вооружены. Именно из-за вооруженного сопротивления крестьян провалились попытки «продармии» провести массовое насильственное изъятие хлеба. В начале двадцатых народ, нимало не задумываясь, отвечал на насилие насилием, память о котором сохранялась долгие годы. Еще в 1960-е некоторые бабушки, по рассказам, так воспитывали своих внуков: «Видишь памятник погибшим красноармейцам? А убивал их твой дедушка». Впрочем, использовать красноармейцев против крестьянства большевики после нескольких попыток зареклись: красноармейцы — те же крестьяне и нередко поддерживали своих собратьев.
В случае же расправ с духовенством, описываемых Валентиновым, крестьяне проявляли поразительную безучастность. «Водной из станиц Кубанской области в ночь под Пасху (когда в храме должно было быть битком народу. — С. Л.) был во время богослужения замучен священник Пригоровский: ему выкололи глаза, отрезали уши и нос и размозжили голову… Священника монастыря Марии Магдалины Григория Никольского, приобщавшего молящихся во время литургии, вывели из церкви… и после всяческих издевательств убили выстрелом из револьвера в рот, который заставили его открыть при криках: “мы тебя приобщаем”» (с. 37). Священника Александра Подольского «прежде чем убить, долго водили по станице, глумились и били, а затем зарубили за селом на свалочном месте. Один из прихожан, пришедший его похоронить, был тут же убит пьяными красноармейцами» (с. 43). Один из прихожан! А где же остальные? Ведь в случае&#;массового возмущения народа большевики были бы вынуждены отступить. Известен случай, когда «население и приход настойчиво ходатайствовали об освобождении архиепископа Митрофана из-под ареста. Наконец его повели в здание судебных установлений и здесь объявили постановление военно-революционного суда о признании его ни в чем не виновным. При этом председатель военно-революционного суда объявил, между прочим, Митрофану, что революционная власть убедилась, что народ его любит… Эта любовь народа и боязнь народного гнева заставляли в то время советскую власть воздерживаться от каких-либо репрессивных мер» (с. 34–35).
Однако свидетельства о сопротивлении религиозным гонениям мы находим только применительно к городам, особенно таким крупным пролетарским центрам, как Петроград и Москва. «В пятницу (17 марта) к церкви на Сенной площади подъехал автомобиль с вооруженными красноармейцами и комиссарами для изъятия церковных ценностей. Об этом узнала толпа, бывшая на рынке, и народом было принято решение защищать храм от ограбления. Комиссар упорствовал в своем намерении. Толпа бросилась на него и избила. Это послужило поводом к оцеплению Сенной площади курсантами и конной милицией. Раздались выстрелы вверх, но толпа не расходилась, и коммунистам на этот раз пришлось отказаться от своего намерения ограбить церковь… 28 марта во Владимирском соборе два комиссара, пытавшиеся насильно ворваться в церковь, двери которой были заперты, были убиты на месте разъяренной толпой. Сопровождавшие их красные солдаты разбежались» (с. 56–57).
Это — типичная городская картина. В деревнях все было по-другому. «Население одного из сел Осетии выгнало попа. Церковное имущество разделено между местным населением… В Петроградском округе Донобласти в хуторе Подщенском… под звуки Интернационала колокола сняли. Здесь же постановлено разработать проект устройства из церкви театра… Незаможники села Буялык Одесского уезда организовали торжественное сожжение имевшихся у них икон. Церковь преобразована в Народный дом и библиотеку….» (с. 90–91). Заметим, что обычно церковное имущество делилось между крестьянами. «Черный передел» (всеросийское поровнение земли) с помещичьих усадеб переносится на церковную собственность и имущество духовенства.
Изредка встречаются и совсем жуткие свидетельства бесчеловечного отношения «паствы» к духовенству. «Священник Рябухин упал в яму еще живым, и в течение ночи ему удалось высвободиться из-под тонкого слоя земли. На его стон явился кладбищенский (и, очевидно, в прошлом — церковный.— С.Л.) сторож, который застал отца Рябухина выглядывавшим из ямы и умолявшим вытащить его и дать ему воду… Но сторож забросал живого священника более толстым слоем земли» (с.37–38). Или вот отрывок из письма красноармейца домой в деревню: «Мне тоже, — пишет он, — пришлось застрелить попа одного. А теперь мы еще ловим этих чертей и бьем как собак» (с.35).
Крестьяне были активными участниками антицерковных гонений и… очень верующими людьми. Задонский корреспондент московских «Известий» сообщает о религиозной жизни в своей провинции: «Найти у нас в деревне коммуниста, у которого бы не висела в избе икона — большая редкость» (с.133). Некий коммунист говорит о своем отце: «Старый человек, по два часа стоит на коленях, молится, всех святых перебирает… Для меня легче на фронт идти, чем за это дело (вынос из дому икон. — С.Л.) взяться»(с.133). Между религиозностью и коммунизмом складывается определенный компромисс. «Женится в одной деревне коммунист. В церковь идет полный свадебный кортеж. Впереди красное знамя с надписью: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, потом иконы, потом жених с красным бантом во всю грудь. Такая “красная свадьба” не редкость в деревне» (c. 133– 134).
Да и большевистская власть частенько опасается открыто задевать верующих. Официальная пресса призывала бороться с религией с осторожностью, «с величайшим умением». «Стремление власти прикрыться в иных случаях терпимым якобы отношением к церкви и духовенству, чтобы потом добиться своих целей, представляется явлением в области официальных взаимоотношений обычным». Получается, что в начале 20-х вовсе не коммунисты были запевалами в атеистической борьбе. Ими являлись красноармейцы и сельские комсомольцы при молчании и порой одобрении крестьян старшего возраста.
Жестокость в отношении духовенства, разрушения и осквернения церквей менее всего были делом организованной антирелигиозной политики большевистской партии. Мало того — чаще всего они не были следствием разгула красных «комиссаров, инородцев и уголовников», как это представляла себе «белая» общественность. Наиболее последовательным и жестоким антицерковником того времени был… русский крестьянин. Происходившее в деревне в 1917–1921 годах было продолжением традиций крестьянского бунта XVII — начала XX века, когда и в церковь на лошадях въезжали, и в иконы стреляли, и над священниками издевались — водили их голыми по деревне, пока они не замерзали на-смерть (это в годы революции 1905–1907-го). Крестьянам показалось, что священники скрывают от них волю царя, повелевшего, дескать, совершать Черный передел[1], и они обрушили на «попов» весь своей гнев. В 1918 году духовенство тоже противилось совершению того, что крестьяне приняли за «Черный передел» — реализации «Декрета о земле» и разграблению помещичьих усадеб, а потому «попы» были в это время у крестьянства не в чести. И мужики мстили как могли. Затем бунтарский угар поугас. Со времен начала НЭПа до коллективизации случаи закрытия деревенских церквей были редки. Крестьяне получили землю от большевистской власти и были довольны.
После этого православие в русской деревне падает почти без нажима, поскольку община перестает быть приходом и религиозная основа крестьянской жизни и труда утрачивается.
Наиболее сознательной и прочной опорой религии является… пролетариат, рабочий класс. Рабочие защищают церковные ценности от изъятия в 1921 году, заступаются за патриарха Тихона, своих епископов и священников, противодействуют антирелигиозной пропаганде.
Сами большевики, ослепленные марксистской идеей о «реакционности» крестьянства, потери религиозности в деревне, кажется, не заметили. Им представляется, что «от наплевательского отношения к попу и нехождения в церковь до неверия в Бога — дистанция подлинно огромного размера... Настоящие безбожники — безбожники убежденные— редки. Их наперечет знают крестьяне: один в Тикине, двое в Знаменке».[2] Дистанция, однако, оказалась пренебрежимо мала.
Автор «Штурма небес», подобно своим противникам — коммунистам, тоже верит в глубокую народную религиозность. Он пересказывает такой случай: «Один молодой красноармеец рассказывал про то, как в праздник за столом не перекрестился и задумал вступить с матерью в спор по этому вопросу. Мать покончила религиозный диспут ударом горячей ложки с кашей по его красноармейскому лбу…» «Не бойтесь мамкиной ложки» — взывала коммунистическая газета к комсомольцам. «Мамкина ложка» казалась им грозным оружием. Но для усмирения очередной крестьянской бунташной дури обычно требовалось оружие более серьезное. Не было его у бедной «мамки». А ложкой по лбу в крестьянских семьях всего лишь приучали прилично вести себя за столом. Возможно, и «мамка» хотела всего лишь соблюдения внешних приличий. Ведь через несколько лет и она сама вслед за сыном стала атеисткой в красном платочке…
[1] Более подробно об алгоритме русского крестьянского бунта см. в моей монографии: Метаморфозы традиционного сознания. СПб., 1994. C. 178–184 (см. также: http://svlourie.narod.ru/metamorphoses/russ-obsh.htm).
[2] Голубых Н. Очерки глухой деревни. М.; Л.: Государственное изд-во, 1926. С. 117.
