Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Закон Черепанова
Нет башни выше той, что построена у меня вголове.
Франсиско де Гаеда.
Вавилоновы врата, 1910
Взять пример с индейцем: его приводят ученику каждой архитектурной школы на третьем примерно году обучения, когда от копирования он переходит к реальной работе с проектом; тогда он впервые сталкивается с тем, как неподатливо и непрозрачно пространство, как оно непослушно и зыбко, и требуется в собственной голове выстроить клетку для его успокоения. Гаеда развивал эту метафору в Мадриде в 1910 году, я услышал рассказ приблизительно тот же в МАРХи спустя семьдесят лет. «Если взять индейца из джунглей Амазонии и привезти в Нью-Йорк, он не увидит небоскребов. У него в голове нет для них подходящего помещения, матрицы, ментального образца. Он непременно отключится: они это умеют — ляжет посреди мостовой, накроется одеялом и “умрет”. Только проведя трое суток безвылазно в номере гостиницы с наглухо закрытыми окнами, только вырастив в своем воображении новых богов, ростом до небес и c квадратной башкой, индеец выйдет на воздух и увидит небоскребы, и с ними весь Нью-Йорк целиком».
Впоследствии я слышал эту притчу в десятке вариантов, суть ее не менялась. Пространство есть прежде всего метафора. Сочинение о нем должно быть структурировано, тогда само оно выйдет необходимо поместительным и прочным. Клетка, или, иначе, трехмерие, представляет лишь один из способов кодирования пространства, существуют и другие: так, кремлевская метафора о «покорении за оконного зверя» весьма любопытна. Мы ее рассмотрим ниже, пока же следует отметить исходную связь. Сначала является проект: идол с квадратной, или идеально округлой, или подвижной, как облако в небесах, головой, и только вслед за тем оформляется земная явь, нечто будто бы очевидное.
Но закончим с индейцем. В восьмидесятые годы школьная сказка о нем внезапно становится былью. Голубоглазый японец Ямасаки ставит в Нью-Йорке, на южной оконечности Манхэттена, два голых параллелепипеда, двух истуканов-близнецов ростом до небес. Неподалеку от перекрестка Times Square он разбивает — чертит по линейке, прямо по земле — новый перекресток осей, Space Square. Центр мировой торговли? Цех по производству пространства. Определенного, расчерченного (посаженного) в клетку типа. Как будто некий нулевой, общий для всех, идеально плоский фундамент выпустил вертикально вверх два обрезка арматуры. Два пучка координат, прежде условных, а теперь утвержденных воочию, на которых держится весь тварный (здесь — торговый) мир. Бывший третьекурсник Ямасаки материализовал эту метафору на все сто процентов, совершив символический жест, построив не здание, но образец ровнорасчерченного мироустройства. О чем говорит пояснительная записка к проекту; того же, собственно, требовал заказчик проекта, квадратноголовый, крайне амбициозный обитатель южной оконечности Манхэттена. Логика проста: координаты нового мира стартуют у него из-под ног, из малой точки, очередного — после Гринвича — нуля координат.
Проект был реализован: в этом именно месте метафизическая конструкция, «скелет Господа», показательно обнажилась, обрела плоть.
Это было противоречивое действие. Зная, чем все закончилось, можно было бы сказать так: это был лучший подарок террористу. Такому как раз террористу, которому вздумалось подорвать не дом, но устройство, уклад, крепость (оба значения слова) данного мира. Здесь необходимо оговориться: мы рассматриваем лишь один, весьма специфический аспект трагедии, что произошла 11 сентября1года в Нью-Йорке: проекцию события стереометрическую. Те совпадения и закономерности, которые могут быть объяснены лишь в контексте столкновения метафор, двух конфликтующих образов пространства.
В самом деле: в месте, более похожем на сценическую площадку, строится некий Нео-Гринвич (The Center of Time & Space), явленный в форме плакатной, демонстративной, вызывающей. Это был вызов любому иному мировидению, способу обустройства вселенной. Ответом стало неизбежное отторжение, сначала опосредованное, вылившееся в соревнование идеологий, «войну богов», а затем и явное, в два счета дошедшее до бомб и самолетов, начиненных взрывчаткой. Подтверждение косвенное: новое имя места. Нет имен и слов случайных (к словам и их способности подчинять пространство мы еще вернемся): посреди острова осталась воронка, именуемая теперь Большим Нулем. Grand (ground) Zero. Название утратило профессиональный контекст — нулевая отметка строительства— и стало новой метафорой места. Теперь по ночам в небо из Большого Нуля восходят вертикальные лучи света, не менее ярко символизирующие оси и остов пространства — утраченного. Теперь отверстие в земле доверху заполнено вакуумом, субстанцией, определяемой здесь как отсутствие координат.
Пространство приобретается и утрачивается, оставляя после себя (полагая до себя) вакуум. Он выступает как активный участник игры, вторгается в область искомой метафоры, требуя пересмотра картезианской казенной модели, прежде всего в слове.
Слово старше цифры, связывая пространство, оно борется с пустотой; цифра ей уступает. В свете этой коллизии история восточно-христианской цивилизации, стало быть, и наша собственная, может быть прочитана как пульс: обретения и утраты пространства. Пульс пространства оказывается прямо связан с метаморфозами во времени, его провалами и сплочениями. Или с провалами и сплочениями представления о времени, в данном случае это не так существенно.
Еще одна легенда. Москва ожидала конца света в 7000 году от сотворения мира[1]. Готовясь к помещению во время иное, Москва взялась за перестройку своего главного храма, Успенского. В глазах горожан он должен был стать ковчегом, в капсуле которого они могли бы спастись, пересечь роковую черту. Поэтому перестройка кафедрального собора была для московитов действием судьбоносным.
См. выше: на земле чертился перекресток нулевой, от которого, как от центра следующего мира, должны были разбежаться новые координаты. Ситуация знакомая, разве что она имела место лет на пятьсот раньше, чем в Нью-Йорке, и строители в Кремле о координатах слыхом не слыхивали.
Сюжет совпадает в главном: проект и в этом случае имел масштаб мироустроительный.
Размах работ тому соответствовал. Для конца XV века перестройка собора была событие такое же, как если бы сейчас власти решили снести весь Кремль и на его месте поставить новый. Так вот. Трижды великое строение поднимали до крыши, и всякий раз оно рушилось. На третий раз (на Троицу! две тройки здесь означают не совпадение, но закономерность — будет и третья тройка для круглого счета) — только успели вывести своды, как вновь рухнуло. Храм осел на землю как снежный холм, и пахнуло настоящей катастрофой. Грозные византийские предсказания сбывались.
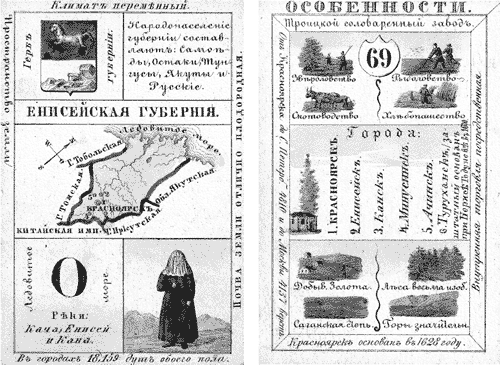
Все это подвигло московитов к составлению стереохимер. Стена собора как будто заселена была неведомою силой, которая отказывалась подчиняться строителям. За кирпичной пленкой таился лик запредельной (до-предельной) пустоты. Едва поднимаясь за второй этаж, стена надувалась пузырем и лопалась, выворачивая наружу потроха утепления. Всякий раз Боровицкий холм до основания проницаем был сквозняком. В последний миг строители увидели среди оседающих кирпичей некий скользящий очерк — то ли это был хвост, разом втянувшийся в пролом, то ли когтястый палец, то ли крыло. Хороша вышла Троица 6982 года!
Об этом летнем празднике, о пространство-укрепляющем его значении для жителей Московии стоит рассказать особо. Календарь христианского Средневековья, рассматривающий год как поэтапно растущую фигуру света (от малой точки Рождества, через луч Сретенья и пасхальную солнечную скатерть — плоскость — к пространству большему), отводил летней Троице важнейший пункт: отворения времени «в объем». На Троицу свет обретал свойство трехмерия (вот она, третья тройка, обращающая треугольник в идеальный круг — счета), которое не относится исключительно к понятиям пространства, но являет собой ступень универсальную, в частности, крайне необходимую — см. эпиграф — для возведения храмов и башен в собственной голове.
Потому, вероятно, это и был особый, зодческий день, праздник в своем толковании сложный и оттого уступающий в популярности иным отмечаниям в народном календаре, но при этом не менее почитаемый: сложное знание о большом мире, который в этот день ощутимо прирастал светом, приобретало характер сакральный.
И вдруг в этот день — катастрофа, «трус» земли (землетрясение), и самое ужасное: обвал храма, разрушение ковчега — перед самым наводнением Нововремени. Стены дома пали как бумажные листы, зверь небытия приблизил пасть. Москва замерла в великом страхе.
Но не следует списывать этот страх на суеверие непросвещенных горожан. Вот два примера из новейшей истории. После победы над фашистской Германией генералиссимус (глава безбожной партии, несменяемый кремлевский диктатор, чугунный идол) Иосиф Сталин назначил знаменитый парад победителей — на Троицу. Ждал полтора месяца этот день, чтобы продемонстрировать всему миру — что? Крепость (см. выше, о двоении слова) кремлевского узла, удерживающего точно в кулаке несводимое: неподвижное время с текущим точно дым пространством.
Еще одно «совпадение». Спустя месяц после упомянутого Троицкого на Красной площади парада в недвижно жарком июле американцы взорвали в пустыне Аламогодо первое ядерное устройство. Многие причастные к проекту физики искренне сомневались, выдержит ли этот опыт наш пространственно-временной континуум, тонкая ткань мировой материи, которую они решили попробовать на прочность. Нет, подкладка бытия как будто осталась цела. (Как будто. Я слышал, Питер Гринуэй, режиссер, доказавший свою чувствительность к колебаниям тонких материй, снимает сейчас многосерийный фильм о трещинах, покрывших тело времени в тот неподвижно жаркий год. Судьбы людей, треснувшие, перекроенные в одно мгновение, составляют сюжетный рисунок. Питер приехал в Москву— а куда бы он делся, спрашивается? — дабы уточнить некоторые детали в том ужасном орнаменте эпохи, что образовался молниеносно и всю картину мира невозвратно исказил, и подыскать к тому же подходящих, поврежденных на уровне психологической подкладки русских актеров, в чем будто бы и преуспел.)
Все верно. Нильс Бор, узнав о состоявшемся (не фильме — взрыве), заметил: «Мы сделали работу за дьявола». Значит, не одним только московитам мерещился зверь в пустоте, отверстой по ту сторону очевидного. Яйцеголовые ядерщики боялись того же: первое мгновение после первого взрыва окажется нулевым, окончательным, пустейшим. И опять мы можем судить по одному только слову: операцию в Аламогодо богобоязненные американцы заранее окрестили общеукрепляющим, трижды-три сплоченным именем Trinity, Троица.
По сути дела, в основе этих катаклизмов лежали те же несовпадения, и вслед за ними напряжения, и те же вслед за ними срывы и взрывы — чертежей, исходных проектов. Метафор Сталина и Оппенгеймера, ушедших не так далеко в своем ведении мира от строителей XV века. В столкновении с понятиями до- или постпространства их тоже потянуло на химеры.
Можно ли после этого удивляться объяснениям мастеров Кривцова и Мышкина, перестройщиков Успенского храма, что их работе мешает в протопустоте обитающий нечистый? Нет, в самом деле, этот эпизод требует серьезного толкования, которое учитывало бы напряжение упомянутых тонких материй, скреп пространства, готовых в одно роковое мгновение лопнуть, обнажить дно времени.
Разрушению собора есть объяснение политическое. Козни князя, великого Ивана, борющегося за влияние с митрополитом Филиппом, который и затеял возведение нового храма, привели к тому, что строительство с самого начала столкнулось с организационными и финансовыми трудностями, велось поспешно, с пропуском необходимых технологических операций и проч. Отсюда недалеко до ошибок инженерных и неизбежного в итоге провала. Не следует забывать ио землетрясении, «великом трусе», впрочем, эта версия может завести в иное еще легче, чем столкновение первочертежей.
Кстати, о чертежах. Политическая версия содержит множество деталей, указывающих на столкновение на кремлевской стройплощадке стратегических интересов; самое активное участие в высоком споре принимала партия византийских (морейских) выходцев в Италии, принявших Унию и осевших в Болонье. Главою их был Виссарион, после перехода в католичество кардинал римской церкви. Целью этой партии был союз Рима и Москвы, имеющий целью скорое возвращение Константинополя в лоно христианства. Поощряемые Виссарионом, в Италии прошли переговоры о браке Ивана III с племянницей последнего византийского императора Софьей; прошли, и завершились успешно, и Софья отправилась в долгий путь, в обозе, не менее долгом — в Москву. Перед процессией шел папский легат, который нес в руках большой латинский крест, «крыж», воплощенный фокус координат. Собор в Кремле строился, рывками, спешно.
И далее разворачивалась драма измерений, когда нескончаемая процессия подходила уже к Москве (арьергард, не иначе, был в Польше) и готовилась точно спицею или столовым ножом проколоть ее сдобную сферу, читай — продернуть москвоноль осью «икс». Но вступился митрополит, главный здешний геометр Филипп, и отвел угрозу. Иноземный крест был зачеркнут, отменен, спрятан на дно последней в обозе телеги и накрыт холстом. Исходные координаты новой столицы мира, которая только еще готовилась к этой своей роли, к сложной миссии удержания неоформленного, сырого пространства Севера и четырех частей света окрест, остались нетронуты. Иван и Софья венчались в недостроенном соборе: малый храм еще не вылупился из хрупкой скорлупы — православие сохранило право на будущее. Политический аспект инцидента не отменяет сложной игры пространств, точнее чертежей, еще точнее — метафор, двух сочинений метагеографических.
Можно спуститься с бумажных небес на землю и истолковать происшествие с обвалом собора с точки зрения инженерии. Тем более что рациональное объяснение кремлевской катастрофы было найдено сразу, как только за дело взялись приглашенные из Европы итальянцы. Московские зодчие не знали перевязок, поперечных связей, особых кирпичей или блоков, или стальных связей, укладываемых в стену перпендикулярно общей поверхности для дополнительной (пространственной, трехмерной) крепости и устойчивости. Ось «зет», ось глубины не была ими освоена вполне. Разумеется, стена, лишенная третьего измерения — два не связанных между собою слоя кирпичей и между ними сор для тепла, — возведенная выше двух этажей, принималась немедленно «дышать», шла волной исгрохотом осыпалась. Все казалось бы просто, и просто поступил Аристотель Фиораванти, установив недостающие поперечные связи, стальные пруты под названием «всуецепы» — имя, само себя расшифровывающее, одним звуком обозначающее действия: совать цеплять.
Однако даже такое сугубо профессиональное толкование не избавляет от соблазна исследовать внимательнее диагноз Фиораванти; что означало это невнимание кремленитов к поперечным осям крепости? Было ли это небрежение к пространству, или так: означало ли это невнимание отсутствие пространства в Кремле, пространства как сочинения? Или это сочинение было заслонено для Кривцова и Мышкина и их соратников проектом куда более существенным? Напомним, они строили не только храм, но и корабль, ковчег, и для них важнее всего была прочность его бортов — во времени. Притом не в том историческом контексте, который нам привычен сегодня, а именно — выдержат ли эти стены достаточно долгое время, простоят ли века и тысячелетия без повреждений? Нет. Не было у них впереди никаких веков и тысячелетий, а было двадцать лет, за которыми храму-ковчегу предстояло окунуться во все-время, а что это такое, никто, ни Кривцов, ни Мышкин, ни даже ученый Фиораванти, не знал, и не мог знать.
И они возводили, не стены — страницы; собор для них был словно книга в кубе (или куб книги, кому как понятнее). Им был интересен не раствор (что и в самом деле мог быть слаб и не клеевит — так постановили мастера из Пскова, которых пригласили для продолжения работ, но они отказались). Почему, кстати, отказались, только ли из-за раствора? Московитам было интереснее всего слово, «склеивающее» храм; в слове они искали скрепы для большего пространства.
Фиораванти истолковал этот интерес по-своему, перевел проблему в пространство своего слова, своей суммы знаний, но за этим опять встает вопрос, нами уже затронутый, — о сопоставлении исходных чертежей (здесь — двух матриц, типовых проектов: храма католического и православного). Здесь много найдется наблюдений самых любопытных, тем более что протекцию Фиораванти для поездки вМоскву составил все тот же кардинал Виссарион, он же и напутствовал его для выполнения важнейшей миссии, из чего можно было бы сделать вывод, что в своем проекте Фиораванти стремился провести близкие ему пространственные представления, но это не так, или не совсем так, поскольку уже здесь, вМосковии, итальянец испытал некоторые потрясения и открытия, которым должен быть посвящен отдельный рассказ, а здесь довольно констатации, что они в известной мере изменили его взгляд на порученное дело, но, в конце концов, и это не главное, и его приключения и метаморфозы суть отражения, отблески — главного, аглавное-то творилось, или лучше так: отворялось в Кремле. Отворялось иное пространство, имеющее модулем своим не куб, но скорее сферу, и то в понимании не столько геометрическом, сколько метафизическом, поскольку оно отворялось во времени, имело материалом для своего оформления время, его разрежение и плоть.
А это совсем другая история.
Так простейший на первый взгляд счет измерений сопровождался — сопровождается до сих пор — некоторыми в головах обитателей Кремля поправками, которые в сумме своей начинают составлять свой собственный закон.
Есть свидетельство учителей Навигацкой школы, которая обосновалась в Сухаревой башне еще в петровские времена. Кстати, Сухаревка построена была на очередном переломе кремлевских времен, когда в России был введен юлианский календарь и счет лет пошел от рождества Христова. Перелом во времени и тут не оставил в покое пространство. В трещине эпох явилась эта странная башня, каменный зуб в деревянной стене Скородома, полуратуша-полуколокольня, с обсерваторией наверху и медным глобусом в основании, по облику своему натуральная ракета тридцати сажен высотой.
В этом-то космографическом учебном заведении (здание прилетело из космоса и пропало в нем же: вакуум съел дом без остатка в 1931 году) наблюдались в обучении московских курсантов досадные аномалии. Черчение среди всех наук было для курсантов максимально затруднено. Аспидно-черная доска казалась болотом, простыни бумаги были ощутительно вязки: острие грифеля тонуло в белом, поминутно останавливаясь и цепляя неочевидное.
Это затруднение может показаться странным: Россия вся тогда была (есть и сейчас) словно калька, на которую спешно переводились объемные европейские картинки. Рисование по кальке как будто не могло вызывать затруднений. Однако требовалось уже не срисовать, но именно начертить, прояснить и расчислить неведомое внутристраничное содержание. И опять на поверхность бумаги полезли черти и химеры, и должен был явиться иноземец, шотландец Яков Брюс, и разбить себе лоб, разъясняя ученикам принципы черченой глубины. Брюсу вроде бы поверили, однако к работе не приступали, не перекрестившись. Всезнающего же шотландца по смерти его единодушно нарекли колдуном, способным к предугадыванию будущего и общению с запредельным эфиром. Он способен был к полету на деревянной птице, расчленял и соединял людей заново и варил в подвале башни зелья, имеющие вид сметаны, ими он смазывал подошвы домов и катал их с места на место как на салазках.
На деле у курсантов вышел тот же казус, с неосвояемой осью «зет». Ежели бы можно было просто срисовать объект подражания, не составилось бы никакой проблемы. Рисунок, список с предмета трехмерного привычно был плосок. Однако начертить, оторваться мысленно от плоскости, погрузиться головою в страницу было совершенно невозможно. Усилия противоположные: рисунок поднимает из глубины и располагает на плоскости одушевленные каракули, — черчение открывает белую плоскость вглубь, как дверцу, дает ей твердую ось, ведущую в колодец страницы.
Что же произойдет, если отворяемая на глазах бумага и без того окажется переполнена — заранее; а ведь она была полна словом, и кремлевские курсанты знали о том великолепно. Что произойдет, если чертеж будет приложен к слову? Стереометрии его до сих пор остаются не исследованы…
[1] По европейскому летосчислению это соответствовало 1492 году.
