Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
О русском неотрадиционализме и сопротивлении переменам
С большим интересом прочитал третий номер «Отечественных записок» (четвертый, кстати, тоже). Хорошие, качественные материалы, профессионально написанные компетентными авторами. Однако отдельные утверждения авторов представляются спорными.
Наибольший интерес и наиболее сильный отклик из всех материалов третьего номера «Отечественных записок» вызвала у меня статья Льва Гудкова «Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам». Надо признать, что статья написана виртуозно. Л. Гудков заложил в текст множество оговорок, делающих полемику с ним делом нелегким. Пожалуй, даже провальным. Однако попробую отметить некоторые положения статьи, представляющиеся мне не совсем верными.
Разумеется, я вижу процессы, происходящие в массовом сознании граждан РФ, иначе, чем Л. Гудков. Думаю, что попади я в число респондентов любого опроса, социологи, связанные с программой ВЦИОМ «Советский человек», мигом распознали бы во мне «неотрадиционалиста», «русского националиста» или просто дремучего мракобеса.
Между тем мои воззрения не подпадают под предложенное Л. Гудковым определение неотрадиционализма. Я не тоскую по империи или по ее прежней роли в мире, не исповедую (и не проповедую) антизападничество, не нуждаюсь в образе врага (хотя считаю, что в некоторых сферах относительный изоляционизм был бы для России благом) и не занимаюсь ни упрощением представлений о человеке и социальной действительности, ни консервацией сниженных представлений. Можно сказать, я с прискорбием наблюдаю, как происходят снижение, упрощение и консервация.
Людей, разделяющих мой незатейливый образ мысли, достаточно много, особенно среди тех, кому сегодня 45–60 лет. Мой национализм, во-первых, не постыден (он сродни тому национализму, который на Западе считают непременным условием участия в политической жизни, все еще протекающей, по большей части, в рамках национального государства) и, во-вторых, совершенно неагрессивен. Мой национализм не требует от меня участия в маршах, демонстрациях и погромах, истового православия или неистового язычества, сокрушения западных артефактов, ненависти к инородцам, иноверцам и инакомыслящим, преклонения перед Петром I, Александрами (I, II и III), Лениным, Сталиным, Ельциным или Путиным.
Национализм такого рода — способ личной самоидентификации, установления связей со средой существования, которая имеет историю и традиции. Ни в русской истории, ни в традициях русского народа ничего постыдного или иррационального не нахожу. Как не нахожу и ничего действительно уникального— такого, что выводило бы русскую историю за рамки истории человечества. Таким образом, я не исповедую и мифологию национальной исключительности.
В целом мой образ мыслей неплохо описывает цитата из трудов А. Н. Малинкина, использованная автором другой статьи из того же третьего номера «Отечественных записок»: «Неявленная любовь к родине ни в коей мере не является добродетелью, а, скорее, наоборот, терпима из соображений гуманности».
Тем не менее я (как написал бы Л. Гудков, «самонадеянно») считаю, что Россия представляет собой особую цивилизацию, у которой действительно есть свой путь. Вопреки мнению Л. Гудкова, уверенность в том, что у России (как у любой страны)— свой собственный путь, не несет в себе ничего утешительного. Напротив, эта уверенность предполагает постоянно высокую степень мобилизации. Народ, конечно, устает от постоянной мобилизации и время от времени делает попытки отклониться от своего особого пути, за что расплачивается по самой высокой цене, которая с каждым разом становится все выше, все неподъемнее. В настоящий момент, после очередной попытки отречения от особого пути, вопрос стоит уже о выживании русского народа, русского государства, русской культуры— всего того, что мне почему-то (почему именно — долго объяснять) дорого и по понятным причинам образует формат моего существования.
То, как решается этот вопрос выживания русского народа сегодня, меня не устраивает. Этот вопрос куда как дурно решался и в недавнем советском прошлом. Я это прошлое хорошо помню, не идеализирую и о нем не скорблю. Однако я считаю, что советское прошлое было чревато лучшим будущим, чем несоветское (антисоветское) настоящее, которое я, однако, не собираюсь свергать.
Конечно, социологи настаивают на большей определенности воззрений. Вероятно, они считают, что человек, которого не устраивает настоящее, должен испытывать тоску по прошлому. Или грезить будущим. Вопросы, которые формулируют социологи, и расширения, которые они придают ответам, соответствуют этой посылке. Вероятно, на вопрос «Нравится ли вам настоящее?» следует односложно отвечать «Да» или «Нет». Даже ответ «Не знаю» может вызвать у социологов раздражение. Ответ «Нет» они безошибочно интерпретируют как тоску по тоталитарному прошлому и констатируют рецидив тоталитарного сознания.
По-моему, подобные методы работы социологов могут приносить какие угодно результаты, кроме корректных. Позвольте привести пример. Л. Гудков пишет: «Если в 1989 году подавляющее большинство полагало: «Зачем искать врагов, если корень наших бед и ошибок в нас самих?“ (49 процентов, на существовании врагов настаивали 12–17 процентов опрошенных), то уже в 1994 году 41 процент россиян утвердительно ответили на вопрос, есть ли враги у России, а в1996году— 65 процентов опрошенных».
Подозреваю, что в 1989, 1994 и 1996 годах респондентам задавали разные вопросы. Вопрос «Есть ли у России враги?» может относиться как к врагам внешним, так и к врагам внутренним, в том числе к обуявшим нас «бесам». Л. Гудков подменяет точную формулировку вопросов, заданных в 1994 и 1996 годах, собственной интерпретацией ответов.
Впрочем, интерпретации ответов также довольно противоречивы. Например, Л. Гудков пишет о том, что в 1991 году 57 процентов опрошенных были согласны с тем, что «в результате коммунистического переворота страна оказалась на обочине истории, и ничего, кроме нищеты, страданий и массового террора людям она (революция 1917 года — А. К.) не принесла». Заметьте: вопрос был задан о большевистской революции 1917 года и ее последствиях. Подобные вопросы, затрагивавшие «в публичном обсуждении табуированные ранее темы оценки прошлого», «разбудили» и «наиболее пассивные и консервативные группы». В результате, как пишет Л. Гудков, уже к 1991 году «опросы показывали нарастание защитных реакций социальной и культурной периферии». Респонденты, считающие, что пресса «слишком много уделяет места теме сталинских репрессий», уже к 1991 году составили 62 процента, тогда как считающих, что пресса уделяет «слишком мало» внимания этой жгучей теме, набиралось всего 16 процентов. Более того, некоторое число респондентов придерживалось мнения, что пресса «очерняет героическое прошлое и т. п.».

Обратим внимание на то, что в данном случае Л. Гудков противопоставляет результаты опросов, проведенных приблизительно в одно и то же время. Возможно, что мы снова сталкиваемся с ответами, данными на разные вопросы.
Однако отмеченное Л. Гудковым расхождение в оценках нельзя объяснить только различными формулировками вопросов. Разумеется, социологи могут свято верить в то, что сталинские репрессии органически и неразрывно связаны с большевистской революцией, являются ее неизбежным следствием, однако не факт, что респонденты думают точно так же. Большевистская революция октября1917 года и сталинские репрессии — события все же разные, и по отношению к одному из них нельзя судить об отношении к другому. А «очернительство героического прошлого» — и вовсе третье событие, имеющее отношение не к большевистской революции и не к «большому террору», а к созданию «динамичных оснований легитимности для новых политических лидеров перестройки».
Но поразительнее всего замечание Л. Гудкова о том, что «антисталинизм быстро приелся и надоел, поскольку не нес в себе ничего позитивного, связанного с повседневными интересами и представлениями людей». Выходит, просвещенному социологу антисталинизм публицистики конца 80-х — начала 90-х годов мог быстро приесться и надоесть, но «социальная и культурная периферия» должна была лопать, что дают, и просить еще, никоим образом не показывая приличным господам социологам, что уже обожралась негативным антисталинизмом и хотела бы чего-нибудь другого, желательно не слишком оскорбительного.
В этом конфликте продвинутых социологов и грубой, неразвитой «периферии» (или, как называет эту массу Л. Гудков далее, «плебса») я, пожалуй, приму сторону «плебса». Потому что «плебс» в данном случае обнаружил здоровый инстинкт, запрещающий без крайней нужды и всей оравой, с дикими воплями, чуть ли не с песнями и плясками заниматься бесконечным разрыванием могил, хотя бы и по настоянию «социального и культурного центра».
И. В. Сталин — не мой герой, что не мешает ему оставаться одной из крупнейших фигур истории прошлого века. Никакие вопли, никакие заклинания, никакие манипуляции с количеством жертв террора и никакое публичное раздирание одежд ничего в прошлом изменить не могут. Более того, все эти конвульсии мешают попыткам изучить и понять прошлое, которое было не проще настоящего.
Сходным образом Л. Гудков интерпретирует и реакции граждан России на косовский конфликт. Несогласие с действиями США и НАТО в косовском конфликте действительно вызвало определенный рост антиамериканских настроений (кстати говоря, не только в России). Но здесь возникают вопросы о том, в какой именно мере усилились антиамериканские настроения, как их фиксировали и было ли это усиление антиамериканизма реанимацией «конфронтационных и великодержавных настроений». Многие люди, осуждая действия США в отношении Югославии, не испытывали ни антиамериканских, ни великодержавных настроений (что косвенным образом подтверждают данные, которые приводит Л. Гудков: хороши, однако, конфронтационные настроения, если за прямое вмешательство в конфликт на стороне Югославии высказывались лишь один-два процента опрошенных). Результаты опросов того времени отражали отношение граждан России к конкретной внешнеполитической акции США. Если не исходить из презумпции непогрешимости США, то в такой реакции граждан России ничего особенного не было. Можно подумать, что в самих США американцы сплотились в единомыслии, восторженно славили удары по Югославии и все как один рвались собственноручно наказать сербов, облегчить участь албанцев или хотя бы растерзать тех соотечественников, которые не одобряли действий администрации.
Конечно, Л. Гудков прав, отмечая постыдное поведение депутатов Государственной думы, политических партий и СМИ. Но это, как мы все понимаем, особая песня и совсем другой сюжет.
Л. Гудков затрагивает и этот сюжет, смело называя его «деградацией элиты», которая, по его мнению, пала ниже некуда. Элита, пишет Л. Гудков, утратила свое отличие от «плебса» в оценках, взглядах, ориентациях, моделях понимания реальности, оказалась неспособной «обеспечить интенсивное модернизационное развитие России», «дискредитировала идеологию реформ, лозунги демократии и рыночной экономики» и вообще впала в унылую инверсию и стала все больше ориентироваться не на будущее, а на прошлое.
Вероятно, Л. Гудков предъявляет отчасти обоснованные претензии. Но кому ? Л. Гудков говорит об «образованной элите» и противопоставляет «образованных» «плебсу». Однако как-то так у нас вышло, что за последние 10–15 лет значительная часть «образованных» влилась в «плебс», а кое-кто из «образованных» ценой немалых усилий и вовсе деклассировался, достиг люмпенского состояния и к элите ни малейшего отношения не имеет.
Далее, следовало бы строже определять смысл понятия «элита» и рамки этого понятия. А то что-то много у нас элит расплодилось. Социологическое определение понятия «элита», которое приводит Л. Гудков в самом конце своей статьи, представляется бессодержательным. Если не умножать сущности без нужды и считать элитой правящие круги, тех, кто разрабатывает политические решения и инициирует их принятие, то, надеюсь, Л. Гудков к ним никаких претензий не имеет. Кого из представителей правящих кругов ни возьми — все молодцы. И интеллектуалы. С теми, кто будет злобно отрицать это, готов, как человек чести, стреляться. На четырех шагах. Через платок. Сразу из двух пистолетов.
Если бы, как пишет Л. Гудков, элита «деградировала», то не смогла бы сохраниться как элита. А она прекрасно в этом качестве себя сохраняет, отлично воспроизводится и тащит за собой упирающийся «плебс», убедительнейшим образом доказывая, что ничуть не деградирует.
Итак, Л. Гудков порицает не элиту, а «образованцев». Но эти-то никогда и ни при каком строе-режиме в элиту не входили и никогда в нее не войдут .Л. Гудков все это прекрасно знает, но почему-то упоминает об этом лишь в заключительных строках статьи. Между тем Россия, слава Богу, не коммунистический Китай, у нас на образование не молятся, не за образование берут на работу/службу, не по уровню образования/компетентности распределяют работу и вознаграждения за нее.
Несколько слов еще об одной претензии, предъявляемой Л. Гудковым элите. «Сегодня, — пишет Л. Гудков, — элита не в состоянии задать ни цели, ни ориентиры общественного развития, ни тем более обеспечить внесение в социальную практику норм правового общества, представлений, соответствующих реальности рыночной экономики…»
Позвольте не согласиться и с этой инвективой. Элита сама себе задает цели и ориентиры и вовсе не обязана излагать и растолковывать их «плебсу», который просто должен идти туда, куда его ведет элита. Да, «плебс» оказывается в этом случае всего лишь «расходным» материалом общественного развития, но так оно всегда в России и было. В разные периоды наиболее «расходные» части «плебса» по-разному называли (в первые годы после большевистской революции — остатками эксплуататорских классов, в 1929–1933 годах — кулаками и подкулачниками, сегодня — «образованцами» и людьми, неспособными к адаптации), но суть-то одна. Сугубо российская. «Интеллектуальному сообществу» нет никакой нужды предлагать «расходному материалу» что-либо новое, тем более привлекательное и убедительное. С «плебсом» можно обходиться иначе: скажем, исполнить перед ним (и для него) что-нибудь из «имперской классики», пощекотать его «великодержавность», слегка погладить его патерналистские инстинкты, а затем, получив от «плебса» мандат на власть, делать с ним все что угодно. Зачем выдумывать что-то новое, когда старое дает неизменно превосходный результат? Это не по-хозяйски.
Л. Гудков знает, что реальная политика в России оторвалась от риторики гораздо сильнее, чем в какой-либо другой стране. Недаром же пишет: «В России еще не было реформ в смысле сознательной и планомерной долгосрочной политики правительства, тем более такой, которая могла бы быть поддержана сколько-нибудь значительной частью населения…»
Это, простите, как? А ликвидация КПСС — сначала в качестве руководящей и направляющей силы, а затем и вообще? А ликвидация СССР? А ликвидация проклятой советской власти и замена ее стройной системой современной демократии? А реформы Гайдара? А принятие новой конституции? А приватизация? А экономическая программа правительства Касьянова, сердцевину которой составляют реформы Грефа? Всего и не перечислишь… Неужто все это не было поддержано сколько-нибудь значительной частью населения? В это невозможно поверить. Потому что если в это поверить, то где же тогда демократия? Либерализм? Рынок? Неужто и их нет? Ужель все что ни есть — одно лишь, как пишет Л. Гудков, «медленное разложение прежних структур общества советского типа»?
Л. Гудков, между прочим, в своей статье приводит данные опросов, свидетельствующие о том, что в начале 90-х годов «плебс» ни в какие несоциалистические модели не верил — но каким-то мистическим образом именно в них и влип. Это неопровержимо доказывает, что элита свое дело знает и на «плебс» всегда найдет не узду, так удавку.
Готов согласиться с Л. Гудковым: интеллигенция (если это красивое, пришедшее к нам из имперских времен слово применимо к «образованцам») потерпела очередной крах. Обратите внимание: очередной. Не первый.
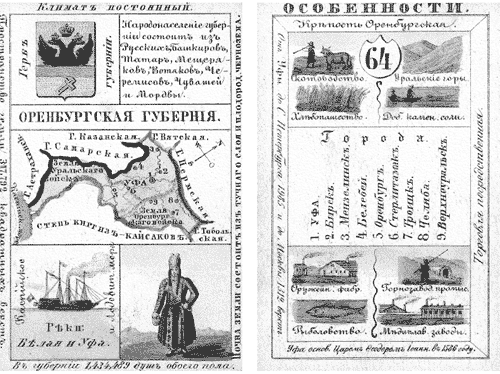
Подозреваю, что не последний. Л. Гудков ошибается, когда пишет о «полной импотенции образованных слоев российского общества». Образованные слои российского общества сохраняют огромный потенциал к генерированию разрушительных и даже самоубийственных идей. Я не доносительством занимаюсь, а пишу в приличное издание, поэтому не стану называть разрушительные идеи и представителей «образованного класса», которые либо эти идеи генерировали, либо восторженно их развивали. Эти люди хорошо известны. Они пользуются расположением элиты, которая имеет все возможности для того, чтобы приучить «плебс» практически ежедневно слушать и видеть этих замечательных людей, постоянно читать их произведения.
И Л. Гудков хочет, чтобы такие люди предлагали обоснования индивидуальной политической ответственности, проповедовали идеи взаимных обязательств игроков публичной сцены и общественного контроля над принимаемыми политическими решениями и действиями власти разного уровня? По-моему, это чрезмерные требования. К тому же дурно пахнущие «плебсом», даже «совком» и патернализмом, от которых до тоталитаризма — один шаг.
В ныне существующей политической системе нет и быть не может индивидуальной политической ответственности (соответственно, попытки найти ей обоснования напоминают мастурбацию), как не может быть и взаимных обязательств игроков публичной сцены. Все знают, что реальная политика делается не на публичной сцене (именно это обстоятельство находит выражение в популярных у«плебса» теориях заговора: масонского, еврейского, «питерского», «спецслужбистского» — любого). Если реальная политика делается не на публичной сцене, а elsewhere, то какие могут быть взаимные обязательства у игроков публичной сцены?
Это положение дел мы называем свободой и от нее не отречемся. Все как один умрем, такой свободой удавленные, но не отречемся от нашего главного завоевания последних лет.
Позволю себе замечание относительно использования Л. Гудковым «в качестве индикатора открытости» числа переводов с иностранных (европейских) языков. Начну с того, что западной литературы по отраслям, наиболее связанным с репродукцией отечественной культуры и потому нарочито закрытым для «инновации и инокультурного влияния» (таковыми Л. Гудков считает филологию и образование), не так уж много. Едва ли удельный вес литературы по этим дисциплинам превышает три процента, а именно такой уровень был достигнут в1998 году. Так что претензию Л. Гудкова следует переадресовать западным филологам-славистам, которые так мало пишут.
Далее, непонятно, почему Л. Гудков считает, что с репродукцией отечественной культуры связаны прежде всего филология и образование. То, что Л. Гудков называет «инструментальной литературой» («по сексу, воспитанию детей, домоводству, здоровью, правилам питания и другим вопросам, связанным с рационализацией повседневной частной, индивидуальной жизни»), по-моему, самым прямым образом связано с воспроизводством культуры. Правда, чужой.
Переводы книг по истории также имеют самое непосредственное отношение к репродукции культуры. За последние годы по истории переведено удивительно мало действительно ценных книг (по моим подсчетам, не более 30) — и море макулатуры. То же следует сказать и о переводах художественной литературы. Не стоит так уж расстраиваться из-за низкой доли (0,5–1 процента) «серьезной» или «высокой» художественной литературы: вряд ли ее удельный вес выше и на Западе. Не всякая «модная» книга относится к «высокой» литературе. Снижение количества переводных книг в общем потоке новой литературы объясняется обстоятельствами, которые Л. Гудков выносит за скобки, а именно снижением покупательной способности граждан РФ и удорожанием издательской деятельности.
Будучи переводчиком средней руки, осмелюсь сказать, что издательства сплошь и рядом переводят, издают и энергично продвигают на рынок весьма посредственные книги. Мог бы привести конкретные примеры, но не хочу портить и без того испорченные отношения с издателями. Пусть издательский бизнес и дальше кормит «плебс» третьесортными сочинениями, количество которых служит для социологов показателем «открытости» общества для «инокульурных влияний».
Не соглашаясь со многими выводами Л. Гудкова, должен признать, что его статья весьма информативна. Однако приведенные в ней данные либо недостаточны для обоснования выводов, к которым приходит автор, либо противоречат этим выводам.
Причин такой досадной несуразицы много. По большей части они заключаются в невысказанных исходных посылках Л. Гудкова. Текст статьи Л. Гудкова позволяет выявить следующие невысказанные автором посылки: 1) поскольку отечественная культура дефектна и ущербна, всякое инокультурное влияние есть благо; 2) «образованные» должны быть каналом распространения инокультурного влияния и отличаться от «необразованных» так же, как отличаются друг от друга различные биологические виды; 3) Россия не была великой державой и, говоря откровенно, не имела иной истории, кроме истории зверств, мучительств, расправ, агрессии и прочего срама; 4) русский национализм — пена и культурный«ил»; 5) «плебс» ни на что не способен, кроме как на строительство «потемкинских деревень» в прошлом; 6) этой дурной болезнью «плебс» заразил и «образованных», которые, как оказалось, лишены иммунитета от болезней «плебса».
Возможно, эти посылки либеральны и демократичны, но с научной точки зрения — совершенно бесплодны. Да и с политических позиций они вряд ли благоприятствуют строительству правового или гражданского общества, которое начинается с признания равного достоинства всех своих членов.
В заключение — несколько слов об отмеченных Л. Гудковым досадных фактах нашей действительности: отторжении российским обществом мультикультурализма и сопротивлении массового сознания переменам.
Есть основания полагать, что уж чему-чему, а мультикультурализму русских учить не надо. Русская культура (и «высокая», и «низкая») сформирована под постоянным воздействием «инокультурных влияний», последствия которых настолько глубоко интегрированы в ткань русской культуры, что их невозможно не то что извлечь, но порою даже выявить. Русские в индивидуальном качестве отличаются высокой адаптивностью и обнаруживают это свойство в тех ситуациях, когда понятно, к чему следует адаптироваться. Говорят, из них получаются не самые плохие американцы, канадцы, австралийцы и даже британцы.
Очевидно, что труднее всего адаптироваться к неопределенности, которая постоянно нарастает в течение последних 15 лет, что, кстати, признает Л. Гудков. Но в смысле адаптации к неопределенности и другие культуры не обнаруживают явных преимуществ. Культура изначально предполагает определенность. Чем чужая, явленная в переводах, клипах, штампах, кодах и стереотипах определенность лучше своей, непонятно. Тем более что чужая определенность столь же мнима, как и своя. Если бы мультикультурализм предлагал нечто более совершенное, более соответствующее обстоятельствам времени и места, русские бы его всенародно (или, как любят говорить великорусские патриоты, соборно) восприняли. Но мультикультурализм ничего более совершенного не предлагает. Поэтому не стоит раздражаться по поводу упорного нежелания массы русских обращаться в еще больший мультикультурализм, чем тот, которым они уже обладают, нимало не задумываясь о том, мультикультурализм это или нет.
Сходным образом не стоит раздражаться и по поводу сопротивления русских переменам — это сопротивление совершенно бессильно. Оно абсолютно ничему не мешает. Л. Гудков приводит данные о том, что с 1989 года большая часть опрошенных (50–60 процентов) не отвергала советскую систему и не верила в капитализм, но ведь это ничему не помешало, не так ли? Перемены неизбежны, но из этого никоим образом не следует, что любое изменение есть благо. Л. Гудков в своей статье лишь раз упоминает чудесное слово “transition”. Мой слабый ум требует дополнения: хотелось бы знать, от чего и к чему совершается переход.
На протяжении последних 10 лет попытки задать этот вопрос властителям наших дум и нашим вождям, тем более попытки получить от них внятный ответ на этот вопрос, постоянно терпели неудачу. Считалось (и считается), что для порядочного человека, читающего газеты-журналы и смотрящего телевизор, этого вопроса нет, а ответ на него самоочевиден. Между тем, как это нередко бывает, самоочевидное и общеизвестное оказывается той полуправдой, которая хуже лжи. Повинуясь могучей воле своей элиты, свернутая этой волей в бараний рог, Россия совершает переход от судорожной имитации социализма и империи к судорожной имитации демократии и рынка. От одного суррогата к другому.
Суть и логика перехода от одного суррогата к другому предопределяют все остальное. Конечно, трудно, но можно нагнетать неопределенность и в то же время задавать ориентиры (разумеется, суррогатные). Можно разрушать и призывать к созиданию. Можно преклоняться перед Западом, в частности за то, что на Западе действительно существует большее уважение прав человека, и при этом рассматривать собственный «плебс» как грязь, которой, по правилам гигиены (даже русской), должно быть как можно меньше. В эру свобод можно делать практически все. Только результаты этой бурной деятельности будут отрицательными.
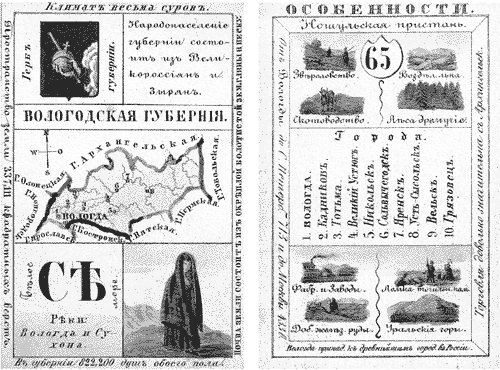
Главной заслугой Л. Гудкова можно считать убедительную демонстрацию того, что после шума и гама, пальбы и яростных клятв, после разрушения промышленного и научного потенциала советской империи, после замены коммунистической империи демократией, а централизованного планирования — рынком, после обрушения куцей системы социальных гарантий и размена советской культуры на инокультурные влияния в России мало что изменилось. Во всяком случае, не претерпели изменений ни отношение власти к народу, ни механизмы «динамической легитимации новых правителей» (эти механизмы я называю хамскими), ни образ мышления и действий элиты.
Другой заслугой Л. Гудкова является констатация постепенного одичания населения России. Любопытно узнать, задавали ли социологи простой вопрос: «Можно ли убивать других людей?» Подозреваю, что сравнение ответов, данных на этот вопрос в 1988–1989-м и в 1997–1998-м или 2002 году, рассеяло бы наши последние надежды на прогресс, утверждение новых представлений и норм, соответствующих рыночной экономике. Ежедневно, едва ли не ежечасно мы сталкиваемся не со снижением представлений о человеке, а с обесцениванием человеческой жизни. И если не замечаем этого, то лишь потому, что уже ко всему привыкли исчитаем это обесценивание нормой нашей общественной жизни. Происходит уже не деградация общества, а его развал. Десоциализация.
Таким образом, Л. Гудков прав, описывая происходящее как разложение прежних структур. Только структуры советской жизни обнаруживают большую устойчивость и разлагаются медленнее, чем структуры, пришедшие им на смену. Причины этой устойчивости могли бы стать предметом интересного исследования, но в существующих условиях, конечно, не станут, поскольку все, что обнаруживает какую-то устойчивость, не поддается общей тенденции, заслуживает подчеркнутого невнимания.
