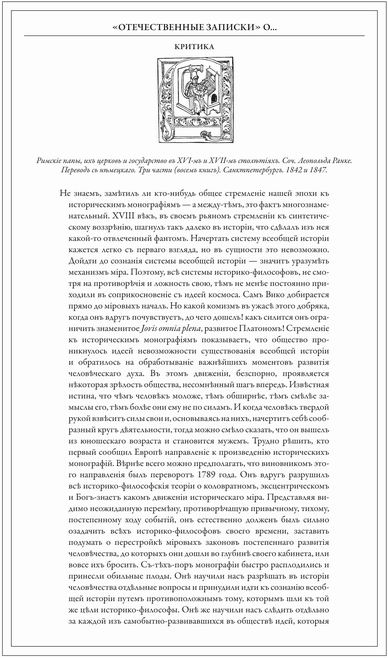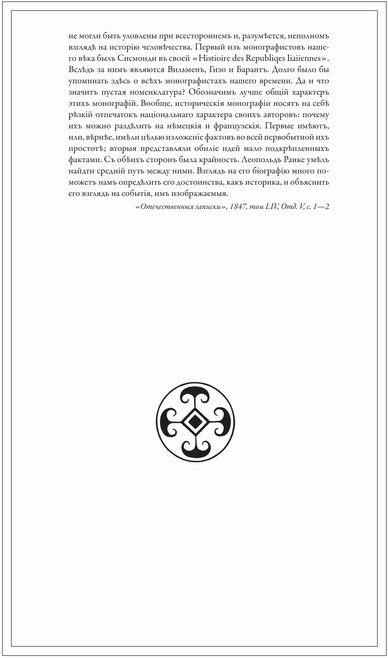Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
«Расцвет и упадок» кризиса рациональности
Проблемы с рацио — модная тема. Но мы живем одновременно и в мире, и в собственной стране. Сопоставление общих трендов с экзотикой отечественной политики иногда полезно: мы одновременно и вписаны в глобальные процессы, и выпадаем из них. Как всегда, именно из-за того, что бежим впереди планеты всей, творчески осваивая самое опасное.
I. РАЦИО ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ
Проблема баланса
В заголовке статьи есть видимая несуразица — если в самом начале разговора не отказаться от подкожного рационализма (своего рода «рациофильства») и не вкладывать в слово «рациональность» только позитивные смыслы, а кризис не понимать только как нечто исключительно негативное.
Однако, строго говоря, рациональное и иррациональное — вещи взаимодополняющие и сосуществуют именно в балансе. Рационалист вовсе без эмоций — такая же беда, как человек страстный, но без мозгов. Точно так же к понятию кризиса в последнее время относятся куда более лояльно, чем, скажем, в школьном марксизме, обещавшем обеспечить человекам рай сверхъестественно устойчивого развития. Теперь чаще напоминают, что кризисы это нечто неизбежное и даже по-своему целебное. В последнее время стало модным ссылаться на мудрый японский иероглиф, обозначающий кризис еще и как открытие новых возможностей.
Двойственность отношения к рацио видна уже в различиях обычных характеров. Есть люди, у которых с этим плохо с детства и до старости. Такой пожизненный кризис рациональности немало значит в общей оценке человека, но вместе с тем ничего фатального в такой оценке не предрешает, если только способность здраво мыслить и оценивать реальность не утрачена вовсе. Человек может быть выдающейся личностью именно в сфере эмоционального, интуитивно нравственного, спонтанно-творческого. Вообще говоря, художники и актеры, как правило, не лучшие математики, логики и мыслители (если, конечно, это не Игорь Пчельников или Алла Демидова). И наоборот, эмоциональность, чувствительность, трепетность, на некоторых жизненных стезях особо востребованные, обычно исключают реакции, оценки и действия с повышенной рациональностью.
Выбор между рациональным и иррациональным с точки зрения личностной доминанты может быть сведен к проблеме «человек на своем месте» (или не на своем). При этом понятие «места» можно трактовать по-разному, например, не только как жизненную задачу или профессию, но и как точечную ситуацию, именно здесь и сейчас требующую от человека проявления особых свойств личности, способностей, характера.
Но тогда точно так же можно сформулировать и проблему «человек в своем времени». Даже на протяжении жизни запросы на ту или иную грань личности и характера могут меняться. Рассудочный младенец так же нелеп, как взрослый или не слишком пожилой человек, впадающий в эмоциональное ребячество.
Маятник истории
Таким же возрастным колебаниям подвержены и целые культуры. Здесь обычны аналогии с человеческой биографией, когда культура или цивилизация не просто проходят стадии развития, соответствующие детству, отрочеству, юности, зрелости, благородной старости и неприглядной дряхлости, но при этом постоянно меняют баланс между рациональным и иррациональным: от эмоционально-трепетного детства, через раздираемую инстинктами юность, рассудочную зрелость к мудрой старости, плавно переходящей во все то же иррациональное состояние, которое в быту называют «впал в детство».
Вместе с тем, когда речь идет о более широких обобщениях, например, не об античной или ренессансной культуре, а обо всей западной цивилизации, такие замкнутые антропоморфные циклы уже перестают работать; здесь вырисовываются более сложные траектории. Так, в эстетике пользуется популярностью «маятник Вёльфлина», описывающий циклическое чередование стилей: от рациональной ясности, упорядоченности и регулярности к большей иррациональности, неупорядоченности, спонтанности и органицизму — а потом наоборот, в противоположную сторону... и опять в новый цикл в соответствии с почти правильной синусоидой. Конечно, отклонения здесь есть, но они только подтверждают правило, иллюстрируемое такими искусствоведческими «очевидностями», как регулярные композиции Древнего мира и Античности, иррациональность и мистический органицизм Средневековья, новая ордерность Ренессанса с его идеальными городами и столь же правильными трактатами и т. д. и т. п., через барокко, классицизм, ампир, эклектику и псевдорегионализм, функционализм и конструктивизм, большой современный стиль, закончившийся панической, но агрессивной реакцией постмодерна с его утрированной иррациональностью.
Если же взять историю собственно интеллектуального развития, прежде всего философии, то здесь мы увидим еще более сложную картину одновременно и последовательной смены волн рационализма и иррационализма, и взаимоналожения, одновременного сосуществования этих трендов. Можно было бы построить синхронистическую таблицу, дающую возможность визуализировать сложность всей этой истории и тем самым ее более четко рационализировать. А заодно учесть, насколько все неоднозначно, как, например, с позитивизмом, считающимся во всех трех своих ипостасях философией рациональной, но при ближайшем рассмотрении просто отказывающейся отвечать на метафизические вопросы и тем самым сливающей их в область иррационального. Кстати, и «поток сознания» был одним из самых рациональных, расчетливых способов письма.
Таким образом, к понятию «кризис рациональности» лучше изначально относиться непредвзято и отличать, где это действительно острая проблема, где нормальное движение внутри меняющегося баланса, а где тренд, начинавшийся как нормальный, становится предметом для психиатрии, например, социально-политический, как у нас.
Эти общие рассуждения приведены здесь, чтобы вписать в более широкий контекст то переживание кризиса рациональности, с которым мы сталкиваемся сейчас в самых разных измерениях: на глобальном уровне, в отношении цивилизации, к которой мы по преимуществу принадлежим, в отдельных проявлениях ее постсовременной кризисности и т. д., вплоть до тех приключений несчастного русского рацио, которые мы наблюдаем в извращениях политического режима России рубежа веков и начала нового века.
Иррациональное в постмодерне
Мы живем в интересное время, в эпоху перемен, чего желать не принято. Страна «сходит с ума» в период если не общего помешательства, то во всяком случае в эпоху ревизии ценностей однозначного рационализма. Как-то это связано.
В общем виде это можно обозначить как ситуацию постмодерна — если постмодерн понимать предельно широко, не как постмодернизм, расцветающий в философии, искусствах или, например, в идеологии и политике, а как общее умонастроение и конфигурацию вкусов эпохи заката тотальных мегапроектов, а тем самым и всего тренда Нового времени. Обобщенно этот язык характеризуется тягой к синтаксической неупорядоченности, к семантике разрыва с означаемым и коллажированию цитат из руинированных текстов и, наконец, радикальной иронией, которая, собственно, и отличает полноценный постмодерн от его патологически серьезных гламурных имитаций. Все вместе это, конечно же, поход против классической рациональности, против рациональности Большого Модерна: против рацио порядка, против рациональных связей между означающим и означаемым, против обычной ответственности и серьезности высказываний. И этот контекст трудно переоценить, например, рассматривая даже дичайшие, совершенно иррациональные закидоны российской идеологии и политики второй декады XXI века.
В нашем идейно-политическом контексте надо прежде всего оценить степень деградации даже обычной, бытовой рациональности в самых разных проявлениях.
Нарушение синтаксических связей — связей между элементами — делается нормой. Такую идеологическую эклектику, такие вопиющие, но при этом совершенно свободно допускаемые противоречия трудно себе представить в иной политической культуре — но и в ином времени, в иной цивилизационной обстановке. В зависимости от ситуации, а то и просто от настроения здесь используются какие угодно, если не все подряд классические штампы идеологии, способы легитимации власти и т. п. И надо понимать особенность этой эклектики: она не пытается выстроить пусть эклектическое, но все же связанное целое, а именно культивирует этот беспорядочный наброс всего. Примерно так эклектизм постмодерна отличается от эклектики начала прошлого века, все же собиравшей разнородное в обычной связности и целостности произведения. Предвыборные статьи Путина, печатавшиеся в ходе последней избирательной кампании, писали очевидно разные люди, даже не бравшие в голову, какое целое из этого пропагандистского ассорти может сложиться. Каждая тема была адресована своему сегменту электората, ее исполнение адаптировалось под пошиб данного издания, знающего свою аудиторию, но вряд ли кто решился бы собрать в одной книге этот коллаж популизма и потуг на интеллектуализм, дежурного западничества и культа изоляционистской «суверенности», имитационного модернизма и махрового консерватизма, уже даже не охранительного, а именно восстановительного, реакционного свойства.
Такие же приключения мы обнаруживаем в постмодернистской семантике политического языка, совершенно отвязанного от означающего. Здесь так же важно видеть специфику этой речи, никак не сводимую, например, к великой лжи сталинской идеологии и пропаганды, легко писавшей прямо противоположное реально существовавшему (дистанция между ними ровно такая же, как между
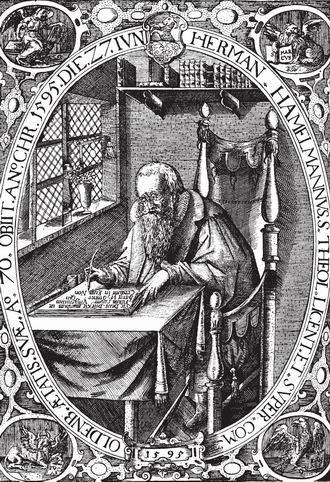
постмодернистской и классической эклектикой). Ложь предполагает веру в обман. Эта ложь также работает в режиме обмана, но никто точно не знает, сколько именно в этом электорате оказывается «честно обманутых» и добросовестно заблуждающихся. Для очень значительной, наиболее продвинутой и достаточно влиятельной части общества эти нагромождения неправды и логической несуразицы более чем очевидны, но можно догадываться, что в эту ложь не верят и те, кто в обычных ситуациях достаточно доверчив и в соцопросах напротив имени Путин уверенно отмечается в графе «доверяю». Никто в здравом уме и трезвой памяти не отнесет всю эту публику к разряду постмодернистов, но похоже, что все они к такому восприятию вполне подготовлены в том числе и общей ситуацией постмодерна, множеством аналогичных контекстов, реализуемых вне политики, в рутинной повседневности.
Точно так же обстоит дело и с особого рода иронией — неотъемлемой частью этого идейно-политического представления. Человек, организовывавший сочинение гимна ЕР, с гордостью делился со мной успехом предприятия: «Все лохи рыдали!». Если вглядеться в контекст наиболее вызывающей путинской саморекламы, то и здесь нельзя не заметить признаков едва прикрытого дуракаваляния, даже не очень легкого пиаровского стеба — и это при том значении, которое имеют (имели) все эти демонстрации неуязвимости тела вождя. Особенно это интересно, когда клиент заявляет, что он сам придумывает все эти полеты и погружения, причем именно как символические акции, призванные «привлечь внимание к...» и т. п. Но не надо думать, что все или даже большинство смотрят на эти публичные упражнения вождя иначе, как на игрища, включая ядерный путинский электорат. Мой друг перед выборами сподобился спросить таксиста, почему тот намерен голосовать за Путина, и получил ответ с такой иронией, что почти и не видно: «Будет кому пожары с самолета тушить».
Политический театр: аудитория без головы
Этот микроэпизод своей двуслойностью воспроизводит гораздо более общую ситуацию с «рациональным» обменом между властью и обществом. Под видом нормально организованной и достоверной действительности публике преподносят нескончаемый спектакль, вечную постановку политического театра, начинающуюся с кадров высочайшего руководства страной в главных новостных программах. По-становочность здесь видна невооруженным глазом, и надо предполагать полное отсутствие мозга у людей, которым все это изо дня в день показывают. Однако можно предположить, что у значительной части зрительской массы присутствует элемент такой же ответной игры, симметричного, зеркального спектакля веры в постановку. Этот катарсис существует только до тех пор, пока в зрительном зале не каплет с потолка, а в буфете не начались перебои с продуктами и выпивкой. Или пока актеры не заигрываются до полной бессознательности и потери контакта с аудиторией. Если убрать все искусственные системы нагнетания или имитации рейтинга, уже сейчас окажется, что положение дел и качество власти вполне рационально оценивают гораздо большие сегменты электората, чем принято думать.
Но вместе с тем готовность массы входить в эти иррациональные игры с властью и временно отключать голову имеет немалое значение в обеспечении стабильности — как социальной, так и личностной. Отключение мозга в таких случаях часто является не патологией, а защитной реакцией. Я долго не мог понять, почему еще один мой друг голосовал за Путина, относясь к тому с тихой ненавистью и будучи человеком совсем не глупым (в прошлом физик, лауреат престижной премии, теперь аналитик крупнейшей компании). Он уверял, что голосовал за стабильность, которая его устраивает, и против заварухи, которой не хочет и честно боится. Поразила неспособность умного человека на простую двуххо-довку: проголосовать против, зная, что тот и так пройдет, но сделав это в воспитательных целях и понимая, что победа с отрывом только обострит проблему перехода к рациональной норме. В итоге человек признал, что додумать столь простую мысль ему мешает неосознанное опасение дикого морального дискомфорта. Иногда проще быть дураком, чем циником.
Тихое помешательство части населения, влюбленной в режим, губящий страну, — особый феномен: отключение мозга, чтобы окончательно не свихнуться и сохранить приемлемый уровень самооценки в ситуации, когда страну «поднимают с колен», лишая будущего.
Полеты во сне
Мифология начинается с личности вождя. Власть вообще неотделима от легенд. Правители пишут в истории свои биографии, будто ушибленные прочитанным в детстве Николаем Куном. Подвиги Геракла мешают спать людям, решившим тоже оставить след в анналах. Но все это работает на массовое сознание, только пока поблизости нет рационального критика, или он есть, но лишен возможности широковещания. Если же появляется хотя бы брешь для рацио, тут же миф начинает работать против клиента. В попытках создать иллюзию как раз и выдают скрываемое. Приукрашенное в автопортрете — прямое указание на комплекс, на вытесняемое бессознательное.
Погружения и полеты говорят о том, что человеку неуютно на земле, что он не чувствует себя своим на этой части суши. Людям вообще свойственно преодолевать свою «недостаточность» (Арнольд Гелен), отличающую человека от прочих высших млекопитающих, но иногда эта компенсация перерастает в претензию на сверхчеловеческое. Человек выныривает с дарами и спускается с небес, совершив очередное чудо укрощения огня и птиц. Это потлач (культура агрессивного дарения) и карго (культ самолетопоклонников) в одном флаконе. В имитации особо оттопыренного спорта, дайвинга или дельтапланеризма (неспортивной имитацией эти упражнения делают гарантии безопасности первого лица), проступает скрытая претензия на богочеловеческое (в смысле античной героики). Но этот фейк Укрощения Стихий тут же попадает под беглый огонь троллей, трикстеров. Герой мифа предстает новым видом организации живой материи — пернатопла-вающим, летающим земноводным в перьях. Между тем в классической дефиниции Аристотеля человек это «двуногое без перьев».
Когда власть так стремительно летит в никуда, без руля и ветрил, «не чуя под собою страны», это травмирует население. Человечество привыкло к сверхскоростям, «футурошок»
Элвина Тоффлера — отработанный испуг. Но когда страну вмиг разворачивает от посулов модернизации и свободы к полицейщине и казачьему фундаментализму, психика начинает ломаться. Возникает солидарное чувство жизни не на земле, а в «акваборее» (А. Ксан), в состоянии, одновременно взвешенном и полупритопленном. В апофеозе стабильности буквально все становится крайне ненадежным — искусственным и ненастоящим. Тело лидера становится манекеном в разнообразных технических устройствах, но такими же манекенами становятся и все наши «населения» (совокупности «живых вещей» в концепции биовласти Мишеля Фуко). Это и участники голосований, результаты которых зависят не от них, а от тел в автобусах «карусели» и в УИКах, и тела протестующих, жестам которых трансляции по ЦТ придают любой смысл, и даже разоблачаемые министры (витринный образец борьбы с коррупцией). Чтобы все это хоть как-то упаковывалось в сознании, необходима атмосфера близости потустороннего. С политической точки зрения пояс Богородицы в храме Христа Спасителя и волшебство Владимира Чурова — звенья одной цепи, разнозначные «миракли».
Отсюда борьба с наукой, с рацио вообще. Проверки эффективности институтов проще объяснить материалистически, ценой квадратного метра зданий. Но есть здесь и дух Нового Чудесного Времени. Россия выбирает особый путь, траекторию прорыва: политика незнания в эпоху экономики знания.
Вера в потусторонний мир, спустившийся на землю, повторяет культ карго: аборигены верили в дары неба, потому что никто из них не видел, чтобы волшебные вещи, завозимые на острова белыми людьми, кто-нибудь когда-нибудь производил. У нас то же: в стране есть все, но никто ничего из этого «всего» не производит. Сырьевое проклятье достает и мозги.
Рацио в самопознании: рефлексия и культ
Обескураживает кризис рациональности... в самопознании общества. Все понимают, что эта реальность так же фиктивна, как неадекватен язык ее описания. Так же видны основные рационализации явлений и процессов, в нашу стандартную логику не укладывающихся, стратегии презентизма и модернизации — осовременивания архаических практик и структур сознания, с которыми мы сталкиваемся в реальности.
Но есть и зеркальная проблема. Иррациональность происходящего не надо преувеличивать, превращая Россию в точный аналог примитивных культур и исследуя эту реальность в духе «внутренних колонизаторов». Теперь модно любое подражательное, чисто внешнее заимствование описывать через «культ карго». Этим магическим верованиям уподобляют все, начиная с имитации права в политике и заканчивая детским курением, гламуром взрослых и даже псевдонаукой в интерпретации Ричарда Фейнмана. Карго уже такой же поверхностный хит, как и «стационарный бандит»; на эти блесткие концепты у нас бросаются, как папуасы на бусы.
Напомню: «карго» — это божественный груз. Первые верования возникли к концу XIX века на океанических островах, жители которых вдруг увидели людей, сошедших с кораблей с волшебными предметами явно божественного происхождения. Но чаще имеют в виду Меланезию периода Второй мировой. Американцы, обидевшись на Японию за Гавайи, понастроили на островах военных баз и навезли туда тонны волшебной техники и еды. Аборигены восприняли все это как дары с неба, адресованные им, но незаконно присвоенные белыми. Когда же джедаи из джи-ай, выполнив свою миссию, ретировались в Штаты, местное население построило самолеты и аэродромы из прутиков и соломы и стало маршировать, украсив голые торсы нарисованными прямо на коже погонами, орденами, пуговицами и сакральными эмблемами «USA». Чем дали незабываемый пример имитации отечественным политикам и политологам, научив их принимать на нашей туземной почве технику западной демократии без понимания природы ее производства.
Однако проблему карго у нас при этом не сняли, а удвоили. Концепт карго был заимствован так же некритично, как и политические модели, уподобляющие нас самолетопоклонникам. В итоге мы получили «карго в квадрате». В этой картине мира наш политический ландшафт видится сплошь заставленным муляжами. Те же взлетные полосы из дерева, радиовышки из бамбука и точная имитация сигналов посадки... чистому небу. И ожидание чуда от исполнения на православной земле чужих политических ритуалов. Все это уже описано как карго-культ от отечественного производителя и засмеяно до дыр. Но критика имитации сама стала культом со своими адептами без рефлексии.
Запад тоже начинал открытие культа карго с антропологического высокомерия, с понимания предмета как отклонения от нормы, начиная с именования этих культов (например, «безумство Вайлала»). Однако такое отношение к предмету довольно скоро было оценено как проявление колониальной антропологии. Строго говоря, и у аборигенов есть своя рациональность, и у белых людей хватает имитаций и магии. С концом модерна стало ясно, что здесь все относительно и исторично: вопрос пропорций и времени. Есть своя продуктивность в представлении наших реалий как особого рода российского карго, начиная с политсистемы и заканчивая Сколково, Роснано, олимпиадой и кремлевским айфоном. Однако научная рефлексия видит здесь не только детский культ, но и взрослое рацио. Если островам в океане перепадают лишь парашюты с гуманитарной помощью и ящики с погибших кораблей, то у нас с бюджетного неба сыплется настоящий золотой дождь, хорошо организованный и строго канализированный.
Есть и гибриды (не путать с Гебридами, где чистое карго). Теперь у чиновников при науке слепой культ индексов цитирования, импакт-факторов и прочей библиометрии. Метод отчасти работает при оценке результативности в точных науках и естествознании, но это классическое карго в отношении нашего социально-политического и гуманитарного знания. Здесь «магия цифр» не привлекает блага, а нужна для их урезания — хотя бы и ценой дискредитации родной науки в обществе и мире.
Эта гибридность интереснее и продуктивнее, чем простое подведение отечественных реалий под чистое карго. При ближайшем рассмотрении оказывается, что наша действительность одновременно и не вполне «как у белых», но и не чистая имитация. Скорее это сросток того и другого. Магия с элементами реального и техника с элементами магии. Натуральное и имитационное (металл и солома) сопряжены здесь хитрейшим образом. В каком-то смысле это даже «карго наоборот». Там железные самолеты улетели, и вместо них построили бамбуковые, чтобы снова прилетели железные. У нас же сама власть методично отрезает от остатков самолета и без того дефицитные железные части, меняя их на соломенные — чтобы никто никуда не летал и лишнего не приманивал. Недострой завершают... до состояния макета.
Однако без победившего изоляционизма такая мифология если и работает, то лишь частично: людей заставляют верить в самолеты из соломы, когда кругом летают настоящие и с грузом. В результате власть продлевает агонию, но в условиях недобитой рациональности становится все менее легитимной.
II. РАЦИО И ЛЕГИТИМНОСТЬ
Последнее прибежище
Стремительная смена способов легитимации — процесс сам по себе неординарный и свидетельствующий о крайней нестабильности режима. Но похоже, у нас теперь вынужденно делают ставку на форму легитимации, наиболее далекую от рациональности.
Итог года: все изменилось, но в целом никуда не сдвинулось. Общество шагнуло вперед, попятилось, власть с перепугу пообещала, естественно, обманула, а теперь мечется в судорогах реакции. Закручивание гаек сводится на нет срывами резьбы; протест ходит кругами — ищет новые форматы. В энергичных пробуксовках и топтании на месте вконец стирается тонкий слой несущей поверхности, пока еще удерживающей всю эту суету над темным провалом. Уже ясно, что выход из ситуации сложнее, чем казалось, и точно не в горизонте обыденного понимания.
В моменты нестабильности, на сквозном транзите, особенно важен адекватный язык описания. Тем более в стране, в политической фактуре которой всё сплошные имитации и обманки, а слова и вещи друг с другом как неродные. Однако ураганное перерождение режима затронуло такие глубины, что взывает к темам, которые пока вообще вне языка, к предметам, сразу не видимым и почти не обсуждаемым, а значит, «непромысливаемым». В политическом своя архитектоника: помимо конструкции власти есть природа полей и сил, которые эту конструкцию держат. Это как разница между основами конструирования и теорией гравитации. Или первотолчка.
Главный вопрос политики уже сейчас вовсе из другого измерения, и звучит он вызывающе резко:
а, собственно, по какому праву здесь вообще правят? Не именно эти, но и все, кто был до них и придет после. Только кажется, будто в этой логике отношений все известно и понятно, что менять. Если «государство» здесь так регулярно и легко делают инструментом перехвата личной власти, общих ресурсов, чужих судеб и жизней, значит, мало этот инструмент по-разному затачивать и передавать из рук в руки, даже если эти руки с каждым разом все чище, головы все горячее, а сердца как лед.
Более того, здесь мало даже затертых сентенций про то, что надо менять не фигурантов, а систему. Речь уже не о качестве легальности, но о самой природе легитимного. Это тоже «вертикаль» — вертикаль признания и захвата, но не организационная, а сущностная. Обнаружив, что вождь не вечен и что у Путина тоже есть спина, не защищенная от травм и друзей, народ всерьез озадачился будущим. Повестка усложнилась на порядок: как из этого загона не просто выйти, но так, чтобы более не возвращаться туда же, откуда только что с ужасными мучениями выбрались. Люди открыли сундук власти, увидели в нем привычные политические «вещи» и собрались их перетряхнуть: что-то выбросить, заменить, подлатать и пересыпать порошком от деспотизма. Но стоит задуматься о том, почему все прошлые ревизии этого барахла и освежающие процедуры до сих пор не дали надежных, устойчивых результатов, как тут же открывается еще один слой, а там второе дно, под ним еще одно, такое же ложное... Когда же по соседству шкаф с книгами по философии политики и государства, этот сундук и вовсе превращается в бездонный колодец, только сверху прикрытый «realpoUtik», но в глубине скрывающий микрофизику власти и ее метафизику. Там сплошь нерешенные и даже не поставленные вопросы — а значит, и место ненайденных и потерянных ответов, необходимых для выхода из тупика, но у поверхности не встречающихся.
Заглядывать в этот колодец опасно: он засасывает с дикой скоростью и силой, как нора Алису. За последнее время Россия успела последовательно и с равным успехом перепробовать в разных дозах и с разными акцентами едва ли не все известные обоснования отношений господства и подчинения — трансцендентальные и сакральные, идеологические и социально-психологические, прагматические, операционально-технологические и пр., включая банально-силовые. Мы, будто в съемке рапидом, упаковали в эту четверть века едва ли не всю мировую историю политики и почти полный комплект теорий власти с соответствующими им моделями отношений и конструкциями государственности. У Гегеля это называется «совпадением исторического и логического»; в нашей хронике логика смены режимов и реализуемых теорий чуть хромает, но это лишь подтверждает правило. И лишний раз снимает иллюзию, будто с начала 1990-х и до настоящего времени тип властвования был у нас хотя бы примерно один.
Когда святые маршируют
Патриотизм — не последнее прибежище негодяев. Еще есть утилизация религии в оперативной политике. Для наших это прибежище последнее еще и по времени: главный тренд 2012 года. Богоданное самодержавие у нас, похоже, до сих пор вспоминают с вожделением. Однако в XXI веке в странах, хоть как-то переживших модерн, за трансцендентное и сакральное хватаются, когда другого не остается. Помазанник и династия (хотя бы и не родовая, а через политическую «фамилию») в России в натуральном виде уже заведомо нереальны, но братание с патриархом создает узнаваемый фон. Плюс праздничные стояния, братский дележ добычи от аннексий и контрибуций в захваченной стране, он же обмен дарами, символическими и не очень, Земли, памятники архитектуры и произведения искусства в обмен на брутальную и безоговорочную политическую поддержку. Надо додумать, почему этот доисторический обмен дарами (потлач) не есть простое светское коррумпирование в духе нашего бессовестного времени.
В политику и право пытаются всерьез ввести понятие «покушение на святое». Кто оно, это святое, показала расправа с панк-молитвенницами в ХХС. Если бы не столь адресная, персонифицированная просьба к Богородице, такого скандала не было бы даже близко. В итоге — интереснейшее сращивание светского закона, церковных норм и политики во всем ее неподражаемом цинизме. В светском процессе на равных участвуют ссылки на 213 статью УК РФ и 62-е и 75-е правила Трулль-ского собора, а за кадром стоит Некто Невидимый, но земного происхождения. «Попрание святыни» — ровно про него. Более того, это было кощунство не просто сакральное или политическое, а задевшее именно «симфонию» власти и церкви.
Все это слабый отблеск того, что происходило в Средние века, когда священная власть пыталась опираться на светское право, которому тоже приписывалось сакральное происхождение, но уже через суверена. Тогда это было связано с борьбой за инвеституру (право назначений) — здесь также утверждается власть над «вертикалью». Поскольку и сейчас подлинное происхождение главных законодательных инициатив очевидно, наш президент тоже является, по сути, lex animate — «воплощением юстиции».
Более того, это почти пародийный вариант модели «двух тел короля», которую детально исследовал Эрнст Канторович. Согласно абсолютистской версии у короля есть обычное тело, бренное и подверженное всем человеческим слабостям и недугам, — и тело мистическое, вечное, как земное инобытие Христа. Средневековые юристы прямо называли эти два тела «естественным» и «политическим» — «подставка под корону» (Фуко). Трагизм этой связи показал Шекспир на судьбе Ричарда II. Образ бессмертной власти постепенно сходит на нет. «Образ короля, который "никогда не умирает", вытесняется образом короля смертного. Ричард II более не воплощает мистическое тело своих подданных и английской нации <...> "Естественное тело" короля предает свое "политическое тело". Власть короля оказывается призрачной, перед читателем лишь бессильная плоть»[1] .
В нашем случае видна неосмысленная попытка воспроизвести этот образ вечной сущности навязчивой демонстрацией тела Путина — неуязвимого, защищенного от любых недугов, свободно перемещающегося в любых средах, погружающегося и взлетающего, усиленного могучими техническими и биологическими протезами, будь то лошадь или аэроплан. Оттон II (классика художественной сакрализации единовластия) тоже парил между небом и землей, но не в телевизоре, а в живописи.

Образ «пожизненной вечности» (на прямое бессмертие пока у нас не покушались) вербально выражен в излюбленном девизе деспота: «Не дождетесь!», имеющем как биологический, так и политический смысл. Если бы это понимали сразу, иллюзий бы было меньше, а «рокировку» предсказали бы задолго до. И видели бы, какое политическое и почти мистическое значение имеет проблема путинской спины, как она ломает образ, портит харизму и сколько крамольных мыслей будит во всех окружениях и массах эта постсоветская шекспириада.
К мифу физической, биологической и политической неуязвимости добавляется мотив безгрешия. Когда церковь заявляет о своей полной (и якобы традиционной) лояльности власти, она тем самым освящает все, что эта власть делает (хотя такие ссылки явно противоречат великой истории страдания и гонений). Эта власть грешит смертно, безоглядно и напропалую, но неизменно получает индульгенцию (раз сами хранители святости не только не объявляют ее преступной, но и вообще не видят пятен на этом президенте-солнце). Однако суммарный эффект здесь скорее обратный: из иконы «отца нации» получается недружеский шарж, карикатура в духе картунизма — последнего штриха постмодерна. При этом сам иерархат своим неумеренным подобострастием и стяжательством все более опускается в глазах даже воцерковленных и клира. Еще одна жертва Мидаса: у всего, к чему эта власть по делу прикасается, добавляется золота, но отрастают уши.
Эти же милые детальки торчат из проекта воцерковления школы. Превращение религиозного образования из факультативного в обязательное способствует формированию поколений, обученных верить и не выступать. Здесь ищут сознания не праведного, а воспитанного в послушании — внушаемого и некритичного. Но при этом не учитывают, что такая «религия спасения» нынешнего режима уже опоздала. При набранной скорости развала здесь с «новым народом» элементарно не успеть: назад в рабство его придется лет сорок водить задом наперед по пустыне, которую еще нужно умудриться создать в накормленной стране с мобильниками. Кроме того, забывают, что люди именно с таким сознанием сначала «слушают и повинуются», а потом так же неожиданно восстают, слепо свергают и рвут на части — ровно как в перепугавших нашу власть революциях Востока. С темным населением протянуть можно дольше, но конец будет ужаснее.
Все эти попытки хоть где-то схватить ускользающую легитимность говорят о состоянии и самоощущении власти. Так раньше укрывались в соборах и бежали в монастыри. Но и здесь есть свои риски. Для истинно верующих правда может оказаться более священной, чем лояльность. Интересно: если бы все школьные учителя свято веровали во Христа, что творилось бы на участковых комиссиях в школах? Может быть, проблема наших избирательных технологий еще и в почти повальном атеизме шкрабов?
Беда еще и в том, что ничего не вышло из «нашистов». А вот из пары сотен фанатиков можно сколотить ополчение, которое будет решать проблемы там, где самой власти действовать не с руки. Однако и этот опыт пока выходит боком, как с правоверным казачеством, заточенным против кощунств, но почему-то двинувшимся сразу к ларькам...
Избранники и их выборы
До этих отчаянных попыток освятить власть «харизмой в окладе» (А. Ксан) ее легитимность спокойно удерживалась рейтингом: а) подавляющим и б) тефлоновым. Люди упорно закрывали глаза на воровство, управленческую дурь и чудеса избирательных кампаний, кратно превышавшие шалости второго избрания Ельцина. Практически до осени 2011 года очевидно нелегальное в действиях власти не подрывало ее «легитимности de facto» до уровня открытого непризнания и установки на снос. Усилия по сакрализации фигуры вождя резко активизировались именно после падения рейтингов, рокировки и дискредитации проекта тандема как местоблюстительства. Окончательно курс на новую политическую религиозность был взят после скандала на выборах и взрыва протеста, которому ничего рационального уже не противопоставить.
На выборах конвертировать остатки рейтинга в легитимность не удалось прежде всего из-за установки на победу триумфально-харизматическую и сокрушительную (хотя крушить было некого). С точки зрения простой формальной законосообразности это именно провал: фальсификат в декабре был очевиден, его и отрицали-то вяло. Но когда даже вопиющие факты демонстративно проигнорировали, вообще отказавшись всерьез что-либо анализировать и расследовать, эта детская игра мускулами сделала юридически и по-человечески ничтожным засевшее в Думе «большинство», все принятые им людоедские законы, а значит и status quo в политике (даже если бы эти акты не противоречили Конституции).
Выборы президента были несколько «чище» (если не считать выжигания конкуренции, захвата телевидения и нового поколения махинаций, хотя и в чуть меньших масштабах), но и здесь все обесценивается отказом расследовать вопиющие нарушения. Когда спортсмена ловят на допинге, хотя бы и ничтожно слабом, результат аннулируют, даже если бы он «и так бы победил» (на этом фоне медведевская упертость с нулевым промилле была бы в политике особенно к месту). Если же уличают в сговоре, подкупе, запугивании и давлении на судейство, человека дисквалифицируют пожизненно. Счет российской власти за «неспортивное поведение» в любой момент могут предъявить (и предъявят!), «охранители» это понимают, а потому пытаются всю линию легитимации власти через процедуру избрания увести на задний план и оперативно влить близость к церкви в подорванную легитимность. Умом этих людей не избрать, в их избранность остается просто верить — если кто на это вообще способен.
Политическая эзотерика
Эпопее выборов 2011—2012 годов предшествовал этап акцентированной легитимации власти через Особое Знание и таинство государственного интереса (классический ragion di Stato, raison d'Etat ets.). Плюс мобилизационный проект: долгая песнь о модернизации.
Накануне сдачи президентского кресла на временное хранение случился взрыв активности в сфере стратегического планирования. Стратегии развития страны написали все. Венчал дело «План Путина» — идеологический «стелс», которого никто не видел и который пролетел над оторопевшей страной, как фанера над Парижем. Это был не просто жест, указывавший, кто реально остается у кормила и кормушки. Мегапроекты были и ранее, были даже заходы на институциональные реформы, необходимые для «снятия с иглы» и «смены вектора» (административная, техрегулирование). Этот модернизационный порыв (хотя бы и чисто вербальный) составлял основу договора власти с продвинутой частью общества, но за кадром обосновывал и нечто большее: монопольное право суверена (в макиавеллианской терминологии «государя», «князя») на небрежение законом, на любой цинизм, насилие, коварство и тотальный обман. Это право, согласно учению, обусловлено доступным суверену исключительным знанием ситуации, никому более не ведомым пониманием общего интереса, потребностей государства, путей правильного движения в истории.Однако проверенный ход здесь оказался ловушкой. Это же Путин говорил на Госсовете про необходимость смены модели и вектора развития: мы «ставим под вопрос само существование страны». Однако десять лет все знать и ничего не делать, играть в модерн и не сдвинуться ни на шаг — тактика гиблая. Теперь любые проектные высказывания власти вызывают лишь злобную усмешку и произносятся через силу, только с ненормальной, утрированной артикуляцией, с театральными децибелами. Читка Послания-2012 это показала во всех видах: заезженные формулы приходилось раскрашивать мимикой на грани подмигивания и форсировать, чтобы это не выглядело вялым повторением одного и того же. Последняя пресс-конференция суверена и вовсе добила формат демонстрации эпического полотна «знает все» — уход от прямых вопросов создал совершенно другой образ: либо вовсе не в курсе, либо просто не знает, что отвечать и делать.
Полицмейстер счастья
С момента воцарения Путина система власти приобретала все более отчетливые признаки того, что в теории называют «полицейским государством общего блага». Государство пытается стать всепроникающим, затрагивает все сферы жизни и втягивает их в свой универсальный порядок. Политика, как показал Александр Ф. Филиппов, уже не в теории, а в оперативной работе строится на шмиттовской дихотомии «друг/враг», по этой версии как раз и конституирующей собственно политическое. И не как-нибудь, а как положено в теории: именно в обстановке нагнетаемой чрезвычайщины и с установкой на уничтожение. В итоге, как и велит эта славная наука, полиция пытается исключить политику — для государства политика остается только внешней.
Страна большей частью это приемлет в обмен на некоторые ошметки, а еще более на посулы «общего блага» (что и вовсе органично для распределительной экономики и ресурсного социума). Иначе и проще это называют «порядок и хлеб в обмен на послушание» (слепая лояльность за минимальные гарантии). Врага изолируют или загоняют в медийные резервации, но не уничтожают в силу внутренних противоречий и международных обязательств. Когда же оппозиция выходит на улицу, ее с испугу и второпях объявляют «лучшими людьми», но потом быстро переводят в категорию врагов, причем врагов якобы не личных, а страны в целом (иностранные агенты). Слова «враг государства» еще не произносятся, но уже подразумеваются. Власть сама развязывает в стране войну (еще холодную, но уже гражданскую) и при этом изображает гражданскую войну как внешнюю, клеймя правозащитника-супостата иностранным агентом. Тем самым она заносит государственные границы внутрь, перерезает границами тело самой страны (Москва для власти, как Западный Берлин в ГДР: приходится опустошать трассы на инаугурацию, возводить оборонительные укрепления вокруг Старой площади и устраивать мобильную фортификацию в мирном городе против граждан с шариками). Впору обновить лозунг Ленина столетней давности (превращения империалистической войны в гражданскую) и провозгласить идею превращения гражданской войны в отечественную.
Однако поскольку в нашем положении полицейское государство никак не может уничтожить политику как таковую, тем более в преддверии социальных осложнений, оно не просто делает внутреннюю политику как бы внешней, творчески осваивая учение старика Карла Шмитта, величайшего политического философа и теоретически честного идеолога нацизма. Понимая, что ставшее привычным общее благо уже в обозримой перспективе под вопросом (вплоть до пенсий), полицейское государство превентивно выносит политику и вовсе за океан (Россия как жандарм Америки по правам человека). Гражданскую войну превращают в отечественную, а отечественную — в мировую.
Миротворец (Левиафан)
Этот политический милитаризм имеет и более давние корни — более глубокие, но менее выраженные. Путина упорно представляют человеком, обуздавшим стихию Гоббса в России — прекратившим «войну всех против всех», якобы раздиравшую страну все 1990-е годы. Тем самым эксплуатируется (чаще не вполне осознанно) еще один классический мотив объяснения, откуда и зачем в этом мире берется власть.
Действительно, такая диффузная война в известных пределах была, но ее держало в рамках и ельцинское государство. И если бы сейчас были прилюдно вскрыты все преступления путинского периода, связанные с широкозахватным переделом всего, 1990-е показались бы тихой гаванью любви и ненасилия. Путин совершил другое: он сделал приватизированное государство инструментом передела ресурсов и прямым участником этой войны, одной из ее сторон, интенсифицировав ее до предела, но скрытно. И «победил», но не войну, а своих противников в этой войне, как в экономике, так и в политике. При Ельцине большие деньги вмешивались в большую политику — Путин с этим отнюдь не покончил, он лишь оставил это право за собой, и только за собой. Ельцин «расстрелял» парламент, но парламент после этого в России остался и даже стал более парламентом, чем съезд, который разогнали. Путин обошелся без танков на мосту, но с его приходом парламента в России не стало вовсе.
Путин обеспечил социальный мир весьма оригинальным способом: он загнал дерущихся бульдогов под ковер и там одних передушил, других запугал до диареи, а потом сам воссел на этой ароматной куче. В итоге славной победы образовалась единовременная добыча и регулярная дань. Это позволило купить избранные силовые структуры, политический класс, творческую интеллигенцию, а в итоге и «народ», впервые за долгое время опять вспомнивший вкус минимальных гарантий, растущих потребностей и подарков от власти, закупаемых на средства из своего же, народного, кармана.
Это последнее обстоятельство портит картину. За кадром не только тот, кто распределяет, но также то, как он это делает, а главное, чье достояние раздаривает в обмен на лояльность. Изящная схема: выстроить машину одурманивания и подавления на деньги самих подавляемых и одурманиваемых.
Однако здесь возможна и более мягкая интерпретация. Можно считать, что ресурс сырьевого экспорта до этого времени, а именно на момент захвата, вовсе не принадлежал никому. После распада СССР страна на какой-то момент сжалась не до границ РФ, а до условной точки небытия — и тут же начала форсированный бросок внутренней колонизации, о которой проникновенно писали такие мыслители, как Василий Ключевский, Сергей Соловьев и Александр Эткинд. Во всяком случае в этой логике люди, захватившие главные ресурсы сырьевых продаж, искренне считают, что они не отбирали чужое и общее, а подобрали то, что валялось, почти как валявшуюся под ногами власть. Но поскольку от электората здесь все еще многое зависит, это полотно легко выворачивается наизнанку. Эта власть захватила страну, как Чечню: победитель платит дань побежденному. Так же и с народом, с оккупированной страной: если не платить побежденному народу дань, «победителя» быстро вынесут из Кремля, хорошо если не вперед ногами.
Такое умиротворение может быть стабильным только на кладбище. В живом обществе это рано или поздно вызывает протест, которому государство-Левиафан объявляет войну на поражение, и т. д. и т. п.
Надо помнить библейский образ этого чудовища: «И перед ним бежит ужас <...> Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов <...> Он царь над всеми сынами гордости» (Иов 41:14—26). Все так, у нас этот Левиафан уже точно с мордой крокодила. Только в нашем случае впереди него бежит не ужас, а задорный, заливистый хохот пополам с отвращением.
Стационарный гастролер
Теория, рассматривающая государство в качестве «стационарного бандита», в последнее время получила особую популярность. Она наглядна, убедительна, а главное, в строго научном формате ярко и адекватно выражает эмоциональное отношение обывателя к власти — именно к этой власти и к власти как таковой. Это, впрочем, относится и к отъявленным путинистам: как бы они ни стелились под национального лидера, даже в их среде мало кто отрицает откровенно бандитские наклонности этой корявой, вконец расшатанной и косорукой «вертикали». Страдают все.
В публицистический оборот эти идеи и термины институциональной экономики были запущены недавно, однако реалии такого рода отношений в явной форме отрабатываются в России как минимум уже третий десяток лет (советский период сюда тоже изящно подверстывается, но это увело бы нас далеко от основной темы).
Действительно, концепт «бандита» в публицистике и быту чаще используют как изысканное ругательство, хотя по МакГиру — Олсону именно оседлый бандит, в отличие от гастролера, грабящего дочиста (чтобы не осталось конкуренту по грабежу и не позволило ему усилиться), не просто монополизирует насилие, но включает в калькуляцию будущее: дисконтирует поборы и производит общественное благо, обеспечивая расширенное воспроизводство и максимизируя тем самым свой доход во времени. Грабеж становится цивилизованным и легальным, а главное, более эффективным и прибыльным для крестного отца и для его клиентеллы, каковой в итоге оказывается все общество, защищенное и управляемое.
Согласно этой версии базовой концепции власти государство возникает в результате первоначального захвата, когда один из бандитов оказывается в состоянии подавить остальных и меняет тактику набегов на оседлое доение захваченной территории. В этот момент все меняется. Экономометрия строит сложные математические модели такой оптимизации — в концепции стационарного бандита действительно математики больше, чем эффектных рассуждений политизированного свойства. Однако это не меняет морального модуса описываемых отношений: оказывая гражданам множество публичных услуг, такое государство откармливает население как тягловый и дойный скот. В перспективе войны это еще и своего рода мясное животноводство.
Мирное население обычно воспринимает такое покровительство спокойно, как в анекдоте: «Меня вчера маньяк изнасиловал. — Сексуальный? — Да так, не очень...». Все же большинство людей не склонны или вовсе не способны защищать себя с оружием в руках, а потому сдаются на милость победителю, ибо он все равно так или иначе объявится. Главное, чтобы он не был хотя бы людоедом.
Идеологи и харизматы
На высшую политическую орбиту Путин был вытолкнут силой личной популярности — тогда за него все же проголосовали. Можно иметь разные мнения по поводу того, каким образом взрывались дома в самый подходящий момент, но важнее другое: эта мускулистая популярность нагнеталась прежде всего расслабленным фоном, который создал сам Ельцин. Это была популярность «от противного» (Путин как не-Ельцин). Сам кандидат на тот момент был типичным «who is?», но уже существовала атмосфера ожидания чего-то дееспособного. В первый момент все держалось на антихаризме позднего Ельцина и отнюдь не титанической способности себя ей противопоставить, даже в качестве назначенного преемника.
В этом смысле очень точно сработала сама этимология слова «харизма»: древнегреческое харюда означает «милость, дар» (естественно, свыше). Стартовую популярность Путину именно подарили.
Но можно ли было в тот момент сразу говорить о харизме в строгом смысле слова, а именно о наличии у фигуранта таких качеств, которые обеспечивают ему преклонение, безоговорочное доверие и признание его неограниченных или хотя бы сверхординарных возможностей? Очевидно, нет. Это был дар, но не «свыше», а от предшественника; это была милость, но не потусторонняя, а совершенно земная — обычный расчетливый выбор из комплекта претендентов, к тому же на заранее оговоренных условиях.
Далее популярность укреплялась, но опять же на основе, не вполне собственной. Есть достаточно свидетельств тому, что и социально-экономическая стабилизация, и снятие наиболее острой ситуации в Чечне с основой для начального умиротворения — все это было либо подготовлено еще в ельцинский период, либо даже имело место при позднем Ельцине. Поэтому миф о том, что Путин «пришел и сделал», несостоятелен: Путин, конечно, немало развил, но развил то, что сначала пропагандистски присвоил. Ему в этом не мешали, чтобы не портить игру преемнику: в даре был элемент жертвы.
Далее стали появляться элементы харизмы в собственном смысле слова, причем часть из них основывалась на пассиве и воздействовала на прикормленное «болото», а часть держалась на реформаторском активе и влияла на значительную часть либерально-демократической общественности. Достаточно вспомнить, что именно при раннем Путине были предприняты неслабые попытки запустить институциональные реформы, жизненно необходимые для обуздания административного прессинга и распределительной экономики, откровенно гробившей остатки инициативы и производства. Правда, лично он всего лишь «не мешал», но этого было достаточно: курс был обозначен и в нужные моменты с главной трибуны звучали слова о том, что «в наши планы не входит передача страны в руки некомпетентной, коррумпированной бюрократии». Сейчас об этом вовсе забыли, хотя что тут скажешь — сам виноват. Можно представить себе гомерическую реакцию всех, если бы такую боевитую фразу Путин вдруг произнес в своем последнем Послании. Или если бы он вдруг еще раз сообщил нам, что инерционным сценарием «мы ставим под вопрос само существование страны».
И тогда же зазвучало слово «сценичен». Хотя ничего особенного в этом актерстве не было, но, видно, очень всем хотелось. Поэтому не обращали внимания на то, что каким-то волшебным образом никого тоже сценичного даже из своих и близко не появляется. Это тоже «харизма от противного»: Ельцин создал для Путина фон — Путин фон вокруг себя просто выжег.
И наконец, важнейший атрибут подлинной харизмы — святая вера в непогрешимость. Или, как говорили древние, «тефлон». Как известно, вождь не может ошибаться, даже в мелочах — ни в чем! Здесь важно признать, что за все время правления в адрес вождя не было высказано ни одного мало-мальски критического замечания ни со стороны своих, ни в хотя бы одном из СМИ, причисленных к разряду командных высот информационной политики и пропаганды. Ни од-но-го! И в самом деле, зачем тефлон, если на сковороде вообще ничего не жарить? Поэтому миф о том, что ничего не пристает, — сказка в чистом виде. Несколько острых эфиров — и все тут же пристало бы, как жвачка к кошке, отдираемая, как известно, только с визгом.
Теперь от этого почти святого ничего не осталось, защитное покрытие осыпается вместе с остатками харизмы. Попытки после более чем сомнительных и очевидно оспариваемых выборов выйти на харизматическую доминацию проваливаются раз за разом. Год назад раздался шокирующий свист в борцовском зале — теперь вождя практически освистали на «карманной» пресс-конференции с антисиротским законом... Сковороды с испорченным покрытием хозяйки обычно выбрасывают: там что-то особо вредное образуется.
Однако осталась еще «внутренняя харизма»: для себя и для своих. Для себя, чтобы самому держать тонус; для своих, чтобы держать в тонусе окружение, неизбежно рано или поздно задумывающееся о подушках и табакерках (в переносном смысле). Отсюда кажущаяся абсурдной упертость в самых провальных начинаниях, явно вредящая и делу партии, и самому харизмату. Эта поза называется «лучше не связываться». Но и это до поры, потом только хуже.
О харизме Ельцина разговор особый и непростой. Она тоже начиналась с обычной популярности, которую в строгом смысле можно назвать даже дешевой, то есть популистской. Тогда, конечно, многое назревало по всей стране — достаточно почитать протоколы заседаний Политбюро, беспомощные и близкие к паническим. Однако подлинную харизму Ельцину сделал ГКЧП, а еще раньше — само руководство КПСС, блестяще наловчившееся собственными руками взращивать вождей оппозиции. Но далее эта харизма вырисовывается очень пунктирно и проявляется лишь в откровенно чрезвычайных ситуациях, в таких, как с Указом № 1400.
Это обстоятельство принципиально: в регулярном режиме не работали две из трех моделей легитимности, описанных Максом Вебером. Не было харизматического лидера, который бы собирал своей политической мощью повседневность (Егор Гайдар этого не умел, этим не занимался, о чем потом очень жалел, а Геннадий Бурбулис играл роль теневого идеолога, что, естественно, тоже к харизме отношения не имеет). Но не было и той легитимности, которая задается традицией, отношением к власти как к данности, которая была и будет. Можно по-разному относиться к краху КПСС и СССР, но постсоветский народ своими глазами только что наблюдал власть, буквально валявшуюся в пыли, а потому с дозированием пиетета перед государством у него все было в порядке. Да и сейчас, надо полагать, от подавленности византизмом не осталось бы и следа, если бы не тотальная оккупация властью телевидения и центральной прессы.
Остается признать, что тогда сработал единственный из остававшихся в вебе-ровском списке способов легитимации — через рациональное, осмысленное и ответственное признание власти, получившей мандат, пройдя через формализованные и регулярные процедуры ротации. Сейчас это кажется маниловщиной, но до 1996 года ровно так оно и было, даже с учетом фактического переучреждения государства в 1993 году. А чтобы понять основу легитимности 1996 года, необходимо обратиться к первому, базовому этапу становления Российской Федерации.
Решающее событие страна пережила в самом начале 1990-х: она прошла точку небытия и момент учреждения новой государственности, причем даже с отцом-основателем, патриархом семейства. Известно, что такие учредительные акты, как правило, не проходят без идеологии как светской религии (в каких бы формах эта идеология ни являлась). Это может показаться не имеющим к нам никакого отношения. Но все оказывается и здесь гораздо более стандартным, если не питать иллюзий по поводу деидеологизации и понимать, что антикоммунизм и критика засилья идеологии сами до предела идеологичны. Просто здесь мы выходим на уровень метаидеологии — идеологических, точнее идеологизированных высказываний об идеологии как о предмете и явлении социально-политической жизни. Вечный Рудин с его неосторожным высказыванием о том, что у него нет никаких убеждений. Например, можно допустить, что одной из ключевых в учреждении нового государства была идея департизации. Именно она консолидировала всю энергию ненависти к самоназначенной элите, погрязшей в присвоенных привилегиях. А Партия и идеология — две вещи нераздельные.
Путинские идеологи и политтехнологи этого урока не учли. Они пошли по пути создания доминирующей мегапартии, но без идеологии, а главное, без более или менее понятного политического врага. О возможности такой ошибки предупреждал уже 1996 год. После учреждения РФ пафос антикоммунизма и идеология деидеологизации утратили энергию буквально за два-три года. Поэтому в момент переизбрания Ельцина на второй срок понадобилась скоропостижная возгонка все того же антикоммунизма. Она удалась, поскольку историческая память была еще горяча, а угроза реставрации была реальной, к тому же под весьма архаичными и даже кровожадными лозунгами. И тогда, при всей сомнительной легальности победы, легитимность власти была сохранена: никто не вышел защищать коммунистов, у которых якобы на глазах у всех украли победу. Да и сами они не дернулись по вполне понятным, хотя и пикантным причинам.
Теперь такого врага у центральной власти нет. Его на ходу изобретают, транслируя в массы мифологему об угрозе цветной революции, то есть пугая народ своим же испугом. И хотя новой национальной идеей Старая площадь без толку бредит до сих пор, дело это заранее обречено: никакой новой легитимности, кроме восстановления элементарной легальности, в действиях власти на этой почве уже не придумаешь. Как и восстановления конституционности (в чем нынешний протест удивительным образом совпадает с выкриками первых советских диссидентов).
Это так просто и так мало: обеспечить регулярную и законосообразную ротацию власти всех уровней. Или хотя бы для начала только президентской. Но это так мучительно для режима и так много значило бы для начала движения из политического, а там и из исторического тупика! Для этого всего лишь надо освободить ЦТ, убрать с улиц ВВ и пустить общественный контроль в ЦИК. Другой легитимности в ближайшее время в отечестве нашем не предвидится.
Грустная история: остатки рациональной легитимации обрушены, а остальное уже практически не работает. Власть зависает в разреженном воздухе сомнительной легитимности. Не остается ни одной теории, которая могла бы обосновать право этих людей риторически конструировать «большинство», а затем болтать и действовать от его имени.
Но и саму власть нельзя рассматривать в логике попсы: эй, вы там, наверху! Власть диффузна, проникает во все поры отношений и повседневности. В играх легитимации общество активно и часто само подталкивает власть на политическую экзотику.
Тем не менее всему есть предел. Последние шаги российской власти не просто иррациональны: они вредны даже с точки зрения интересов самой власти и самосохранения режима. Вопиющий абсурд есть демонстрация непреклонной воли, пусть даже сумасбродной. Такое бывает, когда спасать приходится уже не только режим, но и себя в режиме. В таких случаях все решает остаточный ресурс рациональности у людей, еще способных принимать здравые решения.