Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Ген веры
Беседа[1] социолога Ханса Йоаса[2] с историком религии Робертом Беллой
Ханс Йоас: Ваша недавняя книга, «Религия в человеческой эволюции: от палеолита до осевого времени»[3], если я правильно понял ее суть, представляет собой историю религии на ранних стадиях ее существования и при этом направлена против основанной на биологии критике религии и вообще против триумфального превознесения западной модели человека. Главным в Вашем понимании религии является трактовка ее как своеобразного комплекса, включающего различные формы человеческого опыта, символы, ритуалы и мифы. Вы также стремитесь показать, как возникли в Древнем Израиле, Индии и Китае те традиции, которые остаются плодотворными и по сей день. Если Вы не против, вот от этих общих характеристик Вашего труда я и буду сегодня отталкиваться и позволю себе начать с первой из вышеперечисленных черт. Не могли бы Вы поподробнее остановиться на связи религии и биологии?
Роберт Белла: Я хотел поместить свое исследование религии в человеческой эволюции в максимально широкий контекст, и такого охвата позволяют достичь биология и космология. Поэтому я начинаю даже не с зарождения жизни, а прямо с Большого взрыва. Я убежден, что религия взаимосвязана, если воспользоваться словами Клиффорда Гирца, со всеобщим порядком бытия. Изначально она представляет собой способ поведения в мире, но она подразумевает и жажду постижения этого мира. Вспомним первую фразу «Метафизики» Аристотеля: «Все люди от природы стремятся к знанию». В настоящий момент подлинное знание предполагает серьезное отношение ко всему, чего достигла в наши дни наука. Но как Вы знаете, я утверждаю, что наука отлична от религии. Я придерживаюсь представления о многообразии сфер человеческой деятельности, в конечном счете восходящего к идеям Уильяма Джеймса[4], которого можно назвать методологическим и даже метафизическим плюралистом.
Я не считаю, что наука может дать ответы на вопросы, которыми задается религия. Однако, по моему мнению, дабы понять, кем мы являемся в этом мире сегодня, нам необходимо проследить весь путь, который мы прошли с самого начала. Мы — биологические организмы, животные, и более того, мы не могли бы прожить на нашей планете и минуты, если бы нас не окружали другие биологические организмы. Так что есть вполне практический смысл в том, чтобы напомнить о нашей зависимости от окружающей биосферы и предупредить, что убежденность в триумфе западной рациональности ничем не подкреплена, да и просто самоубийственна, если позволяет нам забыть о том, сколь нуждаемся мы в огромном множестве окружающих нас иных существ.
Х. Й.: Таковы наши истоки, и поскольку мы биологические организмы, то это не может не влиять на наше понимание религии, так?
Р. Б.: Люди никогда и не забывали о том, что у нас много общего с окружающим нас миром живой природы. Парочка самоуверенных умников, может, и хотела бы отделить человеческое сознание железным занавесом от животного мира, но дети, те знают все точно. Недаром в своих играх они так любят представляться животными. А сколько семей держит собак и кошек и, как правило, нежно к ним относится? То есть на уровне инстинкта мы ощущаем свою связь со всем миром живых существ. Мы, правда, не помним, что нам родня и одноклеточные существа, которых мы называем «бактериями». Напротив, мы очень их боимся, потому что некоторые из них могут нам навредить, но в действительности наша зависимость от них куда более значительна. Однако чего я совершенно не собираюсь делать, так это вслед за некоторыми специалистами в естественных науках и их последователями превращать человеческую эволюцию в новую форму религии. В эволюции нам спасения не обрести. Я полагаю, что ее следует внимательно изучать, но важнейшие этические прозрения черпать приходится из совсем других областей.
Х. Й.: А чем же так плоха основанная на биологии критика религии? С одной стороны, Вы сами глубоко погружаетесь в изучение биологических основ религии, а с другой — резко осуждаете некоторые попытки объяснить ее исходя из биологических принципов. В чем разница?
Р. Б.: В конечном счете все сводится к вопросу, который я назвал бы метафизическим, а не научным: что предпочесть — свободу или предопределенность? Те, кто полагает, что религию можно вывести из биологии, по сути являются ярыми приверженцами генетического детерминизма. Если смотреть на религию их глазами, то ее возникновение объясняется некими врожденными генетическими склонностями, грубо говоря, должен существовать ген, отвечающий за веру в Бога. Для меня такой подход неприемлем не столько исходя из чисто научных данных, сколько из-за самой метафизической подоплеки подобных взглядов. Я считаю, что всю биологическую историю жизни на Земле можно представить как свободное творческое развитие. Сознание и целеполагание появляются с первыми зачатками жизни, и даже у всех одноклеточных имеется, пусть в самой минимальной степени, способность, называемая в науке «чувствительностью», с помощью которой они ощущают самих себя и то, что им необходимо делать. Что уж тогда говорить о человеке, чье сознание явно более сложно организовано и подкреплено языком! Все, что мы совершаем, не может сводиться исключительно к функционированию генов, которые, конечно, помогли развиться нашим голосовым связкам и сформировать человеческий мозг, способный оперировать с помощью языка. Биологическим факторам мы обязаны многим, но каждая ступень нашего развития обладает определенной самодостаточностью. Поэтому поведение сознательных, мыслящих, руководствующихся моральными принципами человеческих существ не может объясняться только биологическими причинами — ну разве что в той мере, в которой культура вообще, в определенном историческом смысле, является порождением конкретных форм эволюции.
Я хотел бы еще раз вернуться к животному миру как таковому. В своей книге я привожу мнения множества ученых, утверждающих, что организмы сами активно участвуют в своей эволюции и в развитии биологических видов невероятно силен элемент творческого выбора и свободы. Так что, отвергая биологическую интерпретацию религии, я на самом деле восстаю против определенного типа жесткого детерминизма и механицизма, которые, на мой взгляд, не вытекают из самой биологической науки, а являются своего рода метафизическими шорами.
Х. Й.: Одним из ключевых слов, характеризующих Ваш подход, служит, разумеется, термин «эволюция». В 1964 году Вы опубликовали статью «Религиозная эволюция», в огромной степени повлиявшую на дальнейшие исследования в этой области. Заглавие недавно вышедшей книги звучит похоже, но все же отличается чем-то очень существенным. Не могли бы Вы пояснить, почему Вы вместо «Религиозной эволюции» выбрали «Религию в человеческой эволюции»? Что заставило Вас изменить название?
Р. Б.: Не знаю, насколько сознательной была эта перемена, но я рад, что название звучит именно так, поскольку моя главная мысль состоит в том, что религия существует внутри эволюционного процесса, понимаемого весьма широко. Я не отвергаю понятия естественного отбора или даже концепции борьбы за существование, но, на мой взгляд, они слишком сужают самую суть эволюции.
С одной стороны, мы теперь знаем, что в эволюционном процессе сотрудничество сыграло куда более существенную роль, чем это представлялось Дарвину. Но меня еще более привлекает идея, согласно которой в процессе эволюции мы приобретаем новые способности, и в частности, одной из них является, на мой взгляд, способность взаимодействовать со своим телом. Люди могут пользоваться своим телом так, как не в силах ни одно другое существо, и, возможно, именно это оказывается ключевым при возникновении религии. Даже шимпанзе не обладают чувством ритма, не могут синхронно двигаться в такт. А на ранних стадиях существования религии, возможно, именно это и оказалось первостепенно важным: наша способность выражать свою сопричастность той или иной общности посредством игры на каком-то ударном инструменте, пения или танца. А наша способность говорить? Мерлин Дональд полагает, например, что не мифы возникли из языка, а язык развился, поскольку мы нуждались в нем для изложения мифов. Как бы то ни было, язык и впрямь привел к поразительному расширению человеческих возможностей, немыслимому ни для одного другого вида. И наконец, в качестве третьей важнейшей новой способности я выделяю теоретическое мышление, потенциал которого поистине необозрим, ибо оно включает не только философию и теологию, но и науку. Итак, все эти способности повлияли на развитие религии, но в то же время эти черты свойственны людям в принципе и проявляются во множестве других сфер помимо религиозной. Так что религия — часть эволюции человека; я, пожалуй, не дам окончательного ответа на вопрос, прошла ли она свой собственный эволюционный путь, но в любом случае не думаю, что процесс ее развития протекал независимо от хода человеческой эволюции в целом.
Х. Й.: Выходит, Ваша книга не столько об эволюции некоего феномена, именуемого «религией», сколько о различных проявлениях религиозного сознания в связи с общей концепцией эволюции. Сформулировано верно?
Р. Б.: Очень даже верно. В религиоведении очень много внимания уделяется самому понятию религии, и это при том, что чуть ли не половина исследователей считает нужным от него вовсе отказаться. Меня в определениях религии не устраивает то, что они слишком часто говорят исключительно о вере — потому я часто использую их только лишь в качестве отправного пункта для моих собственных рассуждений. Для меня религия — прежде всего то, что ты делаешь. Заблуждение людей вроде Докинза[5] или Хитченса[6] состоит в том, что они рассматривают религию как своего рода ошибочную форму протонауки. Но религия предполагает действие, а вера основана на доверии.

Х. Й.: Даже этимологически во многих языках вера больше связана с доверием, нежели с принятием неких когнитивных постулатов.
Р. Б.: Латинское слово для веры, fides, означает именно доверие, а не веру, и я полагаю, что религиозная жизнь в очень большой степени является формой практической деятельности, формой людского взаимодействия. Религиозная истина не открывается тебе, когда ты в своей комнате сидишь и мучаешься вопросом: «Так есть Бог или нет?». Ты никогда не обретешь Бога, пока не будешь вовлечен в некую общность, и только благодаря участию в жизни этой общины тебе может открыться подлинный смысл этого понятия.
Х. Й.: Давайте теперь перейдем к другому аспекту Вашего труда, в котором, как я уже отметил, сильна критика европоцентризма. Не могли бы Вы пояснить причины, по которым Вы, с одной стороны, сосредоточились на религиях, предшествовавших «осевому времени», а с другой — и в этом периоде постарались охватить максимально широкий спектр цивилизаций.
Р. Б.: Мне казалось, что существует множество культур, которыми большинство исследователей пренебрегает, а между тем они заслуживают всяческого внимания. Вот в моей книге есть раздел об аборигенах Австралии. Еще в первые годы студенчества меня просто заворожила эта невероятно богатая культура, настолько оторванная от остального мира, что смогла развиваться по своему особому пути. А на старших курсах я специализировался уже по социологии и языкам Дальнего Востока, и я должен был выучить не только японский, но и китайский, который был для японцев языком высокой культуры — ну как для нас латынь. Я начал с классиков конфуцианства: самого Конфуция и Мэн-цзы. Я был воспитан в христианской традиции, учился пониманию «Государства» Платона и Ричардса[7], я много занимался библейской и древнегреческой культурами и ценю их очень высоко, но не превыше всего. На мой взгляд, Япония, Китай и Индия дают нам множество примеров великих творческих свершений. Мы, люди западной культуры, любим рассуждать о «Западе» в противовес всему прочему, что называем «Востоком». Я настаиваю, что никакого единого Востока не существует; Китай и Индия так же отличаются друг от друга, как любая из этих двух цивилизаций от Греции или Израиля. Вот почему я хотел подчеркнуть, что на протяжении первого тысячелетия до нашей эры произошло сразу четыре важнейших культурных сдвига, и нам следует строить свои выводы, учитывая все четыре.
Х. Й.: Одним из лейтмотивов Вашей книги становится формула «Ничто не исчезает навеки», которая то и дело повторяется на ее страницах. Не могли бы Вы пояснить, какой смысл вы в нее вкладываете?
Р. Б.: Тут приходится снова возвращаться к самому началу, потому что некоторые субатомные частицы, присутствующие в наших телах, возникли в результате Большого взрыва, так что в некотором отношении нашим организмам 13,7 млрд лет. Каждая клетка в нашем теле генетически восходит к одноклеточным существам, которых мы привычно называем «бактериями». Так что даже с биологической точки зрения мы ничего не потеряли. Возникли новые, невероятно сложные системы, но все они сформировались на основе элементов, изначально составляющих основу всего окружающего мира. Это справедливо и в отношении культуры. Поскольку человеческое тело чрезвычайно тонко приспособлено для невербальной коммуникации, я предполагаю, что религия могла появиться прежде возникновения грамматически развитого языка в современном его понимании. Но прав я тут или нет, неважно — тело все равно занимает в религии центральное место. Религия — это телесная практика. Я принадлежу к традиции, в которой центром богослужения является таинство евхаристии. Но причастие — это физический акт. Ты принимаешь в нем участие, и потому можешь сказать себе: «Я причастился тела Христова». Бесспорно, эта телесная вовлеченность не исчезнет из религии никогда.
Вдобавок к этому религия никогда не сведется к набору абстрактных высказываний, она немыслима без рассказа. Религия всегда полна историй — любая религия. Открываешь «Беседы и суждения» Конфуция, и перед тобой один за другим начинают разворачиваться занимательные случаи, в которых Конфуций или его ученики поступили так-то и так-то. Разумеется, невероятно богата жизнь Будды, а для христиан история о жизни, смерти и воскрешении Иисуса Христа вообще является средоточием всего учения. Рационалисты могут бесконечно ломать себе над ней голову, но рассказана она поразительно ярко и правдоподобно. Религии без повествования не существует.
Важен, конечно, и теоретический аспект; он позволяет нам выйти на уровень обобщений. Я не соглашусь с тем, что в основе своей религии подобны друг другу и представляют собой лишь разные пути к одной и той же цели. Нет, они не тождественны. И все же в некотором отношении, быть может, в самой коренной своей теологической и этической составляющей, они придерживаются неких общих сущностных установок. Однако наряду с этим чрезвычайно важны именно различия, поскольку буддисты и индуисты обладают знанием, всей полноты которого христиане зачастую лишены. Не то чтобы знание это было совершенно чуждо нашей традиции, но все же мы лучше станем понимать нашу собственную веру, если без предвзятости отнесемся к другим. Так что главный смысл состоит в том, чтобы не признавать различные великие культуры тождественными, но и не отрицать, что на глубинном уровне они оказываются порой удивительно созвучными друг другу.
Х. Й.: В Вашей книге рассмотрен огромный исторический материал, но сейчас я хотел бы спросить Вас о значимости такого исследования именно сегодня. Несколько лет назад мы организовали в Германии конференцию по «осевому времени», и один из немецких журналистов опубликовал в ведущем еженедельнике статью на целый разворот о конференции, заметив среди прочего, что идея «осевого времени» несет в себе мощную альтернативу концепции «столкновения цивилизаций»[8]. Как, по-Вашему есть в таком рассуждении смысл?
Р. Б.: Есть, и немалый. Я очень рад, что кто-то пришел к такому умозаключению, поскольку в сегодняшнем мире мы как раз должны всячески избегать столкновения цивилизаций. Мы нуждаемся в глобальном сотрудничестве, а не в глобальном конфликте. Мы должны осознать, что в конце концов все великие традиции приходят к уважению друг друга и обладают способностью к взаимодействию во имя некоей общей цели, только еще зарождающейся. Эту цель можно обозначить как «глобальное гражданское общество». Не следует уверять себя, что между разными культурами лежит непреодолимая пропасть. Человеческий опыт свидетельствует, что это не так.
Х. Й.: И как в этом отношении нам может помочь изучение «осевого времени»?
Р. Б.: История этой эпохи показывает, что между великими традициями, существующими и поныне, с самого их зарождения существовали параллели и пересечения. Были истины, утверждать которые стал бы каждый человек, принадлежавший к любой из этих четырех культур. Изначальное равенство всех людей, созданных по образу и подобию Божьему, — это христианская и иудаистская идея, но ведь и Конфуций учил, что все люди под Небесами — братья и сестры. Перед этим меркнут все различия. Несходство очень важно, но подобие порой просто поразительно.
Х. Й.: Год назад я побывал в Китае и удивлялся, наблюдая, как коммунистическое руководство пытается вдохнуть новую жизнь в принципы конфуцианства, сделав его, если можно так сказать, новой формой государственной идеологии. Это просто поразительно, если вспомнить, что во времена культурной революции конфуцианство не просто подвергалось нападкам, а было прямо объявлено более не существующим в Китае. Вы недавно дважды ездили в эту страну. Не могли бы Вы вкратце поделиться своими впечатлениями от этих двух путешествий, во время которых у Вас было немало возможностей поговорить о религии вообще и о религии Китая в частности.
Р. Б.: Да, в Китае я столкнулся с глубоким интересом к конфуцианству, который объясняется тем, что китайская форма марксизма — это просто пустышка. Это и не марксизм совсем. Китайцы не читают Маркса и Энгельса. Они читают какие-то выдержки из Мао, они читают Дэн Сяопина, и все это именуется «марксизмом». Настоящий марксистский текст для режима сегодня попросту опасен. Так что им нельзя уцепиться даже за сколько-нибудь серьезную идеологию, и существует надежда, что конфуцианство может стать такой объединяющей идеологией. Но, понятное дело, по этому поводу кипят ожесточенные споры. Есть те, кто хочет, чтобы конфуцианство получило статус официальной государственной идеологии, но люди, с которым общался я, уверяют, что это обернется катастрофой. Не следует повторять ошибку Чан Кайши, который в свое время именно так и сделал, но только внес этим сумятицу и разозлил народ. Другое дело — в какой степени конфуцианство проникло в повседневную культуру. Мне даже довелось слышать удивившие меня рассуждения об этом учении как о будущей китайской гражданской религии — не навязываемой государством, но исповедуемой добровольно, позволяющей прикоснуться к глубинным истокам китайской культуры и при этом открытой остальному миру. Так что конфуцианство живет и здравствует в современном Китае, и это очень обнадеживает. Причем к нему обращаются и реакционные ультраконсерваторы, и люди весьма широких либеральных взглядов, для которых вполне естественным выглядит сопряжение учения Конфуция с идеей прав человека или демократическими формами правления. И в этом суть мира, в котором в настоящее время мы живем: у самых разных традиций сегодня очень схожая повестка дня.
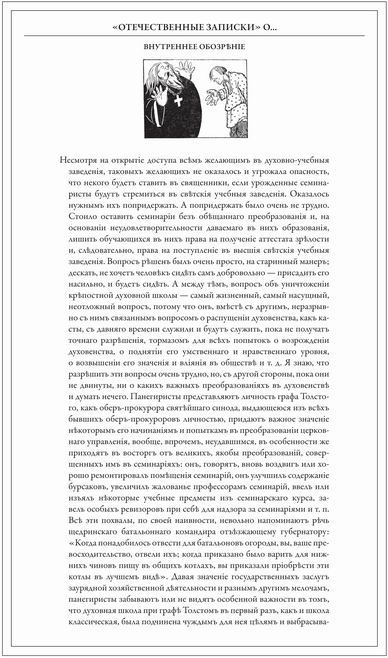
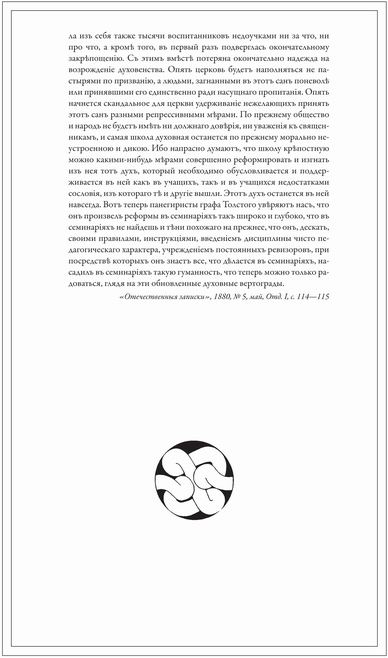
[1] The Hedgehog Review. Vol. 14. No. 2 (Summer 2012). Перевод с английского Николая Гринцера.
[2] Ханс Йоас (Hans Joas, 1948) — немецкий социолог, профессор Чикагского университета, автор нескольких книг, в том числе монографии «Креативность действия», переведенной на русский язык (Спб., 2005). — Здесь и далее прим. пер.
[3] См. рецензию Чарльза Мэтьюза в этом номере ОЗ.
[4] Уильям Джеймс (William James, 1842—1910) — американский философ и психолог, один из ведущих представителей прагматизма и функционализма, сделавший акцент на анализе конкретных фактов и состояний человеческого сознания. Применительно к теме интервью наиболее показательна его работа 1902 г. «Многообразие религиозного опыта».
[5] Клинтон Докинз (Clinton Dawkins, 1941) — английский биолог и популяризатор науки, поборник геноцентричного подхода к эволюции. Известен своими книгами «Эгоистичный ген» (1976), «Слепой часовщик» (1986) и особенно своим бестселлером 2006 г. «Бог как иллюзия».
[6] Кристофер Хитченс (Christopher Eric Hitchens, 1949—2011) — американский либеральный журналист и публицист, активный пропагандист атеизма, автор книги «Бог не велик» (2007).
[7] Айвор Ричардс (Ivor Armstrong Richards, 1893—1979) — английский литературовед, один из основателей «новой критики». Среди его трудов был и перевод «Государства» (1966).
[8] «Столкновение цивилизаций» — название книги 1996 г. американского социолога и политолога Сэмюэла Хантингтона (Samuel Huntington, 1927—2008), переведенной на русский язык (М., 2003 г.). В ней подробно анализируется состояние мира после окончания холодной войны и предсказывается противостояние Запада с миром ислама.
