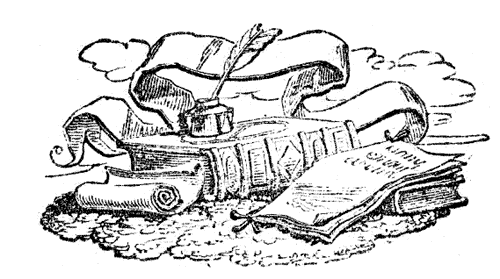Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Партизаны особого назначения
Войти в многолетний контакт с системой милитарных ведомств мне пришлось как бы вполне случайно. В 61-м на меня пал жребий, и я отправился на год учиться в Варшаву. Вернувшись и легко сдав экзамены по пропущенным «марксизмам», обнаружил, что за десять дней нереально выполнить огромный проект маскировки городского центра под идиллическую деревню. Терять год не хотелось до слез, но что было делать? По случаю выяснил: для «возвращенцев» есть возможность пройти летние курсы при Инязе и получить звездочку переводчика по одному из языков Варшавского пакта. Когда выписывали военный билет и для проформы спросили о знании другого языка, я честно назвал английский. Мне привелось окончить ту самую школу № 1 Мосгороно, что была открыта в 1949 году по замыслу Лаврентия Павловича, дабы готовить совершенных шпионов, и языку там учили всерьез. Получил билет военного переводчика и забыл. Но, как вскоре выяснилось, забыт не был.
Через пару лет, когда я «по распределению» отбывал срок в заведении, которое ничуть не могло меня удовлетворить, в тамошний отдел кадров поступило требование направить имярек в Ленинград на 90 дней сборов для офицеров запаса. Неожиданно условия службы оказались более чем гуманными. Занятия завершались в три пополудни, и мы были вольны распоряжаться оставшимся временем, так что я, скрипя кирзой, направлялся в Публичную библиотеку, где, кстати, в то время в открытом доступе было еще множество книг на английском и французском.
Надо сказать, что занятия отличались высочайшей плотностью, и за день приходилось осваивать около сотни натовских военных терминов и сокращений. Это действительно была подготовка военных переводчиков, и мне, с моим архитектурным образованием, среди филологов приходилось нелегко. Все прочее было формальностью: пара часов строевой подготовки, совсем немножко стрельбы, экскурсии в военные академии, где уже были вполне добротные танковые и летные тренажеры, равно как роскошная — на пять залов — игрушечная железная дорога, в нее с наслаждением играли полковники Академии тыла и транспорта.
Подтянутая дама, которая вела наш курс, имела недурственную специальную подготовку. Во всяком случае, ею написанная моя характеристика была тревожно правдоподобна. Любопытно, что, собственно, подвигло эту особу дать мне характеристику на прочтение?
Затем на пару лет меня оставили в покое, но надо полагать, что личное дело жило своей собственной жизнью, и мое бумажное второе «я» чьей-то невидимой рукой было перемещено на другую полку. Вызвали в поликлинику, обстучали, обмерили, покрутили на кресле, написали на карточке «годен ВДВ», чему я не придал особого значения — мало ли что они там пишут. Так или иначе, но теперь запрос пришел уже в отдел кадров института, где я был вполне доволен жизнью, сочиняя теорию дизайна заодно с диссертацией. Итак, я получил предписание прибыть на Белорусский вокзал. Лишь в поезде выяснилось, что мы, человек полтораста, набранные со всей страны, отправляемся в Витебскую дивизию ВДВ.
Прыгать так прыгать. По первому разу было достаточно любопытно, хотя не страх, а чисто физиологический «мандраж» выбрасывал на щеки то мертвенную бледность, то неестественный румянец. Принуждения не было: двое не смогли себя пересилить и без последствий отправились домой.
Нельзя было не заметить, что уровень IQ в нашем временном сообществе был явно выше среднего. Занятия по тактике были составлены отнюдь не для идиотов. Лекторы не пользовались идеологическими штампами и пробуждали интерес
аудитории вполне рассчитанными риторическими ходами — один из приезжих специалистов начал монолог словами: «Первым делом после приземления надлежит пристрелить комсомольца» — имея в виду синдром Зои Космодемьянской,
т. е. наивного энтузиаста, способного сорвать выполнение задания. Другой, надо полагать особист, с нестандартной фуражкой и с сигарой в углу рта, брал нас по одному под локоток, уводил погулять и произносил: «Что вы там себе думаете — ваше дело, но вы — русский офицер…» и т. п. Заметим, что на дворе был1967год и прилагательного «русский» в ходу не было, в ходу было прилагательное «советский».
Не могу сказать, чтобы к нам относились так же пренебрежительно, как к прочим «партизанам» — так обычно именовали в гарнизонах мобилизованных на учебные сборы. При этом в Витебске нам пришлось и гальюны чистить, и заниматься высокой армейской бессмыслицей, вроде того что полы казармы натираются по водной мастике до зеркального блеска (мы приноровились нагружать щетку пудовой гирей для повышения КПД), после чего их тут же затаптывает сотня сапог. Несколько человек, в том числе и я, не могли выдержать армейской готовки (повара были отправлены вместе с основным составом дивизии на целину) и предпочли обедать в офицерской столовой за собственный счет. Местные поначалу косились, но формальное право у господ офицеров имелось, и нас оставили в покое.
Солдатики дежурной роты по соседству жили собственной жизнью, сооружали сложные дембельские альбомы — очевидных признаков дедовщины не было, впрочем, ручаться не могу. Наибольшим числом всяческих значков была увешана грудь сержанта, приставленного к дивизионному стаду в роли пастуха. При свиньях был рядовой, но тоже с множеством значков на груди. Это были ценные люди, ведь при убожестве казенного снабжения всякий нормальный комдив заводил
серьезное подсобное хозяйство, чтобы подкормить свой народ. Овощи убирались солдатами с меньшим числом значков.
К технике нашей безопасности относились весьма серьезно: парашют укладывали в семнадцать операций, при проверке правильности каждого шага. Тренировки на вышке, на трамплине и на батуте тщательно подстраховывались, так что три сломанные ноги на полтораста человек были следствием неотвратимых случайностей вроде скрытой в траве канавки.
За прыжки аккуратно платили по таксе (простой прыжок — два рубля, с оружием — два с полтиной, ночной — три, на воду — четыре, мастерам спорта — десять рублей), так что в дни прыжков на летном поле царила суета. Прыгали все — от командующего ВДВ (тогда это был генерал Маргелов) до поваренка и шофера. После каждого прыжка был загул — как считалось, для сброса напряжения.
Я откровенно бездельничал, не считая портретирования всех, кто хотел обрести настоящее художественное подобие, но краем глаза отмечал, что один тихий господин из нашей команды всякую свободную минуту использовал для заметок в толстом блокноте. Дорабатывал диссертацию.
Финальная групповая высадка с Ан-12 стала немалым испытанием. Когда грузовой люк открылся и в кабину ворвались вонючие клубы выхлопного дыма, мы выстроились в две цепочки, упираясь носом в ранец парашюта стоявшего впереди. Дальше следовало быстро бежать к хвосту и рушиться на струю воздуха лицом вниз. Хотя мы и тренировались на батуте, действительность превзошла все ожидания и заставила сердце сжаться. Раскрытие парашюта было надежно обеспечено простеньким барометром, но требовалось дернуть так называемое кольцо самостоятельно, досчитав до пяти, иначе на солидной скорости парашют могло порвать воздушной струей. Я честно досчитал до четырех и с изумлением обнаружил, что барометр уже сработал и огромный купол высился над головой.

Тогдашний десантный парашют не имел ничего общего со спортивным, которым легко управлять. Под этой снежно-белой конструкцией можно было лишь разворачивать собственное тело по ветру. Полминуты восторга, а затем, когда уже видны волны, бегущие по траве, следовало готовиться к весьма ощутимому удару о землю. Меня неотвратимо тянуло ветром прямиком на здоровенную вышку триангуляционной сети. Вышка деревянная, но встреча с ней точно не сулила ничего хорошего, и я изо всех сил тянул книзу передний край парашюта. Я пропахал ногами борозду в мягкой земле люцернового поля, «погасил» парашют, натянув на себя нижние стропы, перевернулся на спину и с наслаждением закурил. В небе, как паяцы, кувыркались на струе воздуха мои коллеги. Надо мной возвышалась фигурка — мальчишка лет двенадцати уже был на месте, чтобы выклянчить резиновый жгут от парашютного ранца. Лучшего материала для изготовления самострела не придумаешь.
Вообще всякая высадка десанта была для окрестного люда желанным событием. Вытяжные парашютики из оранжевой ткани — готовые абажуры. Второй вытяжной парашют из красной ткани — почти готовая длинная юбка. Двусторонними ножами с тупым концом (для аварийной отрезки строп) в те времена не торговали. Основными парашютами (как-никак 40 квадратных метров белой ткани) тихо приторговывали ротные старшины — люди куда более солидные и зажиточные, чем командиры.
Двое суток марш-броска были немалой нагрузкой, но без особых излишеств, хотя на подходе к военному городку на третье утро многие ложились без сил на бетонные плиты. Неприятно поразило, что традиции 30-х годов сохранились в том, что крупномасштабные карты, по которым я прокладывал путь группы, устарели лет на десять. Качество карты не волновало никого — основная головная боль была в том, чтобы ужасно секретную карту не потеряли бы, чтобы не потеряли автомат. Проклятые радиостанции были непомерно тяжелы, так что радисту доставалось более всего. Приятно удивило, что десантный паек был явно скопирован с американского — с тем лишь отличием, что он не включал сигарет, не было кофе, а вместе чая была таблетка из прессованной чайной пыли.
Еще через два года были сборы на западе Украины, в Изяславе, что неподалеку от Шепетовки. Теперь нас было всего человек 60, и убирать казарму не требовалось. Этим были заняты гарнизонные служивые. Я попросил командира рота разрешить работать в его кабинете в свободное время, вечерами писал книгу. Однажды этот милейший молодой человек постучал и, извинившись (!), вызвал рядового для нравоучения. Юный сукин сын стоял вроде бы по стойке смирно, и на его физиономии не отражалось, казалось бы, ничего, кроме внимания, и все же все в нем демонстрировало глубокое наплевательство. Старлей объяснял потом, что с каждым годом все труднее удержать минимальную дисциплину, что мальчишки из больших городов после полной средней школы категорически не желают служить. Следы разброда и расслабления просматривались вовсю: старшина роты пропал где-то по бабам, когда объявили ночную тревогу. Ключ от склада с парашютами был только у него, сбить замок комбат не решался, в результате опоздали с вылетом на два часа.
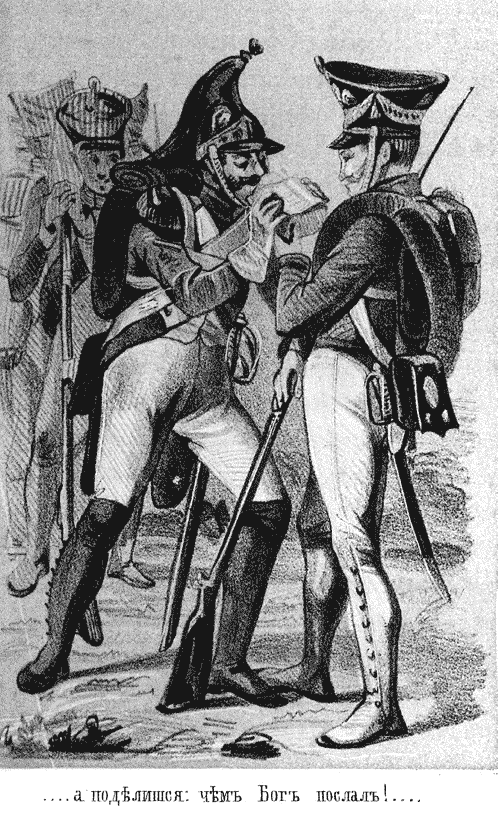
Мы занимались своими делами (в основном, взрывая все, что можно), а рядом скользила жизнь гарнизона с его многогранными проблемами, с битвой за рабочие места для офицерских жен, с адюльтерами и пьянством, с неверием большинства офицеров в то, что есть шанс поступить в академии без крепкого блата. К нам относились с уважением, доверяя нашему куда более широкому жизненному опыту, иногда советовались, так что гарнизонная жизнь становилась все более понятной и приятной.
Мистика армейской преемственности замечательно проступила самым неожиданным образом. В каптерке обнаружились седла и уздечки 30-х годов и опись имущества, на которой были подписи польского каптенармуса 1935 года, советского — 1939-го, немецкого — 1941-го и вновь советского — 1944 года. Еще там были два мешка так и не отправленных писем немецких солдат, которые мы разбирали на пару с одним из питерских доцентов.
Черты общего безумия проступали уже тогда, в конце 60-х, все заметнее. На занятиях по тактике я, к примеру, получил хорошую карту западной части Гренады и задание — создать базу и возглавить партизанское движение (!) испанцев против сил НАТО. Работавшие с нами инструкторы с трудом удерживали серьезные мины, отвечая на ехидные наши вопросы по этому поводу. Составители инструкций по подрыву мостов все еще переписывали тексты довоенной эпохи и не удосужились ознакомиться с азами статики сооружений. Когда я показывал, что тех же эффектов можно достичь в три раза меньшим объемом тротила, инструктор соглашался, но инструкцию чтил выше логики. В то же время он, уже лишившийся одной звездочки на погонах за какие-то художества, с огромным энтузиазмом присоединился к моему интересу попробовать изготовить «розу» из старого бронетранспортера. Дело в том, что я только что углядел в журнале «Америка» работы американского скульптора, созданные взрывом под водой, но в нашем распоряжении был только пруд с мутноватой водой, и идея явно нуждалась в череде экспериментов. Это по понятным причинам исключалось. Распределить заряды пластита, соединив их детонирующим шнуром так, чтобы взрывные волны программно наложились друг на друга, было непросто. «Роза» получилась кривоватая, шума было много, в курсе были многие, но, разумеется, никто нас не выдал.
В общем-то нас недурно обучили взрывному делу, тем более что на вооружении оказалось уже немало новых штучек вроде миниатюрных мин с замедлением, которые выбрасывали прицельно струю раскаленной меди, насквозь прожигавшую сантиметровую сталь.
Случилась беда. Из оружейной комнаты пропал пистолет Стечкина с глушителем в придачу, оружие в те поры секретное. Это было страшное ЧП, у комполка было 24 часа до рапорта начальству, и нас привлекли к допросам. Психика у мальчишек в форме слабая, и было не так уж трудно обнаружить злоумышленника и вынудить его показать, где закопал, но так и не удалось выжать из него, зачем. На все расспросы он твердил, что «Маньку убить». Как было тогда принято, его тихо списали домой, спрятав событие. Заодно выяснилось, что незадолго до того такой же олух отправился по шоссе расправиться с обидчицей в танке, и его еле остановили.
Было заметно, как ширилось подражание НАТО в том, что касалось устрашающих имен собственных для всяческих военных изделий, среди которых обнаружилась мина для отрыва индивидуального окопа. Два инструктора возились с этой миной часа полтора, но потом ее так и пришлось подорвать тротиловой шашкой во избежание неприятностей. Еще мы изучали странные, ужасно
засекреченные опусы, в которых приводились описания всевозможных стреляющих затей и мин-ловушек, сочиняемых какими-то Мерлинами из «конторы». Сами ничего подобного, впрочем, не использовали.
Через год я чуть было не загремел в Африку — исполнять, как тогда говорилось, свой интернациональный долг, т. е. обучать головорезов в очень демократическом Конго. Это было отнюдь не смешно, предписание было выписано. Меня спасло лишь то, что к тому времени я стал счастливым обладателем кандидатской степени, что почему-то освобождало от мобилизации. Похоже, что сохранялись инструкции еще довоенных времен, когда кандидатов наук было мало и степень давала «бронь». В военкомате об этом, разумеется, не сообщали (мой одноклассник, уже было собравший вещи, узнал о такой возможности только от меня), но копию диссертационного диплома приняли безропотно.
В Африку не забрали, но я явно попал в некий именной список, так что были еще сборы — все более дорогостоящие забавы по мере сокращения состава группы и, если так можно выразиться, повышения ее потенциала. Карпатский заповедник, удивительной красоты буковые леса на водоразделах и проверка на скрытное наблюдение за военной базой, что было сопряжено с некоторым риском. Полярный Урал, где трое суток надо было выходить к тайнику с едой, в пути питаясь чем бог пошлет. Мне послал мало — неумелые попытки глушить рыбу результата не дали, дичи не обнаружилось, так что пришлось кормиться корнями иван-чая, грибами икислицей. Был Херсонес, где тобой выстреливали из торпедного аппарата, впрочем, не с подлодки, а со стационара (все время не оставляло впечатление, что жизнь попросту воспроизводит Голливуд). Большей гадости я, пожалуй, не испытывал. Была высадка с вертолета в пустыне, где следовало научиться добывать воду из свежеющего вечернего воздуха с помощью куска полиэтиленовой пленки. Были горы, которых я побаиваюсь, приходилось ночевать в гамаке, подвешенном к скале, — это удовольствие, надо сказать, для больших любителей.
Конечно, во всем этом было немало парадоксального. Чем более подготовленными командирами разведдиверсионных групп становились я и мои коллеги, тем более мы приближались к сорокалетней отметке, так что постичь логику этого педагогического процесса было сложновато.
Известно, что с портретистом, как и с цирюльником, все и всегда склонны беседовать доверительно, и это без особого труда позволяло мне удовлетворять социологическое любопытство. Солдатики в основном смущались, тогда как гарнизонные офицеры и приезжие инструкторы позировали охотно. Местные к тому же стремились отблагодарить художника предметно, так что у меня рос запас десантных тельняшек, кепи, беретов, сигнальных ракет и прочих ценностей.
Ребят из Средней Азии в военных городках, где мне довелось бывать, не было — их сразу отправляли в стройбаты. Северный Кавказ присутствовал, но при нас серьезных стычек не случалось. Остро проступало противостояние крупногородских и малогородских жителей (деревенских в десантниках было мало), хотя и те и другие в равной мере не терпели москвичей, к питерцам относясь без особой неприязни. У лавочек, где торговали подворотничками, сигаретами, лимонадом, вафлями, печеньем и конфетами (солдаты обожают сладкое), группировались все те, кто, помимо казенных четырех рублей в месяц, получал деньги из дома. Таких «буржуев» явно было менее трети. Часть денежных излишков перераспределялась среди ребят в обмен на услуги, включая доставку самогона от окрестных поставщиков. По тем наивным временам в самогон, для большей крепости, добавляли табак, а то и карбид. Так или иначе платные услуги включали также и добычу или изготовление декоративных деталей для дембельских альбомов, расклешивание брюк, переделку стандартных эмблем или изготовление нестандартных. Уже имели хождение услуги весьма изощренного характера, вроде нанесения на циферблат наручных часов миниатюры: синее море, белый пароход и дева на берегу. Стоило это 30 рублей. Солдатики нас вниманием не обходили, мою работу в роли портретиста видели, и как-то ко мне обратился один молодой человек с неожиданной просьбой. У него не получалось объемное изображение, поскольку он не подозревал о существовании рефлексов в тени. Я показал ему, как оживить тень на портретике, и тут выяснилось, что юный труженик кисти по квадратам перерисовывал на фанерку фотографию чьей-то милой, беря на каждом таком заказе те же 30 рублей.

Этот «серый» рынок оказался весьма развит, вступая уже тогда в острое психологическое противоречие с системой службы по повинности.
Были крупные маневры Варшавского договора, в ходе которых я мог напрямую убедиться во многом. И в том, какой дьявольской проникающей способностью обладает малая группа подготовленных диверсантов (в ходе чеченских кампаний об этом пришлось вспомнить). И в том, как трудно защитить дороги от диверсии. И в том, как низка дисциплина соблюдения уставов в офицерской среде. Во всяком случае, моей группе удалось украсть регулировщика с шоссе, подменить его своим, черт-те куда направить целую колонну ракетовозов. Была милая деталь: зная о моих художественных занятиях, командование не ограничилось премией в25 рублей (эквивалент трех бутылок коньяка с хорошей закуской), вручив мне еще и аэрограф, за которым надо было специально посылать в областной центр. Не чувствую себя вправе говорить о деталях, но по мере того как знакомство с множеством военных городков расширялось, а квалификация наблюдателя росла, росло и понимание кризиса армейской системы, пораженной афганским синдромом.
Наконец, мне все это надоело, и я попытался избежать очередных сборов. К тому были основания: экспериментальная студия, с которой я продолжал сотрудничать, как раз вела переговоры с командованием Рязанской академии ВДВ относительно проекта музея. Я позвонил замполиту и предложил вытащить меня к себе, чтобы поработать над проектом на месте. Тот был рад, но через некоторое время выяснилось, что моя скромная персона была вне его компетенции. Пришлось оставить работу над очередной книгой и поехать на окончательную шлифовку, аккурат приближаясь к тому возрасту, когда я по закону выпадал из орбиты.
Нас было теперь менее трех десятков. Для нас мобилизовали двух шеф-поваров из московских ресторанов, и те состязались от души, кое-что докупая из собственных средств, ради большего гастрономического эффекта. Учебный центр, где я оказался, был оснащен настолько, насколько это было возможно в Советском Союзе. Во всяком случае, там был недурной подземный тир — с манекенами врагов, внезапно выскакивавшими из-за угла, с «живым» танком, который полз на тебя по коридору, так что оставалось лечь под его клиренс, чтобы уцелеть. Адреналина в крови хватало. Обучение продолжалось в условиях города, где следовало научиться уходить от слежки и передавать записки через тайники средь бела дня. В общем, настоящие казаки-разбойники, чему некоторую пикантность придавало то обстоятельство, что по внутренним войскам был обещан дополнительный отпуск за каждого пойманного «диверсанта». Они старались, как могли, но наш народ был попросту гораздо умнее своих преследователей, так что пойман был только один из группы, да и то по чистой случайности.
При учебном центре была своего рода цирковая рота, назначение которой состояло в показных выступлениях для визитеров — нередко это был целый курс одной из военных академий, и их слушатели с изумлением наблюдали сцены, которые теперь знает любой зритель американских боевиков: проползание под настильным огнем, прыжки сквозь проем в стене, обмазанный горящим напалмом, кирпичи, разбитые жестким ударом кулака, и пр.
В нашу программу почти ничего из этого не входило, однако как раз к моменту выхода из активного резерва по возрасту мы освоили и лазанье по вертикальным каминам без каната, и скачок на высокую стену с разбега, и бег по раскачивающимся лестницам.
Больше мной никто не интересовался.