Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Британская политика последних двадцати лет в области высшего образования: убийство профессии
<…>
Британская политика в области высшего образования за последние двадцать лет была абсолютно катастрофической.
Когда приехавший из далекой страны человек делает столь апокалиптическое утверждение, естественной и разумной реакцией будет заподозрить его в преувеличении, а может быть – даже в истерии или паранойе. <…> В чем же специфика моего сегодняшнего выступления? Я желаю добра Японии вообще и японским университетам в частности. Я слышал, что вы собираетесь повторить некоторые из наших ошибок. Я горячо надеюсь, что смогу удержать вас от подражания стране, недавно разрушившей университеты, которые – по общему, как мне кажется, мнению – входили в число лучших университетов мира. Для этого я должен не только проанализировать то, что произошло, но и объяснить фундаментальные причины, которые завели нас в такой тупик. Я полагаю, что относительно высшего образования мы даже не ставили правильных вопросов, не говоря уже о верных ответах. Поэтому в заключительной части лекции я объясню мою собственную позицию и выскажусь о трех взаимосвязанных темах, которые считаю ключевыми: об истине в человеческом обществе, об образовании как человеческой деятельности и о профессионализме, или о том, что значит быть профессионалом. Попутно я рассмотрю дегуманизирующую иллюзию «количественной оценки», негативный эгалитаризм (также известный как зависть) и гордыню власти.
<…>
Самый важный печатный источник [среди тех, что я использовал] известен как Отчет Диринга[1]. В 1996 году правительство создало комиссию под председательством сэра Рона Диринга [Sir Ron Dearing], который незадолго до того провел реорганизацию почтового ведомства. Комиссии было поручено сформулировать перспективы высшего образования на ближайшие двадцать лет. Двенадцать ее членов были набраны, главным образом, из сферы высшего образования и из бизнеса и промышленности. Не были представлены ни Британская академия, ни Королевское общество (организации, объединяющие ведущих ученых, соответственно, в гуманитарных и естественных науках), ни, насколько я знаю, музеи и библиотеки. Эта комиссия была создана при поддержке обеих партий, поэтому несущественно, что начала она работу при консервативном правительстве, а отчет Диринг представил через четырнадцать месяцев уже лейбористскому. В Отчете 466 страниц и 93 рекомендации. Правительство отчет одобрило и большинство рекомендаций, вероятно, будут реализованы.
Начинается Отчет Диринга с обязательной трескотни – вводная заметка председателя комиссии завершается высокопарной цитатой из британского поэта-лауреата Джона Мэйсфилда о поисках истины и «достоинстве мысли и ученья». Эти темы исчезают после первой главы, и основная часть Отчета Диринга показывает, что комиссия если и помнила об этих идеалах, никакой связи между ними и политической прагматикой все же установить не сумела. Соответственно, хотя комиссия очень подробно рассуждает на темы, уже поставленные правительственной политикой на передний план, как-то: контроль качества, доступ (кто должен учиться в университете) и финансы, – на мой взгляд, она так и не затрагивает сути дела[2].
1. Фикция как правительственная политика
В 1992 году правительство Джона Мейджора [John Major] провело через парламент Акт о дальнейшем и высшем образовании, который радикально изменил ситуацию в высшем образовании. С 1965 года британское высшее образование было организовано по так называемой «бинарной системе» – бинарной, поскольку оно делилось на университеты и прочие вузы, главным образом политехнические и педагогические колледжи. Степени, присуждаемые в этих колледжах, утверждались Советом по общенациональным ученым степеням (Council for National Academic Awards)[3]; их программы были ориентированы на профессионально-технические и прикладные предметы, а преподавательский состав не был обязан публиковать научные работы – хотя, разумеется, никто этого не запрещал. Университеты получали не-целевые гранты от правительства – при посредстве небольшой организации ученых под названием Комитет университетских грантов (University Grants Committee, UGC)[4]; UGC обладал значительной автономией в распределении, а университеты – большой свободой в расходовании грантов, которые до конца семидесятых предоставлялись на пятилетний срок. Политехническими колледжами – как и государственными школами – ведало местное самоуправление, что придавало им региональный характер[5].
В 1992 году бинарная система была упразднена, и большинство политехнических и других колледжей были преобразованы в университеты, с соответствующими переменами в других разделах номенклатуры: их руководители стали ректорами [Vice-Chancellors, Principals], а большинство старших преподавателей – профессорами. [В Британии звание ‘профессор’ соответствует американскому ‘полному профессору’ (full professor), а британская ‘профессура’ (professorship) – то же самое, что в Америке ‘кафедра’ (chair)]. Сейчас в Комитете ректоров (Committee of Vice-chancellors and Principals, CVCP) 132 члена, а возглавляемые ими вузы подотчетны огромному новому бюрократическому органу – Совету по финансированию высшего образования Англии и Уэльса (Higher Education Funding Council for England and Wales, HEFCE)[6]. HEFCE и CVCP совместно финансируют еще одну организацию – Агентство сертификации качества (Quality Assurance Agency, QAA). Деньги на научные исследования поступают в университеты также через Научные советы (Research councils) и – для естественных наук – от контрактов с правительством и промышленностью. Показательно, что естественно-научные Советы подведомственны министерству торговли и промышленности и по своему уставу обязаны «распределять фонды таким образом, чтобы способствовать росту национального богатства… председательские посты в них занимают бизнесмены и среди их членов много людей, не связанных с высшим образованием»[7].
С 1992 года все университеты конкурируют за фонды на равной основе; все должны следовать единым правилам и применять единые критерии. Официально все степени, где бы они ни присуждались, стали равноценны. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь в эту равноценность верил, но это одна из тех неправд, которые мы обязаны произносить. Почти удвоив в одночасье число университетских студентов[8], преподавателей и ректоров, правительство в принципе не в состоянии поддерживать прежний университетский уровень ни в одной из этих групп, но фактически запрещено говорить вслух, что это управление с помощью фикций и что король голый. Кастрация CVCP особенно серьезна. У этого органа никогда не было больших полномочий, но он всегда выступал в защиту университетов. Насчитывая теперь 132 члена, он стал слишком громоздким, чтобы быть эффективным, и включает не только много мужчин (женщин там, разумеется, почти нет), не имеющих отношения к высшему образованию, но и множество соглашателей[9] и карьеристов – иные из которых умело пользуются делегированным им правом устанавливать собственные оклады.
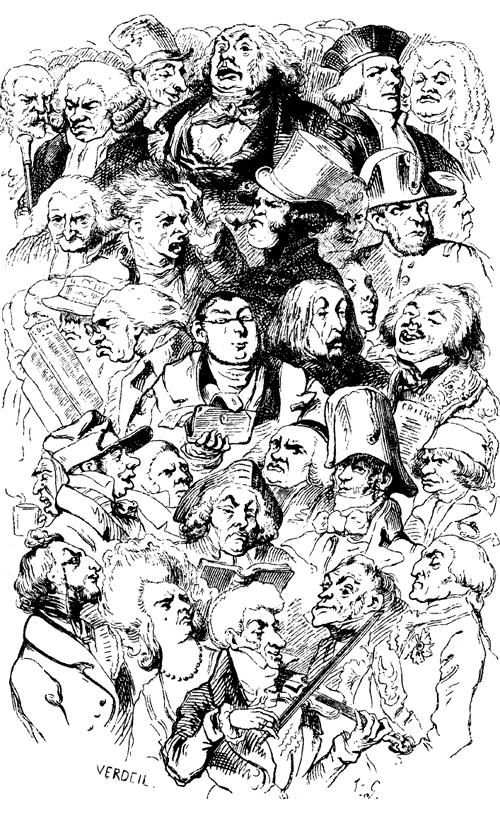
2. Количественная сторона дела
В 1961 году пять процентов молодых британцев учились в высшей школе; в 1997 году – 34 процента[10], и заявленная цель правительства – поднять их долю до 50 процентов. За последние двадцать лет число студентов выросло более чем вдвое, при том что государственное финансирование на одного студента (известное как «единица финансирования») упало на 49 процентов и продолжает снижаться – правительство объявило о плане урезать его на 0,8 процента в текущем году и на 0,9 процента за год в ближайшие два года. Только за период с 1980 по 1997 год отношение числа студентов к числу преподавателей почти удвоилось – с 9:1 до 17:1.
В 1994#1995 годах затраты университетов на книги и периодические издания упали до менее чем полутора томов на одного студента в год. Что же касается преподавательского состава, то отчет, составленный недавно по заказу правительства[11], показал, что только с 1980 года университетские оклады по сравнению со средним заработком работника нефизического труда снизились на 30%. И еще более печальный факт: к 1997#1998 годам 42 процента преподавательского состава работали по краткосрочным контрактам, и если нынешняя тенденция сохранится, то к 2003-2004 годам за штат будет выведено более 50 процентов преподавателей. Даже в Оксфорде все большая часть нагрузки приходится на сотрудников с краткосрочными договорами или с неполной ставкой – такие сотрудники, разумеется, обходятся нанимателю дешевле: у внештатных сотрудников нет многих льгот – например, пенсионных прав.
3. Агрессия госпожи Тэтчер
Несмотря на постоянный рост числа студентов, г-жа Тэтчер [Mrs Thatcher] беспощадно сократила финансирование высшего образования. После того как она впервые была выбрана премьер-министром в 1979 году, вошли в моду такие клише, как «сбросить жирок» и «вырубить сухостой». Ей, видимо, представлялось, что университеты с их персоналом – что-то вроде бочек с яблоками, которые нужно перебрать и гнилые выбросить, и что она – первая, кто сумеет это осуществить. Насколько мне известно, с тех пор так никто и не доказал, что вся эта перетряска уменьшила количество сухих деревьев и гнилых яблок или вообще привела хоть к каким-то положительным результатам.
Наверно, нужно остановиться и подчеркнуть этот момент, поскольку я предполагаю, что вас в Японии подстерегает та же опасность. Желая взять образование под контроль, правительство говорит о «реформах», но никогда не объясняет, что именно нуждается в реформе, в чем именно университеты ошибались, – то отделываясь бессодержательными фразами вроде «неспособность перестроиться», то пытаясь установить причинно-следственную связь между нашей деятельностью и каким-то отрицательным показателем, не имеющим к нам никакого отношения[12]. Дело здесь в том, что если бы университетам сообщили, какая коррекция необходима, они могли бы провести ее самостоятельно, без постороннего вмешательства, в то время как подлинная цель «реформы» – сделать университеты бессильными и бесправными. Равным образом, поскольку цели «реформы» формулируются так туманно, никогда не удастся проверить, оправдал ли перемены достигнутый результат.
Позвольте мне привести два запомнившихся эпизода из периода тэтчеровской экономии. Наш профессор иврита уходил на пенсию, и мы должны были убедить начальство, что саму должность необходимо сохранить и назначить ему преемника. Это была «королевская кафедра» (Regius Chair), т. е. такая, на которую назначает премьер-министр от имени монарха – хотя в наше время принято, чтобы премьер-министр не выбирал лично, а просто утверждал пожелания факультета. Однако г-жа Тэтчер никогда не упускала случая заявить собственную волю, поэтому мы сочли разумным посоветоваться с человеком, только что перешедшим в Оксфорд с высокой государственной должности, на которой он научился понимать премьер-министра. Мы показали ему проект нашего письма, начинавшегося так: «Королевская кафедра иврита в Оксфорде была основана Генрихом VIII». «Вычеркните это, -- сказал наш советчик, -- не то она сразу скажет: “Так не пора ли тут что-то поменять?”». С отношением к гуманитарным традициям, кажется, все ясно[13].
Но в естественных науках дела обстояли еще хуже. В Баллиол-колледж был приглашен гарвардский проректор профессор Дон Прайс [Don Price], работавший в администрации президента Кеннеди советником по науке. Однажды, оказавшись рядом с ним за ужином, я увидел, что он не может прийти в себя от какого-то потрясения. Днем перед нашими естественниками выступал государственный секретарь по образованию сэр Кейт Джозеф [Sir Keith Joseph], посетивший Оксфорд с неофициальным визитом. «Если вы хотите заниматься наукой, -- сказал он, -- мой вам совет – эмигрируйте».
На этом фоне становится ясно, почему в январе 1985 года конгрегация Оксфорда (своего рода преподавательский парламент), когда было предложено присудить премьер-министру, оксфордской выпускнице, почетную степень, отвергла это предложение 738 голосами против 319 – самый крупный перевес за всю историю подобных голосований. Сотрудники Оксфорда понимали, что, давая унизительный отказ премьер-министру, идут на политический риск, но это был единственный шанс выразить свой протест так, чтобы он был замечен в СМИ. Самую яркую речь произнес профессор Денис Нобл [Denis Noble], Ч. К. О.*, выдающийся кардиофизиолог и основатель организации «Спасите британскую науку». Он сказал, что политика правительства в области высшего образования «имеет непосредственнейшее отношение к главной задаче, ради которой существуем и мы, и другие образовательные учреждения, и грозит нанести этим учреждениям непоправимый урон… Премьер-министра не раз предупреждали, что фактически все, кто знает о нынешнем положении научных лабораторий нашей страны, глубоко встревожены… Сэр Кейт Джозеф в [недавней] речи… сказал, слишком многие лаборатории наших университетов полны оборудования, которому место в музеях промышленной археологии. Однако спустя шесть дней в парламенте он объявил о [колоссальном] сокращении в финансировании лабораторий»[14].
Как сообщил профессор Нобл, президент Королевского общества предсказал, что если дела пойдут так и дальше, то «вклад Британии в мировую науку резко уменьшится». К сожалению, это предсказание сбылось. Ровно месяц назад Нобл напечатал статью[15] о резком сокращении числа британцев среди лауреатов нобелевской премии и других крупных международных научных наград; он делает убедительный прогноз, что если оклады резко не повысятся, то упадок станет необратимым[16].
Для гуманитарных наук библиотеки – то же самое, что лаборатории для наук естественных, хотя обходятся библиотеки намного дешевле. Расходы на книги и периодические издания для университетских библиотек были, как я уже сказал, сокращены до минимума, но при этом правительственная политика, начатая при Тэтчер и продолженная впоследствии, заключалась в том, чтобы свести к минимуму и государственное финансирование культуры вообще. Музеям и библиотекам был нанесен очень тяжелый удар. Даже Британской библиотеке настолько урезали финансирование, что ей пришлось вообще прекратить закупки книг на некоторых языках. Можно было бы возразить, что Интернет делает книги ненужными, но как раз те книги, которые библиотека перестала покупать, с наименьшей вероятностью когда-либо переведут в электронный формат. Стоит таким упущениям в закупках продлиться несколько лет, и утраченные позиции будет уже невозможно вернуть, а библиотечное собрание уже никогда не станет качественным. Это означает, что в некоторых областях британским ученым придется рассчитывать только на зарубежные библиотеки, скорее всего – на Библиотеку Конгресса.
4/ Мотивы агрессии
8 июня 1984 года «Приложение к Таймс -- Высшее образование» напечатало длинную и подробно аргументированную передовицу под заголовком «Кошмар Поппера». Карл Поппер [Karl Popper], как вы, безусловно, знаете, прославился беспощадной критикой тоталитаризма и предупреждениями об опасности, которая заложена в слишком большом сосредоточении власти у государства. В передовице обсуждалась «колоссальная политическая ирония» того, что «ни одно предыдущее правительство не наращивало так успешно власть государства, одновременно объявляя своим заветнейшим желанием сокращение его полномочий». Редактор говорит (по-моему, неискренне), что любое правительство хотело бы «централизовать властные полномочия», но «начало 1980-х в будущем будет считаться решающим эпизодом в создании жестко координированной системы высшего образования под строгим централизованным управлением… Сэр Кейт Джозеф… – первый государственный секретарь [по образованию], обладающий властью для проведения общенациональной политики». Эту власть он приобрел благодаря сокращениям финансирования, а «кнут гораздо эффективнее пряника». Похвалив сэра Кейта Джозефа за такой способ приобретения власти, с помощью которой он «приспособит образование к потребностям современного общества» и заверив читателя (не очень убедительно[17]), что сэр Кейт Джозеф этой властью не злоупотребит, редактор цитирует Карла Поппера:
«Сторонник холистического планирования упускает из виду, что власть централизовать легко, но невозможно централизовать все знание, которое распределено по множеству индивидуальных сознаний и централизация которого была бы необходима для мудрого отправления централизованной власти. Однако у этого факта есть далеко идущие последствия. Не имея возможности узнать, что происходит в сознаниях множества индивидов, холист должен попытаться контролировать и унифицировать их интересы и убеждения с помощью образования и пропаганды. Но такая попытка властвовать над сознаниями неизбежно уничтожит последнюю возможность узнать, что люди на самом деле думают, поскольку такая попытка очевидным образом несовместима со свободным выражением мнений, особенно критических мнений. В конечном счете, она должна уничтожить знание как таковое; и чем больше выигрыш во власти, тем больше будет проигрыш в знании»[18].
Редактор заключает, что «возможно, есть какие-то основания для страха перед той атакой, которую тори повели против интеллектуального нонконформизма. Ведь то, что с вершины системы представляется всего лишь разумной административной политикой, тем, кто стоит внизу, может показаться смертельно опасной идеологической агрессией. Так мы приходим к попперовскому кошмару».
Г-жа Тэтчер составила себе имя как защитница свободного рынка, считавшая, что экономика функционирует наилучшим образом, если предоставить экономическим субъектам автономию. В частности, государство не должно «предвосхищать» решения бизнесменов. И она же стала величайшим централизатором власти за всю новейшую историю Британии[19] и энергично выступала за то, чтобы государство «предвосхищало» решения и местного самоуправления, и представителей свободных профессий – да и вообще всех граждан, кроме одних только бизнесменов. Я собираюсь рассмотреть, в какой мере ее (и последующих правительств) политика в области высшего образования следовала меркантилистским принципам, а в какой -- наоборот, принципам регулирования в экономике. Однако сперва я должен попробовать разъяснить менталитет -- или, точнее говоря, позиции, лежащие в основе такого подхода к образовательной политике.
В тот период, в начале 1980-х, Энох Пауэлл [Enoch Powell][20] напечатал в «Таймс» статью, в которой утверждал, что целью экономического роста должно быть развитие образования, а не наоборот. Ничего более далекого от взглядов г-жи Тэтчер нельзя даже вообразить. И хотя многие отмечали ее враждебность свободным профессиям, мало кто, кажется, понял корни этой враждебности.
Адвокаты, врачи и преподаватели – «профессионалы» в том смысле, что они исповедуют (profess) свое «призвание», аналогичное религиозному призванию, способствовать общему благу -- будь то правосудие, здоровье или образование. Выполнение их работы требует и компетентности, и этических обязательств[21]. Они получают плату за свой труд, но поскольку посторонний фактически неспособен этот труд оценить, одно из их этических обязательств -- не завышать цену. Они принимают ответственность за применение своей компетентности в интересах своих клиентов. Широкая публика хотя и относилась несколько подозрительно к адвокатам, в целом доверяла представителям свободных профессий и отдавала свои дела в ведение их профессиональной компетенции.
Для тэтчеризма все это ханжеская болтовня. Свободные профессии -- это группы интересов, точно такие же, как и любые другие группы интересов, а всякий интерес значит лишь одно -- экономический интерес. Если врачи хотят, чтобы на здравоохранение тратились деньги, то лишь потому, что хотят стать богаче. Слова «ответственность», «компетентность», «доверие» -- всего лишь дымовая завеса. Как в экономике правительство должно следить за тем, чтобы у деловых интересов было -- как сегодня выражаются – «ровное игровое поле», точно так же и здесь: оно должно разоблачить претензии так называемых «профессиональных» групп интересов и выровнять игровое поле, чтобы у врачей было не больше привилегий, чем, скажем, у мясников.
В своей вере, что реальна только экономика, а все остальное -- лишь рационализация, г-жа Тэтчер вторит введенному Марксом противопоставлению базиса и надстройки. Так что ирония здесь еще более глубокая, нежели та, на которую указал редактор «Таймс»: самый правый премьер-министр Британии был также и самым большим марксистом. Крайности сходятся.
Убеждение, что в конечном счете имеют значение только деньги, привело наших правителей к логической ошибке, объясняющей многие бедствия, которые постигли нашу образовательную систему. Если экономика – единственная реальность, то, значит, у всего есть своя цена, из чего следует, что все – или, по крайней мере, все существенное – можно посчитать, оценить по количественной шкале. Более того, бюрократы могут точно измерить и оценить только количество. Все, чего нельзя подсчитать, «не считается» и во всех прочих смыслах.
Не только марксизм оказал значительное влияние на г-жу Тэтчер. По происхождению она принадлежала культуре протестантского нонконформизма[22]. Старейшее течение этого нонконформизма -- кальвинизм, пуританство. Пуританство одновременно выступает и за богатство, и против роскоши. Кальвинисты всегда верили, что праведники узнаются по приобретению мирских богатств, что это знак Божьего благоволения. Поэтому разбогатеть не только приятно, но даже нравственно. Зато роскошь накоплению богатства мешает; наслаждение нужно отложить до загробной жизни. Когда г-же Тэтчер, посещавшей свой оксфордский колледж, представили студентку и сказали, что та занимается средневековой историей, она воскликнула: «Надо же, какая роскошь!» Это не было похвалой.
Самым влиятельным нонконформистским движением на Британских островах был методизм Джона Уэсли [John Wesley]. Уэсли не доверял интеллекту. В протестантской традиции, начиная с Лютера, считалось, что спасение достигается только верой, а интеллект в целом скорее враг, нежели друг веры. Обладающий им человек полагает, будто сам все знает, и, следовательно, впадает в грех гордыни. Британская культура испытывает настоящий ужас перед «умничаньем». Даже в школах учителя одергивают детей, которые слишком часто и слишком быстро дают правильные ответы: «Смотри, как бы у тебя голова не закружилась».
Английский язык -- наверно, единственный в мире, где слово ‘умный’ не обязательно означает похвалу, хотя из словарей вы этого не узнаете. Очень хорошо, если собака умна, что проявляется в том, как она ловит мяч, и прекрасно быть умным, т. е. умелым, в конкретном деле или даже иметь «умные руки». Иначе говоря, ‘умный’ – одобрительное слово, когда речь идет об умениях или хорошей выучке. Но если умным называют самого человека, имея в виду его ум как таковой, не конкретное достижение, а общий потенциал, то здесь звучит сильный обертон моральной сомнительности. Это имеет колоссальные -- на мой взгляд, катастрофические -- последствия для представления британцев о соотношении образования и выучки. Это же помогает объяснить, мягко говоря, недоверие г-жи Тэтчер к ученым и интеллектуалам.
5. Главные элементы политики: меркантилизм и дирижизм
Под «меркантилизмом» я подразумеваю веру в ценность свободного рынка. В высшем образовании мы особой рыночности пока что не наблюдали, несмотря на всю риторику. Яркий пример системы высшего образования, основанной на принципах свободного рынка, -- образовательная система США. Преклонение перед этой системой, видимо, объясняет, почему в последние годы британские университеты принуждались следовать американской модели во многих аспектах, пусть даже эти аспекты не имели к свободному рынку никакого отношения. За исключением Оксфорда и Кембриджа все английские университеты перешли от нашего традиционного трехчастного академического года на американскую систему двух семестров. Они также отказались от традиционных бакалаврских программ, составленных из одного или двух предметов, -- программ, стимулирующих стремление к более глубоким знаниям, ради американской «модульной системы», при которой студенты набирают курсы по многим предметам, длящиеся обычно не больше одного семестра. Поскольку по каждому курсу сдается экзамен, то сдача экзаменов занимает намного больше времени, чем при прежней системе, при которой экзамены сдавались только в конце академического года[23]. Прием экзаменов, как и любая аттестация, -- это форма административной работы и отнимает время у того, что прежде считалось главной обязанностью университетских преподавателей, -- т. е. у преподавания, и она научной работы. В некоторых наших университетах между пасхальными и летними каникулами почти не ведется преподавания: преподаватели все время принимают экзамены.
Через двадцать лет после прихода Тэтчер к власти в британском высшем образовании нет свободного рынка по той простой причине, что университеты даже не имеют права назначать собственные цены. Уровень окладов устанавливает правительство. Сейчас идет дискуссия относительно того, как и сколько должны платить студенты, но поскольку этот вопрос еще не решен, я не буду его обсуждать -- скажу только, что университеты прозябают в такой нищете, что для них важнее всего -- раздобыть хоть чуть-чуть больше денег, неважно, как и откуда[24]. Если университет должен строиться по образцу коммерческого предприятия, то остается совершенно неясно, кто же здесь покупатели -- студенты или налогоплательщики. Модель оказывается двусмысленной. Также неясно, что за продукт производит высшее образование: иногда кажется, что это студенты, иногда -- что это национальное богатство. При такой невнятности и двусмысленности в политике, руководящей университетами, неудивительно, что они становятся легкой мишенью для критики, которая, в свою очередь, используется для оправдания еще большего контроля.

В правительственной риторике принято изображать студента покупателем (услуг университета); особенно охотно прибегало к такому переключению оптики правительство Джона Мейджора [John Major]. Но только самый глупый покупатель купит кота в мешке -- поэтому у студента должна быть возможность рассмотреть товар. Прежде образование понималось так: человек вручает себя учителю, веря, что тот даст ему то, что нужно. До некоторой степени эта модель еще сохраняется у врачей, поскольку мало кто считает себя достаточно компетентным, чтобы самому оценивать свои медицинские надобности; соответственно, врачи еще не до конца утратили свой профессиональный статус. В высшем образовании один из самых частых сегодня лозунгов -- «прозрачность». Вы обязаны выложить товар на прилавок, чтобы покупатель мог его рассмотреть, обдумывая покупку. Это отнюдь не сводится к рекламированию в Интернете предметного наполнения курсов. И недостаточно пообещать ученику, что вы обязуетесь использовать свою компетентность ему на благо; это считается «субъективным» и потому неприемлемым. Бюрократу нужны так называемые «объективные», т. е. количественные критерии[25]. Слово «education» (образование) восходит к латинскому корню со значением ‘вести, руководить’ -- но продавец покупателя вести не может, он может его только сбить с толку. «Покупатель всегда прав» -- вот главный девиз меркантилизма.
На практике, разумеется, большинству студентов хватает здравого смысла, чтобы не вести себя как покупатели. Клиент, которому мы действительно стараемся угодить, -- не студенты, а правительство. Правительство заявляет, что действует лишь в качестве агента налогоплательщиков, но вряд ли мы можем считать налогоплательщиков нашими покупателями, так как бессмысленно пытаться что-то продать тому, с кем нет обратной связи. Нет здесь и рынка. На свободных рынках чей-то бизнес терпит крах, чей-то преуспевает или даже доминирует. В сфере же образования наше правительство, с одной стороны, не хочет ни того, чтобы какой-либо университет потерпел крах и обанкротился, так как это означало бы потерю уже вложенных в него казенных денег, ни, с другой стороны, того чтобы какой-либо университет слишком преуспел коммерчески. Когда недавно один ректор предложил, «чтобы государственное финансирование распределялось пропорционально тем средствам, которые университеты добывают собственными силами», то член Комитета по образованию Палаты общин похоронил это предложение одной фразой: «Боюсь, что <…> это приведет к тому, что университеты вроде Оксфорда и Кембриджа получат уйму денег»[26]. Мы еще встретимся с этой весьма британской формой эгалитаризма. Здесь проявляется не только зависть. Это еще и неразличение между равенством шансов и равенством результатов («все должны получить призы»), особенно распространенное в лейбористской партии, которая извратила идею общеобразовательных средних школ при их введении в 1960-е и 1970-е годы[27]. Рынки подразумевают состязательность, но и по этому поводу у нас много разговоров и мало действий[28].
Хотя в британском высшем образовании и нет никакого рынка, я думаю, что нищенство -- тоже своего рода предпринимательство. Мы это называем «добывание фондов». Это распространенное занятие в Америке, где университеты располагают целыми стаями профессиональных «добывателей денег» и существует так называемая «культура дарения»; даже в систему подоходного налога заложена предпосылка, что человек тратится на благотворительность. В Британии люди считают, что они и так поддерживают культурные учреждения, включая университеты, своими налогами, и не одобряют идею, будто они должны давать что-то сверх того. Однако теперь любой университетский преподаватель, если он любит свой предмет и хочет его сохранить, обязан добывать деньги. Я знаю, что когда я уйду в отставку, занятия буддизмом в Оксфорде прекратятся -- если только деньги не поступят из частных источников. Мне не нравится добывание денег, я этому не обучен и поэтому, наверно, не очень большой мастер в этом деле; но выбора у меня и других преподавателей фактически нет.
Зависимость от добывания денег имеет специфические минусы для учреждений, деятельность которых связана с истиной. Разве реклама -- самая правдивая форма человеческой коммуникации? Мы знаем, что американские университеты, при всех своих прекрасных свойствах, к сожалению, буквально пропитаны блефом и преувеличениями в совершенно невообразимых масштабах. Когда американцу нужна рекомендация от британского преподавателя, он вынужден нам напоминать, что для его рынка нельзя писать так, как мы написали бы для британского. Там никто не получит работы, если в характеристике не будет написано, что он как минимум «суперзвезда», ну а само слово «средний» в любом контексте -- просто поцелуй смерти. Добывая деньги, очень трудно не искажать истину. Большая часть денег приходит от бизнесменов, а они, разумеется, предпочитают давать деньги на те предметы, которые им кажутся полезными. Я думаю, что специальность «менеджмент» -- единственная в Оксфорде, не испытывающая недостатка в финансировании[29]. Трудно достать денег на экономику или социологию, гораздо легче -- для прикладной области вроде маркетинга; в результате сотрудник университета с большой вероятностью оказывается перед выбором: либо притворяться, что он занимается тем, чем он на самом деле не занимается, либо заниматься именно тем, за что ему платят, -- т. е. он выбирает между обманом и проституцией. Выбор довольно-таки унизительный.
Скоро у нас в Оксфорде будет еще больше коммерции. Бюджеты будут спущены на отдельные факультеты, которые будут называться «сметные центры» и обладать значительной финансовой автономией. Факультет получит право, например, не платить жалованье преподавателю санскрита, а пустить эти деньги на преподавание турецкого языка, на оборудование новой преподавательской комнаты или покупку новых компьютеров. В этом я вижу и позитивную сторону, но это также значит, что преподаванию и научной работе мы будем уделять еще меньше времени. Но кого это волнует кроме самих сотрудников?
Тенденция последнего времени -- чтобы мы сами добывали деньги и, может быть, даже сами решали, как их потратить, -- единственный меркантилистский элемент в британской образовательной политике, которая в целом определяется идеями дирижизма [регулирования]. Мы забюрократизированы до невероятной степени. Я связан с одним новым университетом и помогал ему выстроить несколько индологических курсов. По ходу дела мне пришлось прождать целый день, чтобы выступить перед двумя комитетами. Во время ожидания я разговорился с профессором истории, который выступал вместе со мной, и он рассказал, что из-за деловых встреч и заседаний у него на лекции остается всего час в неделю. После заседания я должен был заполнить трехстраничный формуляр с вопросами относительно моего мнения о той комнате, в которой я выступал. Называется это «контроль качества» -- выражение из оруэлловского новояза, поскольку контроль здесь понимается так же, как и в выражении «контроль загрязнения», т. е. как поддержание контролируемого фактора на возможно низком уровне.
Центральный пункт идеологической программы нашего «контроля качества» -- это концепция «прибавочной стоимости», безусловно прямиком взятая у Маркса[30]. Называется это «прибавочная стоимость на одного студента». Чтобы подсчитать эту цифру, вы берете стоимость студента, когда он поступает в университет, и его стоимость, когда он университет кончает (обычно три года спустя, получив первую степень), и вычитаете первое из второго; затем вычисляете среднее значение для всех студентов, выпущенных за данный период. Маркс писал об отчуждении, т. е. об обращении с людьми как с объектами, но вряд ли даже он предвидел такое превращение студентов в товар. Оксфорду и Кембриджу трудно иметь хорошие показатели по «прибавочной стоимости», потому что мы принимаем уже «дорогостоящих», т. е. хорошо подготовленных, студентов; так что эти расчеты имеют примерно тот же эффект, что и предостережения английского учителя, -- нам советуют не умничать.
Но самое главное, «контроль качества» -- это способ отнять у преподавателя права, признанные за свободными профессиями. Во время недавней инспекции оксфордского преподавания инспектор присутствовал на беседе преподавателя истории и подопечного ему студента. Студент прочел свое эссе, и началось обсуждение, во время которого преподаватель встал и достал из своего книжного шкафа книгу, чтобы показать ее студенту. Инспектор спросил, есть ли эта книга в программе. В программе ее не было -- и преподавателю было официально указано на недопустимость введения в преподавание предварительно не объявленных пособий. Итак, не одобряются ни спонтанное взаимодействие со студентами, ни свободное применение собственной компетентности.
Моделью для университета стала фабрика. Наша фабрика осуществляет массовое производство подготовленных студентов, тем самым прибавляя стоимость к поступающему на нее сырью. Функция преподавателей -- рабочих у конвейера -- состоит лишь в том, чтобы применять механические процедуры, одобренные менеджментом и проверяемые инспекцией. А раз они всего лишь рабочие, то и платить им, разумеется, надо соответственно. Последние объявления о вакансиях показывают, что секретарь в университете и молодой ассистент получают одинаковую зарплату -- чуть больше шестнадцати тысяч фунтов в год. В Оксфорде на такие деньги нельзя купить даже крошечного дома или содержать семью.
Наши правители, естественно, заявляют, что они контролируют не то, что мы делаем, а лишь то, как мы это делаем. Такие заявления -- либо глупость, либо обман, поскольку две эти вещи неотделимы одна от другой, что и было сказано в передовице, которую я цитировал. Как же нас теперь регулируют? Я мог бы рассказать вам об ужасах Научной аттестации (Research Assessment Exercise, RAE) или Аттестации качества преподавания (Teaching Quality Assessment, TQA), но они происходят лишь раз в четыре или пять лет. Поэтому я лучше приведу примеры тех нововведений, с которыми приходится сталкиваться почти ежедневно.
6. Устранение профессиональной ответственности
Мой первый пример -- схема, которую мы в Оксфорде сами у себя завели, но которая гармонирует с повсеместными принципами «контроля качества». Они уже настолько укоренились, что, наверно, мало кто поймет, на что тут жаловаться.
Аспирантура в Оксфорде организована приблизительно следующим образом. После приема аспирантским комитетом соответствующего факультета аспирант получает руководителя. Руководитель в конце каждого семестра пишет отчет о работе аспиранта; эти отчеты читают председатель аспирантского комитета и личный консультант аспиранта из его колледжа -- и любой из них имеет право вмешаться, если ему покажется, что что-то идет не так. Аспирант может поменять руководителя -- по своему или руководителя желанию, -- хотя случается такое нечасто. Когда студент представляет свою диссертацию, ее рецензируют два человека (но не руководитель), выбранные аспирантским комитетом (часто по рекомендации консультанта и всегда с согласия аспиранта -- в том смысле, что аспирант имеет право возразить против предложенной кандидатуры рецензента). Один из рецензентов обычно из Оксфорда, иногда -- оба. Руководитель исключен из процесса рецензирования и оценки. Карьера аспиранта между приемом и представлением диссертации формально разделена на три ступени: чтобы перейти с одной на другую, он должен представить письменную работу, а руководитель -- эту работу одобрить.
За последние десять лет эти процедуры очень усложнились. На обеих промежуточных стадиях письменную работу аспиранта оценивают два человека, но не руководитель; они также проводят с аспирантом собеседование и посылают в аспирантский комитет письменный отчет. Любой приличный руководитель и без того посоветовал бы аспиранту обратиться к специалисту, если это требуется; такие консультации никогда никак не ограничивались. Да и просто в большинстве жизненных ситуаций ум хорошо, а два лучше. Но мы теперь завели многократную бюрократическую перестраховку. У нынешней системы четыре минуса -- два для аспиранта и два для преподавателей.
Во-первых, сами аспиранты считают, что теперь они проходят три проверки вместо одной, поэтому их нервное напряжение пропорционально растет. Во-вторых, в науке не так уж много проблем, по которым пять или больше ученых имели бы единое мнение, и в результате аспирант получает самые разноречивые советы.
Для преподавателей же увеличился объем экзаменационной нагрузки, тогда как дополнительные экзамены и проверки -- это разновидность административной работы, и поэтому они должны быть сведены к минимуму, чтобы оставить человеку время и энергию для преподавания и научной работы. Но еще хуже последний минус. Традиционные отношения между преподавателем и учеником заменил безличный механизм. С преподавателя снята ответственность за аспиранта; более того, эта ответственность не лежит теперь вообще ни на ком; если что-то идет неправильно, то это просто сбой системы, за который никто не отвечает. Равным образом, если все идет хорошо, никому это не ставится в заслугу: с какой стати аспирант будет благодарен руководителю, если тот просто выполняет свои функции согласно предписанным процедурам?
Руководитель фактически утратил право решать, готова ли диссертация к представлению. За это отвечает более высокое начальство -- правительственные органы. К своему вечному позору Британская академия, которая одно время играла роль Научного совета в гуманитарной области (хотя и исключительно нищего), в 1991 году решила[31] дать правительству рекомендацию (правительством, разумеется, принятую[32]) ограничить срок аспирантуры тремя или самое большее четырьмя годами. Стояло за этим стремление не к экономии, а к власти. Ученые-естественники, начинающие научную деятельность в намного более жестко контролируемой обстановке, обычно представляют докторскую работу, сделанную за три года. Гуманитарные аспиранты готовили диссертацию намного дольше -- хотя и не так долго, как американские гуманитарии.
Если человеку повезет и он попадет в число тех очень немногих, кто получает аспирантские гранты от государства, то грант этот будет рассчитан на три или -- в очень редких случаях -- на четыре года работы. Если аспирант работает дольше, то уже целиком за собственный счет: государству он не стоит ничего, а предельная стоимость его присутствия в университете неисчислимо мала. Тем не менее любой гуманитарный факультет, на котором аспиранты не укладываются с представлением диссертации в четыре года, будет наказан -- его лишат оплаченной государством аспирантуры. Причем причины промедления не играют никакой роли: болел ли аспирант, параллельно где-то еще работал или был вынужден выполнять какие-то семейные обязанности -- наказание на факультет налагается в любом случае[33].
Прежде для получения докторской степени диссертацию должны были признать «оригинальным вкладом в науку». Эту формулировку заменили на следующую: «значительный и существенный вклад», которая в инструкциях толкуется так: «При оценке значительности и существенности работы рецензенты должны исходить из разумных требований, какие можно предъявлять способному и добросовестному аспиранту после трех или, самое большее, четырех лет занятий».
В инструкции Британской академии даже прямо говорится (в параграфе 8), что «требования, предъявляемые некоторыми учеными и учреждениями к докторским диссертациям в области гуманитарных наук, хотя и вызывают уважение, однако слишком высоки». В феврале 1992 года Баллиол-колледж отправил президенту Британской академии письмо с аргументированным протестом[34], которое, разумеется, осталось без последствий. Новая политика означает, писалось в письме, что «диссертации, защищаемые в британских университетах, уже не будут серьезными научными работами, сопоставимыми с диссертациями, защищаемыми в любом другом европейском университете».
Некоторые руководители идут на риск, продолжая поддерживать высокие требования, хотя это означает бесконечные запросы начальства и может привести к попаданию их кафедры в черный список. Возможно, в своих ответах начальству они уклоняются от истины, но по крайней мере они избавляют себя от гораздо худшей лжи -- от соучастия в политике фикций и поддержания иллюзии, будто оксфордский докторат значит то же самое, что и прежде.
7. Современный консенсус: университеты как инструменты социальной и экономической политики
В начале прошлого месяца премьер-министр Тони Блэр [Tony Blair] выступал в Оксфорде с лекцией об образовании. О высшем образовании он имел сообщить лишь две вещи: что оно должно привлекать больше молодежи из рабочего класса[35] и что оно должно поддерживать международную конкурентоспособность Британии (в экономическом смысле)[36]. И действительно, в наши дни способствование социальному равенству и экономическому росту -- вот две главные темы при любом обсуждении университетов. Я от всей души поддерживаю обе задачи, поставленные правительством. Но являются ли университеты инструментами для решения этих задач?
Университеты могут переместить из рабочего класса в средний класс какой-то процент молодежи -- однако совершенно недостаточный для значительного воздействия на структуру общества.
Кроме того, чем в меньшей степени тот университет, куда они поступают, остается настоящим университетом, тем меньше он может сделать для студентов. Проблемы классового разделения требуют разнообразных мер по многим направлениям, и эти меры должны коснуться ребенка задолго до того, как он или она достигнут студенческого возраста. Крупнейшая проблема здесь -- это родительские амбиции, а чтобы их изменить, может потребоваться целое поколение.
Главный вклад в экономический рост университеты должны вносить с помощью прикладной науки. А она не сможет развиваться, если мы не будем заниматься фундаментальной наукой, а фундаментальная наука не сможет развиваться в университетах, если у них не будет денег на зарплату и оборудование. Британскую науку держат на голодном финансовом пайке уже много лет, и с такими мизерными вложениями опять-таки будет лицемерием ожидать большой отдачи.
Если у наших университетов будет хорошая репутация за границей, они смогут зарабатывать, привлекая иностранных студентов -- и они действительно до сих пор их привлекали. Но чтобы продолжать эту деятельность, им нужно поддерживать престиж британских степеней. Увы, у нас есть нагляднейшие свидетельства, что соблазн краткосрочных выгод убивает курицу, несущую золотые яйца. Подмена истинного профессионализма так называемым «контролем качества» -- это фикция оруэлловских масштабов.
8. Принципиально иное представление об университетах
Наш премьер-министр, судя по всему, считает, что задача университетов – содействие реформированию общества и экономическому прогрессу. Я хотел бы изложить, максимально кратко, альтернативную точку зрения.
Общественные институты работают лучше всего тогда, когда у них есть ясные цели и когда они приспособлены к достижению этих целей. Больницы нужны, чтобы лечить больных, оркестры – чтобы исполнять музыку, и их надо использовать именно для этих целей, вверять ведению понимающих эти цели профессионалов и оценивать лишь по тому, как они эти задачи выполняют. Университеты нужны ради истины -- чтобы поощрять ее поиски (любознательность) и уважение к ней в любых обстоятельствах.
Возникают два вопроса. Нужны ли нам поиски истины? И являются ли университеты единственным институтом с такой задачей? Сначала разберемся со вторым вопросом: претендовать на поиски истины могут и религиозные организации – но они интересуются лишь немногими проблемами и остаются совершенно равнодушны к большинству вопросов, которые задает наука; более того, они не готовы ставить под вопрос абсолютно все и идти вслед за истиной, куда бы она их ни повела. Ученые сейчас, по их собственным словам, вот-вот создадут искусственную жизнь. Возможно, они поступают разумно, спрашивая мнения церкви на этот счет, но важно помнить, что сама церковь никогда бы не сделала такого открытия, а ученые не обязаны следовать ее советам.
Но нужны ли нам институты, приверженные истине? Вспомните о многих местах, где таких институтов не было или нет, например, о странах, в которых правили Гитлер и Сталин. Британия своим парламентом подарила миру идею лояльной оппозиции Ее Величества. Очень странно и очень печально, что сегодня наши политики не понимают, зачем стране нужна постоянная и сильная лояльная оппозиция, умеющая задавать вопросы и не принимать отговорки в качестве ответов. Хуже того, и ученых вынуждают лгать и потворствовать полуправде. Но истина важна повсюду, не только в политике. Вспомните о скудости интеллектуальных достижений при Гитлере, Сталине или других тоталитарных режимах. С чисто практической точки зрения за заботу о ней истина воздает сторицей. Но у нее есть не только практическая ценность.
Это возвращает нас к образованию. Я полагаю, что общество требует от государства четырех вещей -- безопасности, правосудия, здоровья и образования. Между здоровьем и образованием, т. е. между полноценным физическим и интеллектуальным развитием, существует очевидное подобие. К сожалению, отношение к ним очень разное -- по крайней мере, в Британии. Телесная болезнь считается исключением, требующим вмешательства, а здоровье -- обычным, нормальным состоянием. К интеллекту относятся противоположным образом: необразованное невежество считается естественным состоянием, а любое вмешательство, чтобы это невежество исправить, – своего рода привилегией, или, как сказала бы г-жа Тэтчер, роскошью. Может ли бедная Британия позволить себе такую роскошь? В восьмидесятые годы кому-то пришла в голову блестящая идея выпустить для людей вроде меня значок с такой надписью: «Если вы считаете, что образование слишком дорого, попробуйте невежество». Как я сказал, англичане боятся и стыдятся «умничанья». Именно поэтому в глазах общества университеты имеют право на существование как места для подготовки к трудоустройству, а не из-за образования, которое они дают. Образование пролезает через черный ход под видом – говоря на сегодняшнем языке – «многопрофильных умений»: способность рассуждать или бегло выражать свои мысли повышает профпригодность в любой специальности и потому оправданна в практических терминах. Столь же полезны, возможно, и менее явные навыки, развиваемые высшим образованием: любознательность, критический подход, чувство ответственности, всечеловеческая отзывчивость, эстетическое чутье, независимость духа. Кстати, мои коллеги-естественники разделяют мое убеждение, что эти способности развиваются – и в не меньшей степени нужны -- не только в гуманитарных, но и в естественных науках. Но их принципиальное оправдание – не практическое. Это качества, которые делают нас полноценными людьми. Как говорит Улисс у Данте: «Вы созданы не для животной доли, // Но к доблести и к знанью рождены»[37]. Вот чего никак не могут понять наши правители: образование – это человеческая деятельность[38]. Оно должно быть человеческим и по своим методам и по своим результатам, поскольку две эти вещи нельзя разделить. Получение запрограммированной информации из компьютера -- дело полезное, но это профподготовка, а не образование. Если оглянуться на наше собственное образование, то большинство из нас вряд ли вспомнят так уж много конкретных вещей, которым нас научили; мы помним учителей. Хорошие учителя – вот кто влиял на нас, и вот к кому мы испытываем благодарность, когда проверяемое на экзаменах содержание того, чему они нас учили, давно уже забыто.
Причина успеха Оксфорда и Кембриджа страшно проста: студентов учат индивидуально. Более того, система колледжей дробит огромный персонал современного университета на достаточно маленькие коллективы, так что все мы знакомы друг с другом лично, а поскольку мы сталкиваемся в самых разных ситуациях, не только на семинарах или лекциях, то видим друг в друге целостную личность. Поэтому мои студенты – это мои друзья, и они сохраняют со мной связь в течение многих лет после того, как окончат Оксфорд. Это дорогая система, однако мне кажется, что в данном случае за дорогую цену предлагается действительно стоящий товар, и если общество сочтет эту цену слишком высокой, то будет утрачено что-то уникальное. Алмазы действительно дороги; но цена поддельных алмазов вообще никого не интересует.
Образование -- это процесс, протекающий в человеческом общении – не только между учителем и учеником, но и между однокашниками и коллегами. Поэтому нам и нужны научные коллективы. У этих коллективов столько же недостатков, сколько и должно быть у людей. Но уникально в них то, что они свою недостаточность сознают и признают. Хороший ученый очень часто говорит: «Не знаю» или «Не уверен»; он также говорит, что можно сделать, чтобы узнать, или объясняет, почему достоверность недостижима в принципе. Эту интеллектуальную честность систематически уничтожают. Подобно доверию, компетентности и ответственности, интеллектуальная честность считается не имеющей денежной ценности, а значит – ненужной. В том обществе, в каком мы сегодня живем, оплата – точный показатель общественного уважения[39].
В 1993 году Конрад Рассел [Conrad Russell] выпустил книгу «Научная свобода»[40]. Большая ее часть написана в 1991 году, но в книге есть еще и скорбный «Эпилог (апрель 1992)», написанный под впечатлением Акта о дальнейшем и высшем образовании, принятого в том году. Мне очень хотелось бы прочесть вам весь этот эпилог целиком, поскольку кончина университетской науки и образования описана там гораздо ярче и убедительнее, чем могу описать ее я, – но он слишком длинный. Процитирую всего один абзац:
«Идея университетской свободы предполагает и определенную сферу профессиональной автономии. Должно быть признано, что какие-то вещи являются профессиональными вопросами и, соответственно, должны решаться профессионалами по профессиональным стандартам. Именно эту сферу сейчас сокращают практически до нуля… Если мы не вправе решать, как преподавать, или какими должны быть критерии присуждения степени и в чем ее смысл и цель, или достоин ли человек приема в университет, то какую же свободу нам оставили? У профессионалов должны быть свои стандарты -- без них не будет ни самоуважения, ни пользы для общества. Если все эти стандарты, один за другим, нужно принести в жертву на алтарь “эффективности”, то с какими же профессионалами мы в результате останемся? Почти все, что теперь предлагается делать сотрудникам университетов, большинству из них кажется неправильным. Их мнение может быть ошибочно (а возможность этого надо допустить), но пока они его придерживаются, добросовестность обязывает их поступать в соответствии с ним. Поступая иначе, они утратят всякое право и на общественное уважение, и даже на самоуважение. А никто, утратив профессиональное самоуважение, не сможет долго оставаться хорошим работником»[41].
Академическая профессия, как некоторые продолжают ее называть, была деморализована, доведена до нищеты и унижена. Самое лучшее, что может сделать молодой ученый, -- это последовать совету сэра Кейта Джозефа и эмигрировать в Америку[42]. Кажется ли вам теперь, что моя первая фраза была преувеличением?
А. Приложение 1: Комплектование университетов сегодня
Дебаты в палате лордов мне интересны прежде всего тем, что было сказано о комплектовании университетов. Я опираюсь на отчет, напечатанный в «Таймс» Уильямом Рис-Моггом [William Rees-Mogg], который был главным редактором этой газеты, пока ее не купил Руперт Мердок [Rupert Murdoch]. Рис-Могг резюмирует:
«Было достигнуто единое мнение, что в свете задач, возложенных на британские университеты, они недофинансируются и что наши лучшие университеты отстают от лучших университетов США; что оклады слишком низки -- намного ниже, чем у сотрудников государственного аппарата; что слишком много энергии расходуется на выполнение требований бюрократии; что процент бросающих учебу слишком высок; что студенты за время обучения накапливают непомерные долги; и что заполнение университетских должностей неудовлетворительно, особенно в естественных науках».
Затем он приводит данные, согласно которым четверть всех профессорских кафедр хирургии пустует, равно как и 74 кафедры клинической медицины, из которых половина оставалась вакантна более года.
В Оксфорде уже стало привычным, что те, кто возглавляет список кандидатов на профессорскую кафедру, отклоняют приглашение – и не только в естественных науках. Человек, занимающий профессорскую кафедру за границей, практически не может себе позволить переехать в Британию. Вот недавний случай, о котором я знаю из первых рук: если бы человек принял приглашение на престижную оксфордскую кафедру, ему пришлось бы выполнять втрое больший объем работы за втрое меньшую плату по сравнению с его нынешней загруженностью и окладом. Само собой разумеется, что подобные случаи с отклоненными приглашениями не подлежат огласке; но они крайне серьезны. Если же взять другой конец шкалы, то ни один молодой талант не пойдет работать в британский университет, поскольку будет получать там вдвое меньше, чем в любом другом месте, а всерьез заниматься наукой – что тоже могло бы привлечь его в университет – у него не будет ни времени, ни возможности. Конечно, нет статистики утечки мозгов, а если бы она и была, то не охватывала бы ни тех, кто свою преподавательскую карьеру начал уже за границей, ни ученых-иностранцев, которые попробовали поработать в британском университете и решили (иногда с сожалением), что не могут остаться из-за слишком невыгодных условий. В конце концов, все лучшие университеты комплектуют свои штаты интернационально – о чем наши правители решили раз и навсегда забыть.
Я родился в семье ученых, и двое моих собственных детей (которым теперь за тридцать) с отличием кончили один из лучших университетов – один в естественно-научной, другой – в гуманитарной области. Ни один из них даже не рассматривал возможность научной карьеры.
Конрад Рассел (см. основной текст, прим. 40) в 1992 году написал: «Те, кто может покинуть тонущий корабль (переехав в Америку, раньше срока уйдя в отставку или переменив профессию), видимо, будут так поступать все чаще и чаще. Но из-за этого не становится яснее курс, которым должны следовать те, кто не покинул корабль и отвечает за то, что еще цело». Мы по-прежнему ждем этой ясности.
В. Приложение 2: Статистика расширения
Впервые крупное плановое расширение британского высшего образования произошло вследствие Отчета Роббинса [Robbins Report] (1963). В то время в Британии насчитывался 31 университет. С тех пор было опубликовано множество статистических данных, но сравнить их непросто, поскольку критерии и методы подсчетов менялись. Соответственно, используя эту статистику, нужно помнить, что она дает лишь приблизительное представление о ситуации. Также полезно иметь в виду, что за рассматриваемый период численность населения Британии почти не изменилась.
|
1960
|
Чуть больше 200 000
|
|
1970
|
Чуть больше 400 000
|
|
1980
|
Почти столько же
|
|
1990
|
Около 650 000
|
|
1997
|
Около 1 160 000
|
В 1997 году, к моменту составления Отчета Диринга, число студентов в других (кроме дневной) формах высшего образования оценивалось в полмиллиона; я полагаю, что в этой цифре учтены студенты самого большого университета в Британии – Открытого университета.
Оценки числа университетов варьируются в поразительно широком диапазоне. В 1997 году в Отчете Диринга говорилось: «Сегодня в Соединенном Королевстве 176 высших учебных заведений, из которых 115 именуются университетами…» (разд. 3.83). Число членов CVCP, которое я называл (132), -- более позднее, но, возможно, оно чуть выше числа самих университетов.
В Главе 3 Отчета Диринга содержится много статистических таблиц и диаграмм, иногда с поучительными международными сопоставлениями.
С. Приложение 3: Конкуренция
В британском высшем образовании нет свободной рыночной конкуренции, но отдельные меры непоследовательной политики ввели определенные конкурентные элементы. Вот несколько иллюстраций.
В конце 80-х годов при заключении коллективного договора о зарплате для университетских сотрудников правительство г-жи Тэтчер упразднило фиксированную ставку в соответствии со званием. До тех пор все профессора (в британском смысле, т. е. обладатели высшего университетского звания) в Оксфорде и Кембридже получали одинаковое жалованье. Это миролюбивое правило экономило много времени, энергии и эмоциональных сил, и голосование в оксфордской Конгрегации подтвердило, что большинство предпочитало именно такой порядок. Однако правительство этот порядок упразднило. В США профессорские ставки устанавливаются по рыночным правилам, поэтому профессора часто переходят на более высокооплачиваемые места или используют приглашение на такое место, чтобы добиться повышения зарплаты от собственного университета. Поскольку британским университетам такая система не по карману (к тому же она ввергла бы их в еще более жестокую конкуренцию с Америкой), были испробованы разные компромиссные варианты.
В Оксфорде теперь введено семь разрядов профессорского оклада. Когда человеку предлагают кафедру, ректор определяет разряд его ставки. Получив должность, профессор может потребовать повышения ставки – раз в два или три года, когда происходит пересмотр ставок. В теории ставки пересматриваются по «объективным» критериям, в соответствии с принципом «прозрачности»; необходимые для получения той или иной ставки критерии сформулированы в официальных документах. Однако на практике, поскольку имеющаяся в распоряжении университета сумма ограничена, повышение ставок не может быть состязательным. Весь процесс подачи заявлений и их рассмотрения конфиденциален, так что система эта «прозрачна» лишь отчасти и, по моему мнению, представляет собой неудачный гибрид нашей прежней, упраздненной, системы и настоящей конкуренции.
Научная аттестация (RAE) – номинально именно аттестацией и является, т. е. оценкой научной работы университетских кафедр за истекший период. Но и здесь есть элемент состязательности. Я расскажу, как эта система функционировала в 1996 году, когда я был экспертом во второй раз.
Отдельные ученые оцениваются по пятибалльной шкале, от А до Е. Кафедры, подающие на аттестацию фамилии и публикации своих сотрудников, оцениваются по шестибалльной шкале, от 1 до 5*. Экспертам задана сложная формула, по которой оценки отдельных сотрудников переводятся в итоговую оценку их кафедры. Индивидуальные оценки остаются закрытыми; итоговые кафедральные оценки публикуются и определяют уровень финансирования исследований на данной кафедре вплоть до следующей RAE. Как же этот уровень высчитывается? HEFCE каждому итоговому баллу от 5* до 1 ставит в соответствие определенный коэффициент. Назовем эти неизвестные коэффициенты u, v, w, x, y и z. (Я подозреваю, что z означает ноль). Значение этих коэффициентов не объявляется до завершения аттестации, равно как и общая сумма денег, подлежащих распределению. Таким образом, сумма денег, выделяемая кафедре, равна итоговому кафедральному баллу, умноженному на число поданных фамилий.
