Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Обычная жизнь в невозможные времена
Шейла Фицпатрик.
Повседневный сталинизм.
Социальная история Советской России
в 30-е годы: город. М., Росспэн, 2001. 336 с.
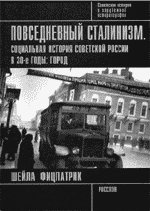
|
Шейла Фицпатрик умеет писать о чужом как о своем. Именно эта сторона ее таланта историка поразила меня при чтении книги «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня» (М.,Росспэн, 2001). Еще ярче это впечатление от ее же книги «Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город». Понимание истории прежде всего именно как истории повседневности; научные процедуры, позволяющие(выражаясь В терминах школы «Анналов») превращать monument, будь то средневековая хроника или частные письма, в document, — сточки зрения методологии все это нам уже не в новинку. Но когда подобными методами адекватно описывается нечто, чему ты сам хотя бы отчасти был свидетелем — это, согласитесь, впечатляет. На фоне бесстрастно-протокольного повествования ярче видны те будничные обстоятельства, которым в течение долгого времени ни окружающие тебя люди, ни историки, ни писатели пера не придавали особого значения. Я помню себя начиная примерно с1934года, но что с того? Любой личный опыт, при всей ценности непосредственного переживания и даже участия, по необходимости частичен. Эту парциальность свидетельств каждого отдельного лица историк повседневности обязан преодолеть, если он намерен остаться ученым, а не выступить в роли публициста. С другой стороны, как соотнести с подлинной историей советской повседневности документирующий ее советский же официоз— все эти monuments, воплощенные в кино, подцензурных радиопередачах, газетах и журналах, секретных отчетах и закрытых архивах? Бараки и коммуналки; блат как способ выживания; закрытые распределители и карточная система; сложная система привилегий и льгот для обладателей орденов и званий; большие города без транспорта и подавляющая роскошь московского метро... Шейла Фицпатрик заранее отказалась от намерения объять необъятное: она оставила за рамками книги две важнейшие проблемы города 30-х годов: производство, трудовую деятельность как таковую и террор. Обе эти сферы жизни затронуты только в меру необходимости — точнее, в той степени, в которой ими определялся повседневный быт. Широкое критическое использование архивов ,провинциальных советских газет, да и вообще любых релевантных источников, включая как бы неочевидные—например, комментарии Ю. К. Щеглова к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку», — этого еще мало для той стереоскопичной оптики, которая характерна для обсуждаемой книги. Привлечены также такие специфические данные, как материалы «Гарвардского проекта», содержащие протокольные записи интервью с советскими «невозвращенцами» времен Второй мировой войны. Чтобы рассказать нам о нашей жизни, автор потратил десять лет своей. Исследовательница называет то, о чем она рассказывает, «повседневностью в чрезвычайное время». Применительно к своей задаче писательница определяет повседневность как «повседневные взаимодействия, в той или иной степени включающие участие государства» (с.9). Как мы знаем, участие государства было тотальным — поэтому в сфере внимания автора оказываются торговля и путешествия, анекдоты и поиски жилья, получение образования и покупка вещей, приобретение «нужных» связей и вступление в брак, жалобы на неверных мужей и аборты, доносы и участие в выборах. Сталинизм в понимании Фицпатрик — это не политическая система и не идеология. Это те следствия из системы и идеологии, которые конституировали среду обитания и психологию homo soveticus. Надо отдать должное американской исследовательнице: она избежала соблазна изобразить этого homo неким китайским болванчиком. В образе героя этого повествования совмещены, казалось бы, противоположные черты—рыцарское благородство и увертливость героя плутовского романа, слободское хитрованство и воля воина и первопроходца, почти исступленная вера в коммунистическую идею и готовность сделать из вождя героя анекдота. Невозможные обстоятельства породили этого героя повседневности. Когда в 1935 году начался учебный год, в магазинах города Ярославля не нашлось ни одной пары детской обуви. В 1940 году в Москве на одного жителя приходилось около 4 квадратных метров жилья. Перенаселена была отнюдь не только столица, но и города по всей стране — таково было лишь одно из следствий индустриализации. Соответствующей городской инфраструктуры не было и в помине. Дело не в том, что тогда и слов-то таких не знали, а в том, что и здесь «не постояли за ценой». Так, в Днепропетровске, расположенном рядом с Днепрогэсом, не было должного уличного освещения; в Пскове, где в1939 году было 60 тысяч жителей, весь транспорт составляли два (!) автобуса, а трамвая не было вовсе. Прожив значительную часть жизни при разных карточных системах, часть моих ровесников не перестает удивляться, что уже давно мы не достаем, не отовариваем, не получаем «с вырезом» (т. е. кашу в столовой с вырезом талонов), а просто покупаем. Другая часть людей — тоже ровесников — не помнит ни очередей 30-х годов, ни ужасающей давки в московских трамваях, ни чудовищного по бессмысленной жестокости указа 1940 года, по которому опоздание на работу более чем на 20 минут считалось уголовно наказуемым (Фицпатрик пишет и об этом). Подводя итоги, многие защищают свою психику воспоминаниями о безмятежном детстве, даже если у них этой безмятежности и не было. Наша память услужливо замещает историю мифами. Шейла Фицпатрик не просто замечательный историк; она еще и тонкий психолог. Карательные функции советского государства — слежка, контроль, террор — привычно определялись советскими людьми как вещи, которые «они» делают с «нами» (с. 228). Но «они»— это были соседи, которые могли донести — и доносили; управдомы и дворники, мелкое начальство, которое могло и не обратить внимания на ваше опоздание, но всего пуще боялось, что вместо него — а тем самым и на него — донесут подчиненные. Рядовой фининспектор донес на кастеляншу из поликлиники, где работала моя мать, что старушка шьет подзоры с кружевами на продажу. На самом деле у Евгении Алексеевны просто была большая семья, которую иногда подкармливали деревенские родственники; в подарок им эти несчастные подзоры и предназначались. Но велика ли была разница между рабочим, завскладом и директором какой-нибудь спичечной фабрики? Как бы каждый из них ни относился к советской власти, все они боялись и ее, и друг друга, и всевидящего ока НКВД. Бригадир вполне мог быть сыном хуторянина, рабочий — сыном дьячка; каждый хотел перебраться подальше от родных краев, дабы не попасть под раскулачивание и ссылку. Сотни тысяч расстрелянных и высланных просто по разнарядке, спущенной согласно секретному распоряжению Политбюро от 2 июля 1937 года и детальному распоряжению Ежова, в очередной раз уравняли «их» и «нас». Однако наивно было бы воображать, что социум в целом выработал какую-то рациональную реакцию на судьбу «миллионов погибших задешево». Респонденты «Гарвардского проекта» отмечали, что старались жить, «не высовываясь»; стратегия самозащиты нередко базировалась просто на попытке не заглядывать в завтрашний день и жить по возможности незаметно. В заключении к своей книге автор предлагает «на выбор» разные метафоры советского государства, которые могли бы помочь понять сам феномен homo soveticus. СССР для своих граждан был, по ее мнению, чем-то средним между школой, казармой и благотворительной столовой. Но также и символом прогресса, источником гордости и надежд, о чем так пронзительно написал Солженицын, вспоминая свою молодость. Книга Шейлы Фицпатрик в очередной раз заставляет задуматься о феномене исторической памяти. Наше советское прошлое не желает стать прошлым, и именно поэтому отношение к Стране Советов продолжает раскалывать наш социум. |
