Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Я — радиолюбитель
Главы из воспоминаний
Главы из воспоминаний[1]
«Вы комсомолец?»
Итак, 1936 год, месяц — ноябрь, число — 17-е, время — около полуночи. Один из переулков в районе Арбатской площади, точнее — Б. Знаменский. Старинный двухэтажный особняк и запертая дверь, к которой меня молча подвез шофер «форда» кофейного цвета и, высадив, уехал. Дергаю дверь — заперто. Начинаю деликатно стучать костяшками пальцев. Раздается какое-то жужжание, но дверь никто не открывает. Что за наваждение? Начинаю стучать посильнее, кулаком — тот же эффект. Потеряв терпение, поворачиваюсь к двери спиной и начинаю дубасить ее каблуками. Должен же кто-то быть за этой дверью! Ага, подействовало. В двери открывается окошко (как в комнате спецчасти), и просунувший в него голову лейтенант сердито спрашивает: «Что вы здесь хулиганите?» Я ему заявляю, что неизвестно еще, кто хулиганит — я или люди, которые привезли меня в такое время к закрытой двери неизвестно зачем. «А вы разве в первый раз сюда?» — удивился лейтенант и, узнав, что в первый, заметно смягчился. Сказав, что уже два раза открывал мне дверь, он велел дернуть за ручку в момент, когда раздастся жужжание. Когда я это сделал, дверь легко открылась, и я попал в обычное бюро пропусков военного учреждения. Оказывается, меня уже ждали. Быстро оформив пропуск, лейтенант рассказал мне о правилах поведения в этом учреждении. Запрещается заглядывать в открытые двери (это предупреждение оказалось излишним, ни одной открытой двери я здесь не заметил) и ни в коем случае не здороваться ни с кем из знакомых (которых я, тем паче, не встретил).
Выйдя из особняка во двор, я увидел перед собой большой шести- или семиэтажный дом. Предъявив стоявшему у входа часовому пропуск, мы с лейтенантом поднялись на третий этаж. Небольшой кабинет, зашторенное окно, простой письменный стол, два стула, на стене — неизменный портрет Джугашвили, а через открытую дверь другой комнаты видна висящая на стене карта Испании, утыканная флажками. За столом сидит человек лет около сорока, темноволосый, коренастый, в костюме явно заграничного происхождения, и внимательно рассматривает меня. Я снял фуражку и поздоровался. Он поднялся, крепко пожал мне руку и произнес: «Здравствуйте, я Абрамов[2]. Садитесь, пожалуйста».
Уселся на стул и жду, что он скажет. Помолчав немного, он спросил: «Вы комсомолец?» — и, получив утвердительный ответ, снова спросил: «А для чего? Для того, чтобы получить некоторые привилегии в жизни или на самом деле, по-честному?» Уж чего-чего, а такого вопроса я не ожидал. Изо всех сил стараясь сдержаться, чтобы не наговорить ему резкостей, я ответил, что подобный вопрос считаю для себя оскорблением и что для такого разговора нет надобности вызывать человека среди ночи. А если у него есть какие-либо сомнения по этому поводу, то нам надо говорить не здесь, а в моем комитете комсомола. Услышав мою тираду, Абрамов улыбнулся и уже совсем другим тоном стал уверять, что не имел в виду меня оскорблять, а вопрос этот задал для начала разговора.
«Ачто, если партия пошлет вас на выполнение опасных заданий в боевой обстановке, причем шансов на благополучное возвращение будет очень мало? Поедете?» — после небольшой паузы внезапно спросил он. Не колеблясь ни минуты, я ответил: «Всякое задание партии, с какими бы опасностями оно ни было связано, почитаю для себя за честь и не пожалею ни сил, ни самой жизни для его выполнения». И, не спрашивая, куда ехать (это было видно из карты, висевшей в соседней комнате), спросил только, когда надо ехать. «Завтра», — ответил Абрамов.
Я почесал затылок и ответил Абрамову, что несколько причин мешают мне немедленно ехать на задание. «Какие?» — поинтересовался тот. Я сказал, что имею правительственное задание по обеспечению Ленинграда матрицами газет на время Чрезвычайного VI Съезда Советов и без разрешения начальника ГУГВФ[3] Ткачева бросить эту работу не могу. Абрамов тут же (около часа ночи) снял трубку телефона и набрал какой-то номер: «Ткачев? Здравствуйте, это Абрамов. Да-да, тот самый. У вас в управлении работает инженер связи Хургес. Я его с завтрашнего дня забираю. Нет-нет, он мне очень нужен. Вы обойдетесь, найдете другого. Спокойной ночи, извините, что поздно потревожил». Положил трубку и обратился ко мне: «Завтра можете на работу не выходить».
Счесть этот разговор мистификацией я не имел никаких оснований. Но какими же полномочиями обладал этот человек, если он так разговаривал с деятелями ранга наркомов[4]? После решения вопроса с работой я вспомнил, что в порядке общественной нагрузки собираю средства по отделу в Фонд помощи испанским детям и должен внести эти деньги в кассу. На работу для этой цели Абрамов мне явиться не разрешил, а, забрав деньги (благо они со всей документацией находились у меня в кармане), обещал завтра же, точнее, уже сегодня, отправить их по назначению с курьером. После этого Абрамов спросил, какие еще причины могут задержать меня в Москве? При моих словах о необходимости защитить дипломный проект в институте он только улыбнулся и ответил, что в случае моего благополучного возвращения мне будет в этом оказана полная поддержка. Когда я ему сказал, что на моем иждивении находятся престарелые отец и мать, он молча достал из ящика стола лист бумаги, что-то на нем написал и, протянув мне, сказал: «Если согласны, подпишите». Я прочел: «Прошу на все время моей командировки, а в случае моей гибели пожизненно, выплачивать моим родителям (следовали их полные данные и адрес) по 400 рублей в месяц». На его вопрос: «Хватит?» — я только молча пожал плечами и подписал бумагу.
Наша беседа с Абрамовым продолжалась еще довольно долго. Он подробно расспрашивал о моей работе, учебе и даже о личной жизни, в частности о знакомых девушках. Наверное, хотел прощупать меня со всех сторон. Около двух часов ночи он отпустил меня домой, велев явиться на следующий день к 9 часам утра. Задремавший было в коридоре лейтенант проводил меня в бюро пропусков. У входа меня ждал тот же кофейный «форд» с молчаливым шофером, который отвез меня домой.
Наутро я, как обычно, собрался на работу, предупредив мать, что, возможно, задержусь, ибо мне опять предстоит командировка, но крайне удивил ее, когда на вопрос, надо ли готовить чемодан, ответил отрицательно. В 9 часов я уже был в кабинете Абрамова. Кроме него здесь уже находился молодой человек в форме матроса. «Знакомьтесь, — сказал Абрамов, — это Георгий Кузнецов. Он будет в рейсе вашим помощником». Мы пожали друг другу руки, после чего Абрамов вызвал какую-то женщину и распорядился сфотографировать нас на документы. Спустившись этажом ниже, мы зашли в одну из комнат, где стоял огромный фотоаппарат, а на стуле висело несколько пиджаков, сорочек, галстуков. Так как мы оба были в форме (я в форме ГВФ, а Жора в морской), пришлось нам надеть штатское. Сфотографировавшись, снова явились к «шефу», который отправил нас для инструктажа по радиоаппаратуре на центральную радиостанцию Управления[5].
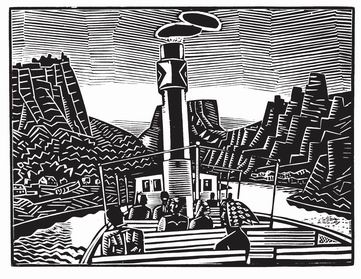
В сопровождении вчерашнего лейтенанта, на том же «форде», мы приехали в район Ленинских гор. Принял нас бригадный инженер (по-теперешнему, генерал-майор инженерных войск) А. И. Гурвич[6], являвшийся начальником связи Разведупра.
Во время беседы, результатами которой Гурвич, видимо, остался доволен, в кабинет вошел человек в форме военного инженера 1-го ранга (инженер-полковник), в котором я с удивлением узнал одного из виднейших советских радиоспециалистов, профессора Б. П. Асеева, преподававшего в нашем институте. Борис Павлович обладал изумительной памятью и знал в лицо почти всех своих студентов. Меня он особенно хорошо запомнил, потому что однажды на экзамене я пытался его обмануть, а он этого не прощал никогда.
Асеев преподавал у нас радиотехнику. Экзамены он проводил несколько необычно: на столе были разложены три кучки билетов с пометками на верхней стороне: «3», «4» и «5». Соответственной трудности были и вопросы. Брать можно было любой, но снизу вверх. Ответишь на «троечный» и можешь брать «четверочный». Не ответишь, твоя тройка остается. Но если возьмешь «четверочный» или «пятерочный» и не ответишь, то получай двойку и вылетай с экзамена. «Вниз» брать не разрешалось. И вот однажды на экзамене я взял «четверочный» билет и хорошо на него ответил. «Ну что ж, — сказал Борис Павлович, — четверку вы уже заработали, берите пятерочный». Терять мне было нечего, беру «пятерочный» и вижу очень сложный и совершенно незнакомый мне вопрос «Фильтрация связанных контуров» (из-за частых командировок я иногда пропускал занятия и этот вопрос не успел посмотреть). Надо бы сразу отказаться, и осталась бы честно заработанная четверка, но бес попутал. «Ну как, осилите?» — спросил Б. П. «Попробую», — ответил я. «Садитесь в сторонке, чтобы не мешать другим, вопрос не из простых, подумайте хорошенько», — напутствовал меня Борис Павлович. Я уселся подальше, достал конспект и, делая вид, что напряженно думаю, незаметно списал все выводы формул из конспекта. Все это время я непрерывно наблюдал за Б. П., который ни разу даже не взглянул в мою сторону. «Готово?» — спросил он, когда я подошел к его столу. «Давайте, только не ответ, а зачетную книжку», — сказал он, отодвигая в сторону мои записи. Ну, думаю, все в порядке, все-таки обвел я вокруг пальца этого зубра. Представьте себе мое удивление, когда вместо ожидаемой пятерки или хотя бы честно заработанной четверки в зачетной книжке появилась жирная, красная двойка. «Знаете, за что. Жду осенью!» — заявил Б. П., и разговор был закончен.
Увидев меня, Б. П. крепко пожал мне руку и обратился к Гурвичу: «Этого я знаю, мой бывший студент. Парень способный, но жулик, пытался меня обмануть на экзамене», и подробно рассказал Гурвичу о том инциденте. От смущения я был готов провалиться сквозь землю. Гурвич пожурил Асеева за злопамятность, а меня успокоил: «Ничего, жулики в нашем ведомстве нужны, но, конечно, при условии, что они не попадутся». После столь «лестной» рекомендации Бориса Павловича проверять мои познания в радиотехнике никто не стал. Нам с Жорой показали образцы аппаратуры, подписали необходимые документы, и мы снова поехали к Абрамову.
«Теперь оденьте их», — приказал тот женщине, фотографировавшей нас. Нас отвезли во двор дома на углу Петровки и Столешникова переулка. В большом полуподвальном помещении по одну сторону на вешалках висело множество пальто различных фасонов, цветов и размеров, а по другую — костюмы.
Как ни разбегались глаза от такого изобилия, времени терять было нельзя. Нас с Жорой быстро экипировали. Модный костюм, пальто, узконосые туфли — все, вплоть до носков, пояса и галстука. Глянув в зеркало, я едва себя узнал. Явились снова к Абрамову. «Ну вот, теперь все в порядке, — заявил он. — Можете ехать в Европу».
Уже начало темнеть. «Два часа на прощание с родными», — обратился ко мне Абрамов (у Жоры в Москве никого не было) и напомнил об особой секретности командировки, а домашним посоветовал сказать, что я на полгода уезжаю в Арктику. Он дал мне номер телефона управления, по которому родные смогут позвонить в случае какой-либо надобности, и домашний адрес сотрудницы управления Урванцевой, через которую они будут вести переписку со мной. Уезжая, свой «европейский» костюм я оставил в кабинете Абрамова и снова надел форму. Домой приехал как раз к обеду.
Мать сразу захлопотала и чуть не уронила тарелки на пол, когда я заявил, что сегодня уезжаю на полгода в Арктику. «Куда тебя несет, босяк? Ты с ума сошел? Ведь через месяц защита диплома, а у тебя опять гвозди в стуле». Боясь сорваться, я быстро оставил номер телефона и адрес для переписки и сказал, что во время моей командировки они будут получать по 400 руб. в месяц. «На что нам твои деньги», — заплакала мать, видимо, почувствовав, что больше они меня не увидят (и действительно, родителей я уже больше не видел: отец умер в 1938 году, а мать в 1942-м, по пути в эвакуацию). Насилу оторвав мать, поцеловав сестру и зятя, я вышел попрощаться с отцом в коридор. «Береги себя, сынок! В этой твоей Арктике может быть довольно жарко». Старый солдат, участник Гражданской войны, он сразу понял, куда и зачем я еду. Я ему ответил, что, вне зависимости от того, вернусь я или нет, краснеть ему за меня не придется. «Слабое утешение», — сказал отец на прощание, и, хотя я никогда прежде не видал у него слез, на этот раз ему пришлось вытереть глаза платком.
Не помню уж, как я вышел на улицу и сел в машину. На час раньше назначенного срока я был в кабинете Абрамова. Кроме него и Жоры здесь сидел какой-то незнакомый мне человек, явно иностранного вида. «Знакомьтесь, — сказал Абрамов, — это товарищ Валентино, ваш переводчик. Сегодня вы едете в Севастополь, а оттуда морем». Он дал нам с Жорой по 250 руб. (на вагон-ресторан), мне 100 долларов, а Жоре — 50, причем предупредил, что советские деньги мы должны истратить до Севастополя, а валюту беречь на самый крайний случай, так как в Испании мы будем получать жалованье. Я был комсомольцем, а Жора — кандидатом в члены партии, поэтому пакет с пятью сургучными печатями доверили ему, завещав хранить как зеницу ока.
По прибытии в Севастополь нам нужно оставаться в купе, пока туда не войдет человек и не скажет, что он «от Ивана Ивановича», после чего мы должны отдать ему пакет и следовать за ним. Абрамов выдал нам билеты в мягкий вагон до Севастополя, обнял нас на прощанье и в сопровождении все того же лейтенанта мы спустились вниз, где нас уже ожидал «форд».
Да, в самый последний момент моя поездка чуть было не сорвалась по совсем пустяковому поводу. Перед отъездом, когда наши старые вещи уже отправили на хранение в цейхгауз, мы должны были сдать в спецчасть Управления советские документы. Начальник спецчасти, корпусной комиссар Озолин, оказался моим «старым знакомым» по Институту связи. Когда он посмотрел в мой комсомольский билет, оказалось, что я не заплатил членские взносы более чем за два месяца. Озолин рассвирепел и заорал на меня с сильным латышским акцентом: «Как это вы собираетесь ехать за границу, а сами уже механически выбыли из комсомола, три месяца не платите взносов?! Я вас не выпущу!» — и вернул мне документы. Тут не помог даже авторитет Абрамова. Все его уверения в моей «политической благонадежности» и слова о крайней необходимости моей поездки разбивались о каменную стену латышского упрямства: «Он не платил три месяца, я его не пропускаю». В дело вмешался сам начальник Управления С. Урицкий. Еле-еле удалось уговорить упрямого латыша, что два с половиной — это еще не три месяца, и что заменить меня пока некем. Ворча, он все же взял мои документы, заставив меня положить в свой комсомольский билет деньги за месяц вперед.
Начало пути. Севастополь
Итак, мы уселись в «форд», который отвез нас на Курский вокзал. Пройдя какими-то туннелями (в которые обычных пассажиров не пускали), мы вышли прямо к нашему вагону поезда Москва — Севастополь. Четвертое место в купе оказалось свободным, и мы уже решили, что поедем втроем, но в самую последнюю минуту появился основательно подвыпивший артиллерийский полковник. «Куда едете?» — спросил он у меня. Я ответил, что на отдых в Ялту, в санаторий БВО (первое название, пришедшее в голову). Выяснилось, что и полковник туда едет, причем он был там неоднократно и обладает обширными знакомствами, особенно среди прекрасной половины человечества. Узнав, что в деньгах я не стеснен, он заявил, что мы там сможем чудесно провести время. Вначале я подумал, что полковника к нам подсадили, чтобы прощупать нас в дороге, но когда я убедился, что пьян он по-настоящему, подозрение отпало. Перед нами стояла трудная задача: надо было за полтора дня истратить по 250 рублей, причем сильно напиваться было нельзя. Мы с Жорой договорились, что вместе выходить из купе не будем. Он будет ходить в ресторан с переводчиком, а я с полковником. Через полчаса после отхода поезда полковник уже почувствовал жажду, и пришлось мне вести его в ресторан. Несмотря на то что я выбирал все самое дорогое, набрать более чем на 50 рублей мне не удалось. В довершение всего, несмотря на все мои протесты, заплатил полковник, заявив, что он богат, а мне деньги на курорте пригодятся. Положение сложилось трагикомическое: деньги надо потратить, а сделать этого нельзя, тем паче что вступать в объяснения с полковником неудобно. Правда, на другой день мне удалось один раз заплатить в ресторане, но советских денег я привез в Севастополь порядком.
Приехали мы туда погожим осенним утром. Полковник засуетился: «Давай, ребята, скорее! Вон стоит наш автобус, надо занять места получше, ехать-то не близко». Для вида я начал собираться, но как только полковник вышел из купе, в дверь просунулся мрачный, явно НКВДвского вида человек в штатском: «Я от Ивана Ивановича. Давайте свой пакет, собирайте вещи и следуйте за мной». На вокзальной площади нас уже ждал «газик». Увидев меня, сидевший в курортном автобусе полковник замахал рукой: «Давай сюда быстрее! Я занял место!» По-видимому, он был крайне удивлен, когда я, вместо того чтобы поспешить к нему, помахал рукой, сел с товарищами в «газик» и укатил. Ехали мы долго и остановились возле высокого глухого забора.
За забором виднелся большой причал, у которого стоял пароход довольно обшарпанного вида под турецким флагом с надписью «Измир». Два крана непрерывно спускали в его трюмы стокилограммовые авиационные бомбы, связанные тросами по восемь штук и упакованные наподобие стиральных машин — с рейками по периметру. Меня очень удивило и обеспокоило, что никаких мер по маскировке не принималось. Тут же, у причала, стояли 15 танков «БТ» и несколько спецмашин, видимо, тоже в ожидании погрузки. Сверху все это было прикрыто брезентом, но его не хватало, и с улицы были прекрасно видны как типы танков и машин, так и их количество. По улице ехали трамваи, автомобили, сновали пешеходы...
Глядя на этот пароход, я сразу вспомнил, что в кинохронике прошлого года видел проводы Ворошилова, Буденного и Бубнова с визитом дружбы на шикарном турецком двухтрубном лайнере «Измир». Тот «Измир» нисколько не напоминал обшарпанного «работягу», которого я (да и не только я) наблюдал с улицы. И если даже мне это бросилось в глаза, то для коренных севастопольцев и, безусловно, имевшихся здесь заинтересованных лиц из иностранных разведок эта маскировка была секретом Полишинеля.
Нельзя сказать, чтобы эти обстоятельства подействовали на меня ободряюще, но отступать было уже поздно. Оставалось надеяться на счастливую звезду, которая меня пока еще не подводила. А если что, несколько тысяч тонн взрывчатки сделают свое дело, и долго барахтаться в море не придется. Слабое утешение, как сказал бы мой отец, но, к сожалению, единственное.
Вскоре ворота открылись, и мы подъехали к пассажирским вагонам, стоящим на железнодорожных путях. Наш провожатый велел нам забрать вещи и повел в один из вагонов. Он сказал, что с нами будет беседовать корпусной комиссар Мейер[7], но он занят, и придется немного обождать, а пока дал нам задание по ликвидации в нашей одежде всех следов ее советского происхождения. Валентино оказался в лучшем положении, чем мы, у него все было заграничное.
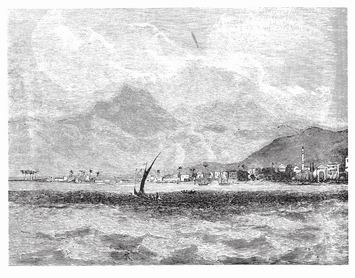
Нам же с Жорой пришлось вооружиться лезвиями от безопасной бритвы и приняться за работу. Через несколько минут на наших пиджаках, брюках и сорочках оказались зияющие дыры от отпоротых фабричных марок «Москвошвея». Мы лишились всех брючных пуговиц, стелек, подкладки. Но это еще полбеды. Марочные пуговицы мы заменили безымянными, без подкладки тоже можно прожить, но у нас отняли брючные ремни и подвязки для носков, так как на них имелись пятиконечные звездочки. Кое-как пришив пуговицы, залатав дыры и приколов носки к кальсонам английскими булавками (кстати, тоже имевшими надпись «Мосштамп»), мы отправились к корпусному комиссару Мейеру.
В купе сидел высокий моряк лет пятидесяти с одной широкой и двумя средними нашивками на рукавах. Поздоровавшись, он сразу же обратил внимание на непорядок в моем туалете. Так как брюки были пошиты на стандартную фигуру, а я имел от этого стандарта отклонение в меньшую сторону, то отсутствие поясного ремня создавало реальную угрозу внезапного конфуза и мне время от времени приходилось поддерживать спадающие брюки. Узнав причину, Мейер расхохотался и велел своему не в меру усердному помощнику вернуть мне ремень, после чего я почувствовал себя гораздо увереннее и стал с большим оптимизмом смотреть на свою дальнейшую судьбу.
За завтраком комиссар изложил нам обстановку: пароход испанский, маскировка наивная, но другого выхода нет. В Испании, особенно под Мадридом, идут тяжелые бои. Сейчас все висит на волоске; неприбытие в срок нашего транспорта может роковым образом повлиять на исход войны, так как боеприпасов практически нет, воевать нечем, а фашисты в изобилии снабжаются всем необходимым из Италии и Германии. Команда парохода из Каталонии. Каталонцы преимущественно анархисты, имеют большую склонность к сепаратизму. Эти моряки полагали, что повезут отсюда продукты, на худой конец, самолеты, а везут — сами видите что. Один снаряд, и все взлетит на воздух.
Огнестрельное оружие у команды под благовидным предлогом отобрано, но не исключено, что кое-кто его и припрятал. Проводить детальный обыск неудобно. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, не раздражать команду, не выходить ночью из кают по одному и держать наготове оружие на случай внезапного бунта команды. В случае необходимости принимать самые решительные меры невзирая на лица. При любых условиях пароход неприятелю сдан не будет и, в отсутствие другого выхода, будет взорван, для чего среди пассажиров есть специальный человек (имени Мейер нам не назвал, но определили мы его в пути довольно быстро).
Корабельный радист-испанец отстранен от работы, выселен из радиорубки и помещен со штурманом. Связь с Москвой будет поддерживаться на коротких волнах специальным кодом, для чего на пароходе имеется шифровальщик, который также будет жить в радиорубке. Затем, обращаясь ко мне, Мейер сказал: «Единственным человеком, который как-то может повлиять на исход рейса, будет старший радист, то есть ты».
Пароход назывался «Мар Кариб» (Карибское море), порт приписки — Барселона, следовать он должен был на главную военно-морскую базу республики Картахену. Нас, «советских», оказалось 13 человек, единственный штатский — я. Старший по воинскому званию — капитан танковых войск Иван Коротков[8] — был назначен начальником перевозки, а его заместителем (но фактически начальником, поскольку, как я впоследствии узнал, взрыв парохода со всем грузом и людьми должен был произвести именно он) старший лейтенант войск НКВД Артур Спрогис[9].
В 18 часов корпусной комиссар Мейер собрал всех в капитанском салоне. «Товарищи, — обратился он к нам, — вы знаете, что едете защищать Испанскую Республику. Защищая ее, вы защищаете свою родину. Впервые международный фашизм дает открытый бой. Вы все обязаны проявить в Испании высокую военную и гражданскую доблесть, должны доказать преимущества нашей советской морали перед зверской, человеконенавистнической моралью фашизма. Каждую секунду вас в Испании может подстерегать смерть. Скажу прямо, если из 13 человек благополучно вернутся хотя бы двое, то можно будет считать, что вашей партии повезло (Мейер, конечно, несколько сгустил краски, но, по-видимому, ему требовалось как можно жестче прощупать нас). Знайте же наперед, зачем вы едете и что вас там может ожидать. Самое тяжкое преступление — сдача в плен. Не менее, если не более тяжкое преступление — сдача врагу боевого оружия советского образца. Партия и родина требуют от вас подвига и должны быть твердо уверены в том, что у вас хватит сил и воли его совершить, даже если вам придется погибнуть самой мучительной смертью. Вы все здесь подобраны на строго добровольных началах. Каждый из вас должен знать свои слабости. Я понимаю, что, находясь бок о бок с другими товарищами, никто не решится в них признаться. Подумайте хорошенько, пока не поздно. По окончании беседы я буду находиться совершенно один на верхней палубе. Одно слово, и любой из вас будет отправлен на прежнее место службы. Его долгом будет только крепко забыть обо всем, что он здесь видел и слышал. Через полчаса встретимся здесь же».
Полчаса маячила фигура комиссара на верхней палубе. Многие из нас к нему подходили. Подошел и я. Попросил передать домой письмо и 120 оставшихся рублей. Медленно тянулись минуты. Наконец мы снова в салоне. Все тринадцать. Появляется комиссар. Пытается улыбнуться, но почему-то предательски дрожит нижняя губа, а внезапно появившийся насморк заставляет его слишком часто пользоваться носовым платком, причем не всегда по прямому назначению. Овладев собой, комиссар говорит: «Извините, товарищи, уже не первую партию отправляю, но привыкнуть никак не могу. Лучше самому ехать. Просил — не пускают». Голос его постепенно крепнет. «Я счастлив, что партия и Родина в вас не ошиблись, и уверен, что все вы окажетесь достойны той великой чести, которая выпала на вашу долю. Через полчаса вы отплываете. Там вы будете не одни. В Испании уже есть наши товарищи, наше оружие, только очень мало боеприпасов. Те, кто там воюет, проявляют чудеса героизма. У наших летчиков в среднем по семь индивидуальных побед над немцами и итальянцами, несмотря на более совершенную материальную часть противника. Уверен, что и вы не подкачаете». Помолчал немного. «Ну, хватит торжественной части, перейдем к деловой. Получайте личное оружие и документы».
Принесли ящик с пистолетами (все заграничных марок). На мою долю достался весьма потрепанный браунинг № 2 с одной запасной обоймой (впоследствии, когда я его в Испании испытывал, несмотря на все старания, мне никак не удавалось попасть в дерево с 10 шагов. Пришлось мне сменить браунинг на ТТ).
Раздали документы. Мне выдали так называемый нансеновский паспорт[10]. В нем значилось, что я получил его в Польше, в городе Кракове, о чем свидетельствовала собственноручная подпись краковского воеводы и польская гербовая печать. Из штампов прописки выяснилось, что я проживал в Кракове, Познани, Лодзи, Варшаве, Мюнхене, Дрездене, Варне и Галаце, откуда отбыл в Мексику — в порт Вера Крус. К паспорту прилагалась «легенда», которую я должен был выучить наизусть и уничтожить. По легенде, мы с отцом были репрессированы советской властью, отец умер в заключении, а мне удалось бежать через Финляндию в Польшу, где я и получил этот документ. Все это было шито белыми нитками, ибо о городах, где я по документам проживал, я не имел ни малейшего представления и, несмотря на почти два года, проведенные в Польше, не знал ни одного польского слова, кроме «проше пана» и «пся крев». Когда я поделился своими сомнениями с комиссаром, он только улыбнулся и предупредил, что в случае, если кто-то из нас попадется в лапы фашистов, надеяться надо не на паспорт, а на пистолет. А свои и паспорт спрашивать не будут.
Наконец все формальности закончены. Звучит команда: «Отдать концы!» (конечно, по-испански). Принесли шампанское. «За Партию, за Родину, за Победу!» (за Джугашвили в таких случаях еще не пили). Комиссар обнялся с каждым из нас. Со мной он обнялся последним и сказал на ухо: «Помни, сынок, какую ты на себя взял ответственность. Не подведи».
Низкий протяжный гудок, и приземистый буксир потащил нас к бонам. Замелькали огоньки Севастополя, и мы уже в море. Не успели скрыться берега родины, а корабельные мастера уже перекрашивали трубу и бортовые надписи. Из турецкого парохода «Измир» мы превратились в мексиканский «Мар Табан», следующий из румынского порта Галац в мексиканский Вера Крус (как видите, легенда моя была составлена точно).
Через некоторое время наш до сих пор однотрубный пароход обрел вторую трубу, отличить которую от настоящей нельзя было не только издали, но и вблизи. Севастопольские умельцы-портовики знали свое дело. Трубу сделали на загляденье, а уж подкоптили ее даже лучше, чем настоящую. Внутри трубы сделали специальную топку, в которой жгли просмоленную паклю. Правда, «кочегаров» после «дымовой» вахты приходилось по полчаса отмывать в бане, зато камуфляж был что надо.
Погасли на севере огни Севастополя, наш пароход поднял «родной» мексиканский флаг и, отчаянно дымя обеими трубами, начал свой опасный рейс.
Босфор
По плану мы не должны были заходить ни в один из промежуточных портов, а следовали прямо в Картахену. Продуктами в Севастополе нас снабдили по-царски. Часть верхней палубы отгородили досками, и в этом загоне поместился целый «скотный двор» — коровы, овцы, гуси, куры. Если бы не легкое покачивание парохода на волнах (погода была на редкость тихая), то, закрыв глаза, вполне можно было представить себя где-либо в деревне: коровы мычат, овцы блеют, куры кудахчут. Вся эта живность предназначалась для нашего питания в пути и неплохо разнообразила наше меню.
Надо сказать, что к концу мы съели все подчистую и в Картахену привезли одного лишь козла Ваську, погруженного на пароход то ли для шутки, то ли по ошибке. Несмотря на все покушения повара и капитана, команда его все-таки отстояла, хотя капитан в первый же день распорядился «смайнать» козла за борт. Вообще, этот Васька сыграл немалую роль в поднятии морального духа команды. Обладая весьма живым характером, он легко перегрызал веревку, перелезал через загородку и шнырял по пароходу, внезапно появляясь в самых неожиданных местах. В конце концов уничтожение Васьки стало для капитана и повара делом принципа. Где мы только Ваську ни прятали: и в кочегарке, и в штурманской рубке, а однажды, в минуту серьезной опасности, даже в «святая святых» — радиорубке! В Испанию Ваську привезли живым и невредимым. Надо было видеть, с каким восторгом испанские моряки рассматривали русского козла, пробившегося к ним сквозь фашистскую блокаду. «Русо бок! Русо бок!» Васька с достоинством принимал эти знаки внимания.
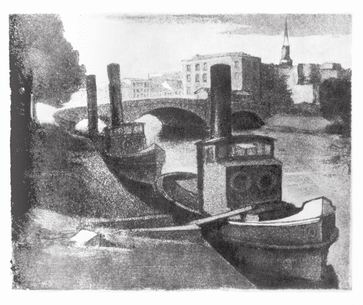
Но все это было потом. Пока же время шло, а нас еще никто не потопил. Ночь сменилась ясным солнечным утром и прекрасным, почти летним (несмотря на конец ноября) днем. Море, как зеркало, а редко встречающиеся суда салютуют своими флагами нашему мексиканскому, не так уж часто встречающемуся на Черном море. Жизнь на пароходе начала входить в нормальную колею. Обильные трапезы (по испанскому распорядку, два раза в день — в 11 ив17 часов), запиваемые великолепным вином «Риоха», запасы которого на пароходе были, по-видимому, неисчерпаемы; «концертные» исполнения русских песен оказавшимся среди нас баянистом (удивительно, как это ретивый помощник комиссара Мейера не отобрал у него баян, ведь в его инкрустации тоже оказалась пятиконечная звездочка-улика); азартная игра в «очко» на папиросы (каждому из нас перед отъездом выдали по большому фанерному ящику первосортных папирос) — все это походило на приятную туристскую прогулку, если бы не непрерывно гложущая мысль: «А вдруг сейчас из воды покажется перископ субмарины, и конец всему»[11]. (Не все тогда знали, что для того, чтобы потопить пароход, подлодке совсем не обязательно всплывать, она это может сделать и в погруженном состоянии.) Но перископ не появлялся, и через 36 часов после отбытия из Севастополя в легкой дымке показались берега Турции.
Поскольку проход через Босфор требовал соблюдения некоторых формальностей, к этому времени мы уже стали испанцами. Убрали вторую трубу, перекрасили настоящую и подняли красно-желто-фиолетовый флаг. Часам к семи утра мы уже стояли посередине Босфора и смотрели в иллюминаторы на Константинополь (чтобы не портить испанского вида парохода, всем нам, советским добровольцам, запретили появляться на палубах, и мы отсиживались по каютам). Правда, мой напарник Жора никак не мог смириться с тем, что на этот раз ему не удастся попасть на Перу и в Галату — средоточие злачных мест, но несколько утешился, когда узнал, что в Испании эти заведения пока функционируют нормально.
Стамбульский берег представлял из себя гряду невысоких гор, густо поросших зеленью, сквозь которую виднелись виллы, принадлежавшие явно «нетрудовому элементу». А на самом верху, над кипарисовыми рощами и роскошными виллами, за высокой кирпичной стеной виднелось огромное пятиэтажное здание с зарешеченными окнами и множеством часовых. В бинокль можно было различить людей в полосатых костюмах, повисших на решетках окон. Трудно представить себе большее издевательство над элементарной эстетикой, чем тюрьма в таком месте.
Согласно конвенции в Монтре, проход торговых судов через Босфор и Дарданеллы должен осуществляться беспрепятственно, но местные власти имеют право медицинского досмотра, чем они не преминули воспользоваться. Хотя наши судовые документы были в полном порядке, нас все же остановили для принятия на борт турецкого врача. По обе стороны нашего парохода встали два турецких сторожевика, которые даже навели на нас расчехленные орудия. Такой чести не удостоился ни один из многочисленных «купцов», стоявших на Босфорском рейде. Судя по всему, характер нашего груза был туркам (и, наверное, не только им) хорошо известен, и нас решили немного подержать на рейде.
Прибывший вскоре турецкий врач не стал утруждать себя такими мелочами, как проверка санитарного состояния парохода и команды, а сразу же спустился в капитанскую каюту. Чтобы поскорее спровадить турка, в его катер быстро погрузили два ящика водки и несколько ящиков апельсинов (оказывается, это был вполне официальный бакшиш, который взимался врачом при каждом досмотре). Однако быстро избавиться от врача не удалось. Дело в том, что за досмотр полагалась плата в размере 75 долларов, причем эти деньги должен был уплатить испанский консул в Константинополе. День был, как назло, воскресный. Консул, не предупрежденный заранее (здесь сыграл роль фактор секретности рейса), уехал куда-то отдыхать, и нам пришлось ждать его возвращения на рейде под наведенными на нас пушками сторожевиков. Мало того, что мы были целый день выставлены на обозрение разведчиков всех стран (безусловно, обосновавшихся в Константинополе), но врач, которому очень понравилось хлебосольство нашего капитана, не пожелал отбыть с парохода, пока испанский консул не вручит ему 75 долларов. В результате мы вынуждены были весь день тихо, как мышата, сидеть в своих каютах, пока часов в шесть вечера не прибыл испанский консул.
Консул рассчитался с врачом, и тот, не без помощи лебедки, был погружен в катер. Лишь после этого сторожевики от нас отошли, и мы тронулись в путь. Наконец-то можно было выйти из душных кают, чтобы подышать вечерней свежестью и полюбоваться изумительным видом вечернего Константинополя. Уже затемно мы вошли в Мраморное море.
Берега Африки
Мало-помалу улеглись страхи, все чаще раздавались шутки, смех, звуки баяна. Мы уже стали более или менее сносно объясняться с испанцами на какой-то дикой смеси русских, испанских и «гибридно-непонятных» слов, но, в основном, с помощью жестов. Карты постепенно уступили место не менее азартной испанской игре в кости. Фортуна мне в этом деле неизменно сопутствовала, и к своему ящику папирос я выиграл еще два, абсолютно мне не нужных. В кают-компании мы часто слушали радио, преимущественно итальянское. Наш переводчик Валентино (по национальности итальянец) успевал быстро переводить на русский неутешительные вести, которые итальянцы с нескрываемым злорадством представляли в еще более мрачном свете. Особенно тяжелым было для нас сообщение о торпедировании на Картахенском рейде крейсера «Мигель Сервантес». Это был один из самых быстроходных кораблей Республики, и его потеря существенно уменьшала боеспособность конвоя, который должен был провести нас через наиболее опасный участок пути — Алжир.
У нас пока все шло нормально. Фашистские пираты еще не осмеливались топить суда Республики по выходе из Дарданелл (как они стали делать позже), и в греко-турецких водах мы чувствовали себя спокойно. Но вот исчезли острова Архипелага, мы обогнули с юга остров Мальта и вошли в итальянские воды. Приближался один из опасных этапов нашего пути — самое узкое место восточной части Средиземного моря, между Сицилией и итальянским (в те времена) Триполи. Подходим к нему под вечер. Штиль. На небе яркая, почти полная луна.
Все нервничают, даже выдержанный заместитель начальника Артур Спрогис заметно ускоряет свой обычный аллюр по палубе...
Идем с минимальным освещением, только токовые и клотиковые огни, но даже без огней при такой погоде пароход виден очень далеко. Как назло, гоголевский черт окончательно обленился и не желает воровать эту проклятую луну! Вдруг на горизонте появились огоньки: три, пять, десять... Наши морские специалисты уже различают: линкор, три крейсера и еще бог знает что! А кто бы это мог быть, кроме итальянских фашистов? Уж если здесь, в самом узком месте Средиземного моря, итальянцы не поленились устроить такой парад, то нам несдобровать. Капитан велел застопорить машины. Устроили небольшое, но весьма бурное совещание. «Назад, пока не поздно», — неистовствуют наиболее активные члены испанской команды. Мы, «советские», собрались отдельно и на всякий случай спустили предохранители у пистолетов. Положение выправил всегда невозмутимый Артур: «Если это действительно итальянская военная эскадра и мы их отсюда видим, то они нас, безусловно, уже давно заметили, и наш внезапный разворот вызовет подозрение. А где уж нашему тихоходу уйти от их эсминцев, которых вы насчитали не менее десятка. Так что поворачивать назад абсолютно бессмысленно. Если же это не военные корабли, то чего их бояться?» Его железная логика подействовала на сторонников «немедленного драпа». Было принято единогласное решение двигаться вперед, а для отвода глаз дать полное освещение. Так и сделали. «Огоньки» оказались не грозной военной эскадрой, а мирной флотилией рыбаков, которые сбились в кучу, чтобы веселее было ночевать. Зажгли аккумуляторные фонари и спокойно жарят выловленную днем сардину.
Это событие оказалось наиболее страшным из всего, что случилось с нами в опасных итальянских водах. В дальнейшем было принято решение: во избежание нежелательных встреч уклоняться как можно дальше от обычных судоходных трасс. Удобнее всего было прижаться к африканскому берегу, тем паче что мы уже подошли к французскому Марокко, где фашисты не должны были особенно нахальничать. Так и сделали.
С левого борта потянулись длинные, скучные африканские берега: крутые, обрывистые, высотой от 50 до 200 метров. Никакой растительности, почти не видно населенных пунктов, лишь через равные интервалы стоят маяки. Все уже свыклись с постоянной опасностью и в разговорах старались избегать этой темы. Время незаметно, но шло. И вот как-то перед ужином штурман торжественно объявил: «Подходим к Алжиру».
На берегу стали чаще появляться селения, вскоре почти весь берег зазеленел, а с левого борта появился Алжир во всей своей красе. Громадный порт, забитый судами всех стран, широкие улицы, застроенные высокими домами какой-то афро-европейской архитектуры, пальмы, по высоте не уступающие домам, на улицах масса народа и городского транспорта. Так и хочется влиться в эту свободно фланирующую толпу, сесть за столик кафе. Но увы. Не только зайти в порт, но даже ответить на вызов портовой радиостанции нам запрещено. Ответишь, могут заставить пройти досмотр судовых документов. Это уже задержка. А мы и так на Босфоре простояли. Надо спешить.
Но Алжир что! Он далеко и виден только в сильный морской бинокль. А тут рядом, буквально борт о борт с нами, ослепительно белый пассажирский лайнер линии Алжир — Марсель. Безо всякого бинокля видна публика, облепившая поручни на палубах. Изящные женщины в бальных платьях улыбаются, машут руками и даже шлют воздушные поцелуи. Отчетливо слышны звуки джаза, видны пары танцующих, снуют официанты с подносами в белых фартуках, словом, загнивающая буржуазия прожигает свою жизнь. Мы все собрались на палубе полюбоваться на очаровательных французских буржуазок.
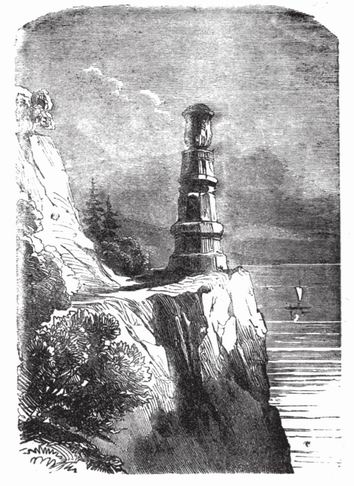
Что греха таить, мало среди нас было таких, кто не согласился бы поменяться ролями с кавалерами во фраках и смокингах, нежно обнимающими за плечи своих расфранченных дам. Но прошло несколько минут, лайнер исчез за горизонтом, а мы продолжили путь вдоль африканского берега.
«Смело идите вперед...»
Приближалась завершающая и наиболее опасная часть нашего рейса — переход от африканских берегов до испанской военно-морской базы Картахена. Именно на этом участке, который мы никак не могли ни миновать, ни обойти, нас будет встречать фашистский флот и персонально его флагман — линейный крейсер «Канариас», гроза всего флота Республики.
Самая западная часть Средиземного моря отличается большой интенсивностью судоходства. Движение судов здесь напоминает августовские вечера на Дерибасовской в Одессе. И каждый из этих судов — наш потенциальный враг. Быть может, судовой радист этого встречного парохода уже выстукивает «Канариасу» наши координаты... Пытаться проскочить эту опасную зону днем равносильно самоубийству. А тут еще начала капризничать одна из паровых машин, что существенно снижало наш и без того не очень быстрый ход. Пришлось принять решение: днем отстояться в укромной безлюдной бухточке у мыса Тенис, починить закапризничавшую машину и ближе к вечеру двинуться в путь. А там, бог даст, погода испортится.
Правда, это решение было связано для нас с большим риском: ведь если кто-нибудь из фашистских агентов (а они кишмя кишели на северо-западном побережье Африки) нас здесь заметит и сообщит на «Канариас», то ни о каком спасении речи быть не может. Нас взорвут с первого же залпа. Но идти в такой ответственный переход с ненадежной паровой машиной тоже нельзя. Эта задержка сдвигала весь график нашего рейса, и без санкции Москвы мы на это пойти не могли. Составили подробную «цидулю» и с нетерпением стали ждать ответа. Как ни странно, Москва почти сразу дала добро, и мы зашли в бухту Тенис.
За день механики кое-как подлатали машину, и к вечеру мы двинулись в «последний решительный». К сожалению, вместо необходимого нам сильного шторма или хотя бы густого тумана погода была, как в июле в Сочи. Огромная полная луна — на палубе хоть газету читай. Более невыгодной ситуации не придумаешь. Как тут не вспомнить «закон мирового свинства», предельно четко сформулированный, как мне кажется, С. П. Королевым: «Всякое явление тем более вероятно, чем менее оно желательно».
Москва все время нас ободряет: «Не бойтесь, двигайтесь смело, весь свободный флот Республики вышел вас встречать». Для оптической связи со встречающей нас эскадрой была даже установлена сигнализация: мигание по азбуке Морзе клотиковыми огнями (своего помощника Жору Кузнецова я из радистов переквалифицировал в сигнальщики).
Провели короткое совещание. Если форсировать топки, скорость будет выше, но начнет сильно дымить труба. При такой погоде, даже ночью, нас обнаружат километров за 15—20. Если не форсировать, дыма будет меньше, но и скорость заметно упадет, тогда не успеть за ночь дотелепать. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Но спорили мы недолго, большинство одобрило форсирование хода. Хоть какой-то конец, лишь бы скорее. В эту ночь никто не спал. В машинном отделении установили вахты по полчаса, что более или менее уравнивало наши шансы — кому идти ко дну, не поднимаясь на палубу. Все свободные от вахт высыпали на палубу и жадно рыскали глазами по горизонту, ища зеленые огоньки флота друзей. Идем полным ходом, труба дымит отчаянно, дым почти вертикально поднимается к небу. То и дело попадаются встречные суда, ведь мы находимся недалеко от Гибралтара, можно сказать, на Невском проспекте Средиземного моря.
Вначале на появление дыма на горизонте все реагировали очень чутко: наши или фашисты? Но потом привыкли, да и встречных стало меньше. А Москва все время твердит: «Флот вышел вас встречать. Смело идите вперед». Уже прошли треть пути до Картахены — флота все нет; половина пути — флота нет. Совсем перестали встречаться пароходы, видимо, Испания уже близко — флота нет. Прошли две трети пути — все по-прежнему.
Единственные спокойные люди на пароходе — мы с шифровальщиком Ваней Павловым. Москва буквально засыпает нас радиограммами, не давая возможности понервничать. Я еще кое-как управляюсь, а бедный Ваня совсем зашился. Радист там, по-видимому, сидит первоклассный. За всю ночь, несмотря на неважную слышимость, ни разу не попросил повтора. Но успокоительные московские радиограммы нас уже не радуют. «Флот вышел». «Флот вас ищет». «Не беспокойтесь». Кой черт! «Вышел! Ищет!» Время идет, мы одни и совершенно беззащитны со своим «адским» грузом.
Потихоньку начинает светать. Небо сереет, звезды блекнут, только луна светит вовсю. Заря все разгорается, небо светлеет, впереди по ходу уже отчетливо вырисовываются горные берега Испании. Перед рассветом все замерло: море, как парное молоко, только чуть-чуть колышется. Стало совсем светло. Уже видны селения на испанском берегу, а мы совсем одни. Капитан дает команду стопорить машины: время военное, впереди минные поля, и без лоцмана пароход дальше двигаться не может. Остановились.
Стоим, как дураки, и ждем, кто на нас наткнется первым — фашисты или свои. Уже около часа с севера слышны глухие раскаты канонады. Вполне вероятно, что встречающий нас флот наткнулся на противника и ведет с ним бой, а потому ни тем, ни другим сейчас не до нас. Москва продолжает нас утешать. Ваня Павлов еле-еле успевает расшифровывать радиограммы, а Спрогис быстро глянет и небрежно сует в карман. Выхожу на мостик с очередной радиограммой и с удивлением обнаруживаю, что мы уже не одни. Когда и откуда появились эти военные корабли, я за работой и не заметил, но один эсминец стоит совсем близко от нашего борта, а второй сзади загораживает выход в море. Эсминцы номерные, без флагов и опознавательных знаков. На нас наведены расчехленные 105-миллиметровые орудия и торпедные аппараты. Судя по приготовлениям, разговор предстоит серьезный. Канонада слышна все явственней. Самое важное — чьи это эсминцы?
На мостике эсминца, стоящего ближе к нам, появляется офицер, форму которого скрывает плащ с капюшоном. Спрашивает в мегафон по-испански: «Что за пароход?» Голос его не предвещает ничего хорошего. Наш капитан робко отвечает: «Мексиканский пароход "Мар Табан"». «Откуда и куда следуете?» — «Из Галаца в Вера Крус». — «Что везете?» Капитан с перепугу говорит первое, что пришло на ум: «Наранхас» (апельсины). Ответ его вызывает взрыв смеха не только на эсминце, но у нас. Из Румынии в Мексику везти апельсины! Нарочно не придумаешь!
Следующий вопрос офицера, хоть и не очень деликатный, но вполне резонный: «Тогда какого дьявола вы торчите в военное время у берегов Испании?» Ответ капитана: «Заблудились», видимо, не удовлетворяет офицера, и он приказывает спустить трап для досмотра парохода. Так как принадлежность эсминца осталась для нас невыясненной, после краткого совещания решено никого не пускать, вплоть до применения оружия, а в крайнем случае, и взрыва парохода. Офицер в более резкой форме приказывает спустить трап. Тут мегафон берет переводчик и во всю мочь своей итальянской глотки выкрикивает пароль: «Привет из Сицилии!» По отзыву мы должны понять, с кем имеем дело.
«Какая, к чертовой матери, Сицилия? — орет окончательно потерявший терпение офицер. — Спускайте трап, иначе прикажу немедленно открыть огонь». У всех упало сердце: пароля не знает, значит, фашист. Гулко звякнул о палубу выпавший из рук переводчика мегафон. Тут я впервые увидел признаки волнения у Артура Спрогиса. Он молча поднял мегафон и протянул его переводчику: «Если вы еще не потеряли дара речи, то передайте этим мерзавцам, что ни одного их человека мы на пароход не пустим, а если они вздумают открыть по нам огонь, то, из соображений собственной безопасности, пусть делают это с дистанции не менее километра». Услышав такой ответ, офицер на эсминце сразу утратил свой воинственный пыл и полез вниз, по-видимому, совещаться с начальством. Вскоре эсминец отошел метров на двести и остановился, не сводя с нас пушек и торпедных аппаратов.
Я кинулся в радиорубку передавать в Москву известие о печальном конце нашего рейса, но оказалось, что шифровальщик, памятуя о том, что самое страшное — это передача врагу шифровальных кодов, успел их уничтожить, оставив нас без связи. Тщетно вызывала меня Москва. Ни расшифровать их сообщения, ни передать свои я не мог, ибо работать открытым текстом не имел права ни при каких обстоятельствах. Единственное, что мне оставалось, — аккуратно отвечать на вызовы Москвы, показывая, что мы еще живы.
А пока перехвативший нас эсминец работал по радио совершенно незнакомым мне четырехцифровым кодом, что лишний раз подтверждало наши самые мрачные подозрения. Окончив переговоры, офицер снова появился на мостике и, под угрозой открытия огня, приказал следовать за ними. Поскольку никаких попыток высадки на наш пароход предпринято не было, мы решили подчиниться. Ближайший к нам эсминец встал впереди, мы посередине, второй эсминец замкнул колонну, и мы двинулись в противоположном от берегов Испании направлении — в сторону захваченного фашистами острова Мальорки.
Стало очевидно, что нас взяли в плен фашисты. Единственное, что предстояло решить, — когда взрываться, сейчас или позже. С присущей ему железной логикой Артур рассудил, что пока нас не трогают, преждевременно торопиться на тот свет. Надо попытаться дойти до города Ла-Пальма — фашистской базы на Мальорке, а там, отпустив испанских моряков, «рвануться» так, чтобы нанести максимальный ущерб. Мы привели в боевое состояние свое оружие. Артур достал из загашника гранаты-лимонки, раздал часть из них, и все мы, советские добровольцы, сгрудились около самого важного объекта — радиорубки. Испанские моряки, поняв, что толковать с нами о сдаче транспорта врагу бесполезно, разбрелись кто куда. Москва все время беспокоится, вызывает, а ответить ей толком я не могу.
Ко мне в радиорубку заходят Коротков и Спрогис, просят выйти второго радиста Жору Кузнецова и шифровальщика Ваню Павлова. «Вот что, Лева, — говорит Артур, — мы, конечно, понимаем, что давать в эфир открытый текст — это серьезнейшее нарушение, если не сказать преступление. Но ты ведь сам знаешь, что мы уже фактически покойники, а с них и спрос другой. Очень не хочется погибать, если никто не знает, как ты погиб, не знает, что ты до конца выполнил свой долг. А поскольку у нас нет другого способа сообщить домой о том, как мы погибли, я властью своих полномочий позволяю тебе...» Увидев на моем лице несогласие, продолжает: «...если хочешь, то приказываю тебе передать открытым текстом в Москву эту радиограмму». И протягивает мне листок. До самой смерти не забуду текста этой радиограммы: «Большая деревня[12] Хозяину[13] Директору[14] тчк берегов Испании захвачены фашистами тчк их контролем следуем направлении Мальорки тчк фашистов на борт не пустили и не пустим тчк по мере возможности будем взрываться Ла-Пальма целью нанесения врагу наибольшего ущерба да здравствует ВКП(б) и наша великая родина тчк прощайте товарищи тчк просим позаботиться о наших семьях тчк (эту фразу я добавил от себя, без разрешения Спрогиса). Связь прекращаем тчк Коротков Спрогис Хургес тчк».
Воображаю, как был удивлен московский радист, принявший вместо обычной колонки цифр такую «лебединую песнь»! Но сообщение о приеме я получил сразу же, и на этом всякая связь с Москвой прервалась. Часа полтора мы, зажатые с двух сторон конвоирами, следовали навстречу неизбежному концу. Все, кто мог, оставались на палубе. Курящие прикуривали одну папиросу от другой, а остальные просто ждали конца затянувшейся агонии. Канонада, раздававшаяся со стороны вновь скрывшихся берегов Испании, постепенно стихала. Вдруг шедший впереди эсминец подал команду стопорить машины. Все остановились.
Вообще говоря, поведение наших фашистов-конвоиров становилось все более подозрительным. Видя наше решительное нежелание допускать на борт посторонних, они давно могли бы потопить нас несколькими артиллерийскими залпами с большого расстояния. Будучи информированы о характере нашего груза (кроме недвусмысленного предупреждения Спрогиса, они, возможно, получили сведения и по радио), фашисты прекрасно понимали, что мы не допустим захвата парохода с грузом. В этих условиях не имело никакого смысла тащить нас на свою базу, где взрыв мог бы нанести большой ущерб. Вся логика событий подсказывала нам, что фашисты должны с нами разделаться где-нибудь в открытом море. А тут остановка. Значит, конец!
Остановились. Играют, как кошка с мышью. Пауза затягивается. Шевелится робкая надежда: неужели свои? Но если свои, почему не отвечают на пароль? Ведь если в момент встречи они могли его и не знать, но теперь, после стольких переговоров по радио, им могли бы его сообщить. За исключением малоразговорчивого офицера, никто из командного состава не появляется. На палубах только застывшие около пушек и торпедных аппаратов матросы. Да и «наш» офицер не делает больше попыток вступить с нами в переговоры, ограничиваясь лишь сигнализацией флагами. И опять-таки: если это свои, то зачем на нас направлены жерла орудий и тупые носы торпед?
Мы собрались около радиорубки. Вдруг на мачтах эсминца появился сигнал: «Следовать за мной». Эсминец круто поворачивает налево, и мы идем по направлению к Испании. Опять оживает надежда. А вдруг это очередная провокация? Подведут к Картахене и расстреляют, чтобы разрушить не фашистскую Ла-Пальму, а главную военно-морскую базу Республики.
В свое спасение мы окончательно поверили только тогда, когда при подходе к молу Картахены нам услужливо открыли боны, а на мачтах наших конвоиров взвились красно-желто-фиолетовые флаги. Все обнимают друг друга, у многих на глазах слезы. Вот уже мы проходим боны Картахенской гавани и, как герои, следуем мимо кораблей военного флота (кстати, так и не вышедшего нас встретить).
Встреча действительно была впечатляющей. Стреляло все, что могло стрелять: береговые батареи, артиллерия всех калибров на кораблях, стрелял каждый, у кого было из чего стрелять, а те, у кого не было, подбрасывали вверх свои головные уборы. От криков «Viva!», «Salud!» дрожал воздух, а уж корабельные музыканты и подавно не жалели своих легких.
И вот, после непродолжительных маневров, мы у причала. С каким же нетерпением все ждали возможности ступить на твердую землю, под которой уже не будет 5 000 тонн взрывчатки. Как долго тянулись эти последние минуты швартовки. «Братцы! — воскликнул вдруг один из добровольцев. — Гляньте-ка! А ведь наши здесь уже есть!» — и показал рукой на ослепительно белую стену портового пакгауза, на которой углем были выведены три родные русские буквы.
За обедом выяснились некоторые подробности, способствовавшие нашему благополучному прибытию в Картахену. Дело в том, что о нашем передвижении фашистам было известно все, и если они нас не потопили в районе Алжира и даже раньше, то просто потому, что были твердо уверены в том, что мы от них и так никуда не денемся. Им не было смысла гоняться за нами по всему Средиземному морю, да еще вблизи французских территориальных вод, если можно было спокойно потопить нас у самих берегов Испании.
Флагман фашистского флота «Канариас» в ночь нашего ожидаемого прибытия рейдировал в районе нашего предполагаемого курса. «Канариас» был по тем временам ультрановым военным кораблем, который прибыл в распоряжение испанских фашистов буквально со стапелей Фридрихсхафена. Обладая более быстрым ходом и большой дальнобойностью артиллерии главного калибра, чем аналогичные корабли флота Республики, «Канариас» мог вести бой на почти предельной дальнобойности своей артиллерии, будучи сам недосягаем для их огня. И вот это-то чудовище и караулило нас целую ночь на пути из Африки в Картахену. К счастью, мы чинили «скисшую» машину у мыса Тенис. Это спутало все карты фашистской разведки.
Не поймав нас во время нашего предполагаемого перехода через Средиземное море, фашисты решили, что мы незаметно (хотя как мог наш тихоход в штиль и при полной луне скрыться от такого корабля, как «Канариас»?) проскочили мимо их рейдера. И тогда они решили разбомбить наш транспорт в порту, а заодно разнести и сам порт, и город. Для этой цели они мобилизовали всю свою бомбардировочную авиацию и целую ночь бомбили пустой порт и несчастный город, а в это время мы без всякого конвоя пересекали Средиземное море.
Канонада, которую мы слышали, подходя к испанским берегам, и была концом ночной бомбежки Картахены в честь нашего предполагаемого прибытия туда. А у берегов Испании нас совершенно случайно прихватили два республиканских эсминца, просто удравших из Картахенского порта при начале бомбежки. Они ничего не знали ни о нашем рейсе, ни о грузе. Конечно, если бы ведший с нами переговоры офицер несколько раньше раскрыл свою принадлежность к Республике, это избавило бы нас от многих переживаний, в том числе и от панической радиограммы в Москву. Но он, в свою очередь, принял нас за фашистский транспорт, заблудившийся у берегов Испании. Пока на эсминце выясняли обстановку (следует учесть, что о нашем рейсе знал в Картахене очень ограниченный круг лиц, да и сами переговоры с базой происходили в момент сильнейшей бомбежки порта и города, так что выяснить что-либо было нелегко), и произошли описанные выше события. Вначале мы готовы были просто растерзать этого офицера, но затем наши кровожадные намерения испарились, и мы даже несколько раз выпили за его здоровье, памятуя, что все хорошо, что хорошо кончается.
[1] Первую часть публикации и вступительную заметку П. Поляна см. в предыдущем номере нашего журнала (2006. № 6 (33). С. 306–330). — Примеч. ред.
[2] Александр Лазаревич Абрамов (Миров-Абрамов). С 1921 года на дипломатической работе, сотрудник Исполкома Коминтерна (ИККИ) в Берлине. С 1926-го заведующий Отделом международных связей ИККИ. По существу отдел являлся подразделением советской разведки. С ноября 1935-го зам. зав. Службы связи ИККИ. В 1936-м назначен помощником начальника 4-го (разведывательного) управления Генштаба РККА. В этой должности Абрамов руководил «испанским направлением». Один из главных организаторов разведывательной работы во время Гражданской войны в Испании. — Примеч. ред
[3] Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР. — Примеч. ред.
[4] Читая в 1938 году судебный отчет по делу Бухарина, Рыкова, Ягоды и пр., я узнал, что по этому делу проходил и Миров-Абрамов, который якобы был связным между Ягодой и Троцким и, часто бывая за границей, передавал Троцкому крупные денежные суммы. Впоследствии я узнал, что в 1937 году и сам Абрамов, и его жена Ольга Мирова — корреспондент ТАСС в Испании — были арестованы и пали жертвою культа личности Джугашвили.
[5] К этому времени я уже знал, что работаю в 4-м Управлении Генштаба РККА — Разведупре, где начальником был комкор С. П. Урицкий (племянник М. С. Урицкого), который пал жертвой культа личности Джугашвили в 1938 году.
[6] Также пал жертвой культа личности Джугашвили.
[7] Лев Николаевич Захаров-Мейер (1899—1937). Сотрудник советской военной разведки. Комкор. Член РСДРП(б) с 1917 года. В Красной армии с 1918 года. С 1935-го на службе в Разведупре Генштаба РККА (помощник начальника Разведупра). Арестован органами НКВД в июне 1937 года. Расстрелян в том же году как «враг народа». — Примеч. ред.
[8] Коротков вскоре после прибытия в Испанию проявил высокую воинскую доблесть, в 1937-м был награжден орденом Боевого Красного Знамени и вне очереди получил звание полковника. (За точность сведений не ручаюсь, но мне говорили, что он погиб в 1950 году в Корее, в звании генерал-лейтенанта.)
[9] С Артуром Карловичем Спрогисом мне впоследствии приходилось часто встречаться в Испании, где мы находились на одном участке Южного фронта. Это был невозмутимо спокойный, отчаянной храбрости человек. Работал он преимущественно за линией фронта, в тылу фашистов, и любая из его операций была столь невероятна, что при рассказах (на которые Артур был крайне скуп) вызывала недоверие слушателей. За боевые заслуги в Испании Спрогис был награжден орденами Ленина и Боевого Красного Знамени. В Отечественную войну Артур Карлович был начальником разведки Западного фронта и неоднократно работал «по старой специальности» — в тылу врага, за что был награжден вторым орденом Ленина, еще четырьмя орденами Красного Знамени и другими правительственными наградами. Умер он в звании полковника 2 октября 1980 года. До самой смерти Спрогис сохранил ясную память и самообладание. Когда я навестил его в больнице за три недели до смерти, он, хотя и был в очень тяжелом состоянии, все время шутил и, казалось, твердо верил в свое выздоровление. Вот такому-то железному человеку и был поручен взрыв нашего парохода. Нет сомнений, что в крайнем случае он бы это поручение выполнил.
[10] После революции и Гражданской войны за границей оказалось очень много русских эмигрантов, не имевших ни средств к существованию, ни специальности. Ни одна европейская страна не желала принимать в свое подданство этих людей, и они страшно бедствовали. По инициативе известного полярного исследователя Фритьофа Нансена была созвана международная конференция, на которой был принят статут международного паспорта без подданства, получившего в обиходе наименование «нансеновского паспорта». Любой человек, получивший такой паспорт, мог свободно проживать в любой из стран, подписавших конвенцию, и занимать любую должность, за исключением военной и государственной службы.
[11] Еще в Севастополе ходили слухи о том, что немецкие фашисты спустили по Дунаю в разобранном виде малютки-субмарины, оснащенные торпедами. Эти субмарины предназначались специально для потопления судов, направлявшихся из наших черноморских портов в Испанскую Республику. Так что, если верить слухам, опасность угрожала нам почти сразу же по выходе из Севастополя. Нельзя сказать, чтобы подобные слухи благотворно влияли на настроение испанских моряков. Мы, советские добровольцы, уже были подготовлены комиссаром и знали, на что идем. В наиболее выгодном положении оказались мы с Жорой и шифровальщик Ваня Павлов (старший лейтенант Разведупра). Москва понимала наше настроение и не давала скучать, почти непрерывно назначая сеансы связи с большим обменом. А за напряженной работой некогда было думать о таких пустяках, как немецко-фашистские подводные лодки на Черном море.
[12] Москва.
[13] Нарком обороны К. Е. Ворошилов.
[14] Комкор С. П. Урицкий.
