Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Культура памяти и политика забвения
1
Анализируя культуру памяти, немецкий историк Штефан Требст условно разделил посткоммунистические общества Центральной и Восточной Европы на четыре группы[1]:
1. Общества, в которых преобладающей является точка зрения, что коммунистический режим был навязан извне и им чужд, в том числе этнически. Это, прежде всего, Эстония, Латвия и Литва.
2. Общества, в которых не существует подобного базового консенсуса и идут политические споры вокруг интерпретации социалистического прошлого (Польша, Венгрия, Украина).
3. Общества, в которых преобладает двойственное, с изрядной долей безразличия, отношение к прошлому: коммунизм, с одной стороны, воспринимается как нечто навязанное извне и чуждое, с другой — широко распространено мнение, что он способствовал модернизации, а потому «не все было так плохо» (Румыния, Болгария и другие балканские страны).
4. Общества, в которых новая элита не просто вышла из старой, коммунистической, но и остается в союзе с ней, т. е. налицо континуитет авторитарных структур, не отмежевавшихся от коммунистической практики, с чем граждане покорно соглашаются и естественность чего не ставят под сомнение (Российская Федерация, Молдова и другие государства СНГ, а также страны, где авторитарно правящие элиты открыто опираются на коммунистическую модель и даже заявляют, что за ней будущее: имеется в виду Беларусь и Приднестровская Республика. Вместо десоветизации в них произошло лишь перекрашивание советской культурной нормы в национальные или региональные цвета).
Украина, по мнению Требста, это «единственная республика СНГ, где культура памяти стала важнейшим полем битвы между двумя крупными политическими лагерями — посткоммунистами и национал-либералами». Хотя автор, на наш взгляд, недооценивает уровень подобного противостояния в Молдове и Беларуси, насчет Украины он, несомненно, прав. Острота идеологических баталий обусловлена здесь двумя факторами. Во-первых, противостоящие друг другу группы и по численности, и по дискурсивным ресурсам примерно равны. И, во-вторых, спор идет вокруг сразу двух наследий, тоталитарного и колониального[2], неразрывно связанных и актуализирующих одно другое.
Колониальный компонент, присущий коммунистическому режиму в Украине, сообщал последнему даже большую брутальность, чем в метрополии. Травматический опыт террора, чисток и языково-культурных притеснений неизбежно должен был повлиять на сознание людей. Украинцы во многих случаях интернализировали, т. е. приняли как собственную сущность, не только коммунистическую/тоталитарную идеологию со всеми ее символами и нарративами, но и преимущественно негативный, уничижительный образ самих себя, который формировался колонизаторами.
Как следствие, их сопротивление декоммунизации обрело личное, внеидеологическое измерение, питающее специфический российско-советский шовинизм.
Этим Украина существенно отличается от, например, Литвы, где ни коммунизм, ни советский империализм не были глубоко и массово интернализированы и где национальная идентичность способствует скорее отторжению коммунистического наследия, нежели его усвоению и сохранению. Украинское (и белорусское) общество расколото в гораздо большей степени, чем общества ее центральноевропейских и прибалтийских соседей, потому что сама идентичность украинцев (и белорусов) драматически разорвана по линии «советский/антисоветский».
Фактически мы имеем дело с двумя несовместимыми представлениями о том, что такое Украина, чем она была и какой должна стать. Эти представления, «проекты» можно определить как «украинский» и «малороссийский». Первый часто называют «националистическим», хотя тут надо сделать по крайней мере два уточнения. Во-первых, вследствие ряда причин этот проект сформировался как принципиально прозападный и преимущественно (хотя и не исключительно) либерально-демократический. И во-вторых, по логике, ему альтернативный малороссийский проект должен был бы быть «интернационалистским», что и утверждают его сторонники, однако это не так. Скорее его можно назвать имперско-шовинистским, решительно антизападным и воинствующе ксенофобским.
Украинский «националистический» проект ничем, собственно, не отличается от других «нациосозидающих» проектов восточноевропейских стран. А вот «малороссийский» во многом уникален. В Российской, а затем и в Российско-Советской империи он был всего лишь разновидностью регионализма. Однако после обретения Украиной независимости этот проект чем далее, тем более отличает сочетание консервативной традиционно советской/восточнославянской/русско-православной идентичности и новой «креольской», т. е. идентичности и идеологии нового украинского русофонного национализма.
Первый проект решительно отвергает советско-имперское наследие, трактуя его преимущественно как нечто, навязанное оккупантами. Другой проект пытается вобрать в себя это наследие — со всеми его символами, нарративами и стереотипами. В результате Украина остается полем боя двух противоположных идеологий, представлений о прошлом и будущем.
Несколько упрощая, это противостояние можно представить как борьбу между украинофонами и русофонами за то, кто в конечном счете окажется в большинстве. Еще более упрощенно — это борьба между востоком и западом, между территориями исторической Речи Посполитой (где на выборах 2002, 2004 и 2006 годов украинский/европейский проект получил явную поддержку) и территориями поздней имперской колонизации, историческим «Диким полем» (где советский/восточнославянский проект остается господствующим). По сути, однако, речь идет о более глубоком, идеологическом противостоянии — между двумя проектами, двумя идентичностями, двумя системами ценностей, двумя, как сказал бы Григорий Грабович, «культурными стилями».
Этот контекст идеологического противоборства — своего рода «незаконченной национально-освободительной войны» — чрезвычайно важен для понимания политики памяти, как и многих других процессов, в сегодняшней Украине. Следствием нерешенности принципиального для многих украинцев вопроса: являются ли они суверенным государствообразующим большинством в своей стране или же социально и языково-культурно маргинализированным меньшинством (вроде белорусов в Беларуси или же индейцев в обеих Америках) — становится этническая мобилизация и формирование у многих оборонного сознания, как у защитников осажденной крепости.
Такое сознание практически исключает возможность критики «нас» (и самокритики), поскольку даже если она исходит не от «них», она в любом случае льет воду на «их» мельницу. По этой причине даже либеральные украинские интеллектуалы часто уклоняются от обсуждения неудобных вопросов, касающихся, скажем, украинско-еврейских или же украинско-польских отношений — дескать, «еще не время».
Вообще в обстановке «холодной гражданской войны» обсуждать сколько-нибудь острые темы весьма затруднительно. Это не значит, что в Украиж за годы независимости не было вовсе таких попыток. Они делались, но, как правило, на страницах интеллектуальных журналов. Когда же такого рода вопросы поднимают массовые издания, это чаще всего вызывает непонимание, раздражение, в лучшем случае равнодушие.
Предлагаемый очерк посвящен официальной политике памяти, т. е. конструкции (и реконструкции) системы исторических смыслов, ценностей и устремлений, легитимизирующих государство и властную элиту. Гипотеза моя состоит в том, что официальная политика памяти в Украине столь же двойственна и двусмысленна (и не могла не быть таковой), что и официальная политика в целом — внутренняя и внешняя. Эта двойственность есть следствие гибридной природы режима, возникшего в результате ситуационного компромисса между идеологическими противниками — национал-демократами и суверен-коммунистами. Но она отражает также гибридный и двойственный характер украинского постколониального и посттоталитарного общества.
Компромисс был необходим для обретения Украиной независимости, ее международной и внутренней легитимизации, хотя сущность и дальнейшее наполнение этой независимости — институциональное и дискурсивное — понимались обеими сторонами по-разному. Постсоветская номенклатура пыталась сохранить свое господствующее положение, а следовательно — обеспечить институциональную преемственность старому режиму в рамках нового, но изначально неправового и по сути советского. Национал-демократы как более слабые партнеры в коалиционном мезальянсе вынуждены были смириться со своим подчиненным положением, удовлетворившись в основном символическими концессиями, полученными от номенклатуры. Содержание и масштаб этих концессий никогда не обсуждались и не согласовывались в комплексе; впрочем, и сама коалиция имела скорее неформальный характер, т. е. создавалась и пересоздавалась ad hoc, крайне невыгодным для национал-демократов путем кооптирования их вождей во властную номенклатуру.
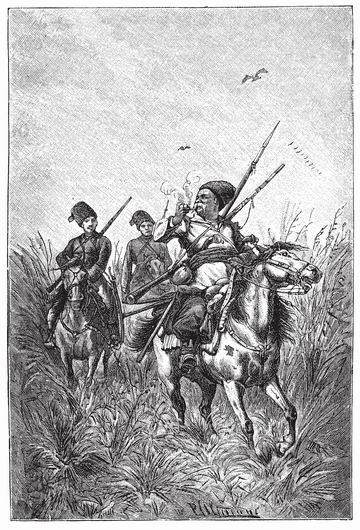
Гибридность нового режима закрепилась таким образом и на институциональном, и на символически-дискурсивном уровнях. Институционально Украина стала прямым продолжением УССР со всеми ее практиками и «кадрами», хорошо, впрочем, приспособленными к имитированию «демократии», «рыночных реформ» и «национального возрождения». Это имитирование, рассчитанное на международного и внутреннего (главным образом национал-демократического) потребителя, должно было выглядеть достаточно убедительным, чтобы скрыть то обстоятельство, что режим фактически не изменился (опереточный «запрет» компартии был едва ли не самым блестящим номером в этом дивертисменте). В то же время оно не должно было выходить за определенные границы, дабы не создавать угрозы политическому, экономическому и культурному доминированию посткоммунистической номенклатуры.
Таким образом на символически-дискурсивном уровне независимая Украина стала (формально) реализацией национал-демократического проекта — однако с существенными дополнениями и ограничениями, которые достаточно быстро этот проект выхолостили, превратили в профанацию. Вячеслав Чорновил в свое время обвинял Леонида Кравчука в том, что тот украл «нашу», т. е. руховскую, программу, поскольку предвидел, что воплощать эту программу в жизнь Кравчук, конечно же, не будет: национал-демократический проект был нужен посткоммунистам лишь для заполнения идеологического вакуума, возникшего после их отречения от безнадежно скомпрометировавшего себя ленинизма, а также для международной и внутренней легитимизации «новой» власти.
Приняв формально «украинский» проект национал-демократов, постсоветская номенклатура внимательно следила за тем, чтобы ее с ним полностью не отождествляли. Дистанцировалась она также и от проекта русо/советофильского. Фактически правящая элита заняла удобную, стратегически важную позицию между двумя проектами и двумя лагерями, взяв на себя роль своего рода рефери. Таким образом она оставляла себе свободу трактовки практически каждого важного пункта национального нарратива. Этот нарратив, базирующийся на исторической модели Михаила Грушевского и подчиненный национально-освободительной, «государствосозидающей» телеологии, лег в основу школьных учебников, породил национальные символы, памятные даты, знаки, пантеон героев — от древнерусских князей (с казацкими усами, а не «кацапскими» бородами на банкнотах, названных гривнами) до «сепаратиста» Мазепы и, естественно, самого Грушевского (на тех же гривнах) или Симона Петлюры (на почтовых марках).
При этом вне канона остались герои УПА (Украинской повстанческой армии) — наиболее демонизированные персонажи советофильской пропаганды и наиболее решительные борцы против советского империализма и коммунизма. А главное — из этого канона фактически до сих пор не убраны разнообразнейшие персонажи советской мифологии, чьи имена доныне носят многие улицы украинских городов. Вся эта эклектика, несмотря на ее кажущуюся невинность и даже, по мнению некоторых, забавную «постмодерность», выполняет на самом деле существенную манипулятивную роль. Она как бы намекает на то, что украинский проект в Украине не следует воспринимать слишком всерьез: пусть он официально и принят «за основу», однако сделано это сугубо оппортунистически и без видимого желания его воплощать; для властных элит он остается предметом торга, переговоров и реинтерпретаций.
Семантическая двойственность порождает двойственность политическую: коль скоро из противостояния между двумя проектами практически исключен морально-этический аспект и, вообще, речь ведется не о двух разных системах ценностей, а лишь о банальном состязании между «националистами» и «коммуняками», «Востоком» и «Западом», КГБ и ЦРУ, то население должно радоваться, что существуют еще и наделенные властью «прагматики», самопровозглашенные «миротворцы», способные трезво дистанцироваться от обоих проектов и мудро (а не цинично) отметить с одной частью населения юбилей поэта Васыля Стуса, а с другой — юбилей коммунистического партайгеноссе Щербицкого, который антисоветчика Стуса сгноил в концлагере; с одними — помянуть жертвы искусственно организованного в 1933 году голода, а с другими — отметить заслуги исполнителей этого сталинского проекта, отпраздновав 80-летие ленинского коммунистического союза молодежи. При этом ни у кого не должны возникать вопросы ни о комсомольско-щербицком происхождении самих этих «центристов» и «миротворцев», ни о манипулятивном характере тех сигналов, которые они, применительно к обстоятельствам, посылают разным аудиториям, преследуя прежде всего свои частные и узко корпоративные интересы.
Посткоммунистическая номенклатура, похоже, интуитивно почувствовала, какие замечательные возможности для манипулирования открываются перед ней в обществе с низким гражданским и национальным самосознанием, многочисленными региональными, этническими, религиозными, языково-культурными линиями раздела, низким уровнем взаимодоверия и солидарности. Чтобы сохранить господствующее положение в таком обществе, надо было лишь удерживать его в атомизированном, негражданском состоянии. То есть усугублять существующие межгрупповые фобии, запугивать всех перспективой «хорошей войны» и преподносить себя как единственно возможных («центристских»!) гарантов «плохого мира».
Политика памяти стала, таким образом, частью манипулятивных технологий, применяемых посткоммунистами для углубления дезориентации общества и аномии, шантажирования политических союзников и дискурсивной маргинализации оппонентов. Не останавливаясь здесь подробно на этих технологиях, описанных отчасти мною[3], отчасти другими исследователями (Григорий Грабович, Володымыр Кулык, Юрий Шаповал, Сергий Грабовский), попробуем ответить на весьма актуальный вопрос: в какой степени новая, «послереволюционная» власть отказалась от манипулятивных практик и, вообще, насколько изменилась официальная политика памяти за два прошедших после «оранжевой революции» года?
2.
Надежды на то, что «оранжевая революция», подобно «бархатным революциям» 1989 года в Центрально-Восточной Европе, ознаменует радикальный разрыв с советским прошлым, с тоталитарным и колониальным наследием, к огромному сожалению, не сбылись. Новая власть так и не дала ясного ответа та ключевой для всех «революционеров» вопрос: были ли десятилетия колониально-тоталитарного гнета «частью нашей истории», от которой «не следует отрекаться», или же все-таки речь идет о преступном режиме, действия которого требуют соответствующей моральной и правовой оценки.
Этот вопрос, собственно, не был даже поставлен на государственном уровне; обличительная риторика «оранжевых» ограничилась инвективами в адрес «преступной власти», воплощенной в Кучме-Медведчуке-Януковиче — персонажах, несомненно, малосимпатичных, однако, надо признать, выглядящих почти постниками на фоне своих истинно каннибальских коммунистических предшественников. Но даже с такой сугубо пропагандистской, популистской риторикой («бандитам — тюрьмы!») было покончено в сентябре 2005 года, когда Ющенко и Янукович подписали политический меморандум, по которому все «бандиты» помельче, причастные к фальсификации выборов, получали амнистию, а те, что покрупнее, — депутатскую неприкосновенность: не только в Верховной, но и во всех скупленных ими местных радах.
Этот шаг, воспринятый «оранжевыми» энтузиастами как предательство, президент Ющенко объяснил политической целесообразностью: мол, заЯнуковичем стоят миллионы избирателей, и это с ними, а не с их предводителем президент ищет взаимопонимания. Аргументация крайне уязвимая, поскольку, во-первых, взаимопонимания с избирателями надо было искать еще в январе, сразу после победы, а во-вторых, не мешало бы помнить, что в свое время за господином Шикльгрубером и его Национал-социалистической рабочей партией стояло еще больше избирателей, чем за Януковичем. Что не помешало союзникам провести Нюрнбергский процесс — вместо подписания политического меморандума с нацистскими преступниками, представлявшими еще недавно значительную часть многомиллионного германского электората.
«Главная наша ошибка, — сетовал по этому поводу философ Мирослав Маринович, — кажется, в том, что мы не понимаем логики ни верховенства закона, ни христианства. Если говорить о первом принципе, то он позволяет сделать нечто очень важное, а именно: различить факт квалификации в приговоре определенных действий как преступных и факт исполнения этого приговора. Нежелание превратить страну в одну огромную "судебную площадку" уже дважды оборачивается неназванностью преступления, что, в свою очередь, развращает общество. Действия, преступные с точки зрения формального права и здравого смысла, не квалифицируются как таковые в надлежащем судебном процессе. Вследствие этого преступники получают невинный статус "политических оппонентов", "инакомыслящих" и т. п. и вдобавок могут подавать иск за оскорбление чести и достоинства, если кто-то из нормально мыслящих людей в отчаянии все же назовет их преступниками. Однако еще опаснее то, что упомянутая неназванность преступления оборачивается правовым нигилизмом, потерей народом правового чувства. Безнаказанность делает преступление привлекательным, а преступника — наглым. Он презирает того, кто прощает ему его преступление, поскольку прощение воспринимает как слабость»[4].
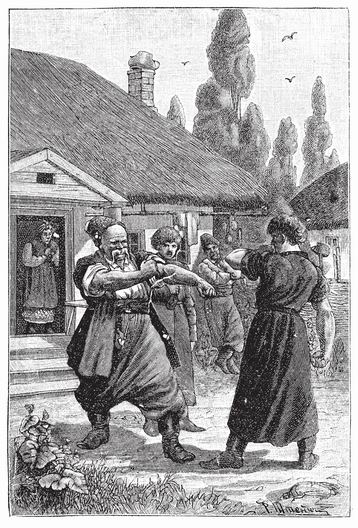
Народный депутат от «Нашей Украины» Михайло Поживанов, занимавший с 1994 по 1998 год пост мэра Мариуполя и посему прекрасно знакомый с методами главарей донецкого клана, высказался еще определеннее: «Губернатор Щербань[5] в лицо бросал мне: "Не строй из себя самого умного! Девять грамм свинца в нашей стране ничего не стоят". Потому я и стоял на Майдане с Виктором Ющенко, что понимал, какая зараза может распространиться. Вся страна голосовала тогда против принципов, которые были в том регионе. <...> А в Донецком регионе люди запуганы до сих пор. Поэтому мне непонятно, как руководство страны могло сесть с ними за стол переговоров»[6].
То, что сядут, можно было предвидеть еще в январе, когда «оранжевая» власть более чем прохладно отнеслась к призывам принять закон о люстрации и осуществить последовательную десоветизацию общества. Президент патетически объявил, что не допустит «охоты на ведьм», а его новоназначенный министр юстиции Роман Зварич объяснил надоедливым люстраторам-инквизиторам, что принятие такого закона нарушило бы конституционные права граждан и что в цивилизованной демократической стране не может быть запрета на профессии.
Здесь мы имеем дело с характерным примером подмены понятий и дискурсивной маргинализации оппонентов путем оглупления их тезисов. Если определенные лица совершали поступки, которые даже формально советское (или постсоветское) право квалифицирует как преступление, то привлечение этих лиц к уголовной ответственности вряд ли можно считать «охотой на ведьм», как, впрочем, нельзя считать таковой и нравственное осуждение лжецов и провокаторов, называющих себя «журналистами», «аналитиками» и «политтехнологами». Точно так же не является «запретом на профессии» требование к претендентам на некоторые, в общем-то немногочисленные, должности раскрывать информацию о своем сотрудничестве со спецслужбами СССР, если таковое имело место: закон о люстрации в его умеренной версии предусматривает наказание лишь за сокрытие таких сведений, но не за само сексотство.
То, что такой закон, подготовленный группой депутатов, не был даже вынесен на обсуждение парламента, объясняется не только сопротивлением постсоветской элиты, но и отсутствием политической воли у элиты «оранжевых» и, самое грустное, отсутствием понимания важности данной проблемы в самом обществе. Господствующей остается позиция, которую озвучил Владимир Литвин, один из столпов старого режима, сохранивший, впрочем, видное положение и при режиме новом: «Власть должна думать не о ревизии прошлого, а о будущем страны»[7].
Справедливости ради надо признать, что за 13 лет украинское общество все же заметно изменилось. Дискуссии о люстрации 2004—2005 годов уже были не столь маргинальны, как 1991—1992-го[8]. Можно предположить, что за следующие 13—15 лет украинское общество окончательно дозреет до решительного пересмотра своего тоталитарного и колониального наследия, что совпадет, вероятно, с приходом к власти новых элит — уже совсем несоветских, т. е. не компартийных, как 1991-м, и не «комсомольских», как в 2005-м. (Под «компартийностью» и «комсомольскостью» здесь понимается не столько карьерное прошлое желто-голубых и оранжевых лидеров, сколько их советская ментальность, проявляющаяся прежде всего в традиционном неуважении к закону и столь же традиционном непонимании, что именно незыблемость права, а не всеобщие выборы есть основа эффективной либеральной демократии.)
«Оранжевые» политики во главе с Ющенко несомненно во многих отношениях лучше своих предшественников. Прежде всего они более порядочны в личном плане и более ответственны в плане гражданском. Новая власть имеет определенное представление о raison d'Etat, а не живет исключительно частными и корпоративными интересами. Поэтому она как умеет реализует «украинский» проект, а не лавирует оппортунистически между проектами «украинофильским» и «советофильским». Непоследовательность и часто поверхностность действий власти обусловлены главным образом объективными факторами — амбивалентностью представлений, преобладающих в обществе (и, соответственно, во властных элитах как части этого общества), и недостатком образования, культуры и компетентности у большинства ее представителей в европейском, т. е. несоветском, значении этих понятий.
Что касается обсуждаемой здесь политики памяти, то новая власть не использует ее в манипулятивных целях, не пытается эксплуатировать двойственность сознания людей и не натравливает разные группы населения друг на друга ради укрепления своей власти.
В новой политике памяти немало наивного. Достаточно вспомнить превратившееся в навязчивую идею увлечение Ющенко культурой Триполья и чрезмерную суету вокруг новосоздаваемых музеев. Но есть и вполне серьезные проекты вроде создания Института национальной памяти по польскому образцу. Правда, у него и близко не будет тех полномочий, какими фактически обладает польский IPN, являющийся по сути главным люстрационным учреждением. И все равно эта политика честнее и целостнее кравчуковско-кучмовской — касается ли она увековечения памяти жертв большевистского голодомора 1932—1933 годов, признания заслуг руководителей Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) (правительством намечен обширный план соответствующих мероприятий на ближайшие пять лет) или отношения к правозащитникам и узникам советских концлагерей (недавно большая их группа в связи с двадцатилетием Хельсинкского акта была удостоена высших государственных наград).
Постсоветская амбивалентность воззрений новой власти (и самого общества) в полной мере проявилась во время празднований победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне, которую Кремль и Путин небезуспешно попытались использовать в собственных пропагандистских целях, для чего на вспомогательные «кордебалетные» роли были привлечены десятки мировых лидеров. Украинский президент, прекрасно отдавая себе в этом отчет, поначалу отказался принимать участие в московском шоу, заявив, что будет праздновать День Победы со своими ветеранами в Киеве. При этом он предложил отказаться от помпезных мероприятий с военным парадом в советском стиле и ограничиться народным гулянием на Крещатике. Ющенко призвал также ветеранов УПА и Красной армии в День Победы подать друг другу руки, чтобы 9 мая стало также и днем национального примирения.
Все его инициативы, однако, оказались пустым звуком. Под нажимом промосковского лобби и, в частности, «профессиональных ветеранов» (нередко смершевско-энкаведистской закваски) Ющенко все же поехал в Москву (в тот же день он, правда, вернулся в Киев, чтобы продолжить празднование на Крещатике). Не подписал он также, вопреки ожиданиям, указ о реабилитации Украинской повстанческой армии, предусматривающий соответствующие почести и привилегии для ее ветеранов. Вместо этого он, выступая перед ветеранами советскими, выразил искреннее сожаление по поводу не преодоленного до сих пор раскола между двумя лагерями: «В наших сердцах мы простили немцам, японцам, полякам; мы, кажется, простили всем, кто был в противоположных окопах. Мы лишь не смогли простить сами себе. Ветераны Великой Отечественной войны, к сожалению, до сих пор не подали руки ветеранам УПА».
Вряд ли на убежденных сталинистов, к которым обращался Ющенко, могли подействовать эти слова; столь же сомнительно, что ветеранам УПА пришелся по вкусу президентский призыв простить им некие грехи. О многом говорит и местоимение «мы», употребленное президентом. Как сын солдата-красноармейца, пережившего нацистские концлагеря, Ющенко имеет достаточно оснований отождествлять себя — морально, психологически и символически — с советскими ветеранами. Но как президент он не должен был этого делать. Тем более что эти «мы» совершенно безосновательно испытывают чувство превосходства над другой группой и считают себя вправе прощать или не прощать других. По сути Ющенко имплицитно признал, что общественный статус УПА зависит не от реальной ее роли в истории, а всего лишь от воли советских ветеранов, точнее — их сталинистского коммунистического руководства.
Это была, несомненно, спонтанная оговорка, а не продуманный идеологический «мессидж», однако она наглядно продемонстрировала, как глубоко советские стереотипы укоренены в ментальности даже тех, кто отнюдь не принадлежит к заядлым советофилам.
Игорь Бурковский, комментируя фактическую капитуляцию Ющенко в вопросе о реабилитации УПА и его участие в московском пропагандистском шоу, отметил[9], что вовсе не протесты советских ветеранов главная тому причина. В окружении Ющенко немало тех, кто связан с российским капиталом, происходит из комсомольских структур или же из обрусевших восточных регионов и потому прохладно относится к признанию Объединения украинских националистов (ОУН) и УПА. Эта идея просто чужда их ментальности, она, в конце концов, противоречит их экономическим интересам. Им совершенно не хочется ухудшать отношения с Россией.
Складывается впечатление, что многие в команде президента поддерживают кравчуковско-кучмовский тезис: политическая реабилитация УПА углубит раскол в украинском обществе. «Наоборот, само отрицание очевидной истины углубляет раздел, — утверждает Юрий Шаповал, один из наиболее компетентных экспертов в этом вопросе. — И чем скорее украинская власть это признает, тем лучше будет и для нее, и для общества».
Меж тем формула «Великая Отечественная война» все еще доминирует в официальном лексиконе, что, пусть и не явно, способствует разделению украинского общества на сталинистов-«патриотов» и антисталинистов-«предателей». В отличие от россиян, для которых Советский Союз был «отчизной» почти в той же степени, что и собственно Россия, многие украинцы (молдаване, крымские татары, не говоря уж о прибалтах) отнюдь не склонны были отождествлять свою страну с Советским Союзом и, соответственно, видеть в нем свою большую отчизну, а во Второй мировой войне — Отечественную. В украинском национальном («националистическом») нарративе Вторая мировая — это война между двумя тоталитарными хищниками, относившимися ко всем другим народам и странам сугубо инструментально. Украинцы в этой войне выбирали меньшее зло, которым в итоге оказался большевистский Советский Союз, — хотя в самом начале для многих украинцев это не было столь очевидно, а посему и осуждать их только за противоположный выбор нет оснований. И уж во всяком случае нет оснований осуждать тех, кто, как УПА, воевал и против нацистов, и против большевиков.
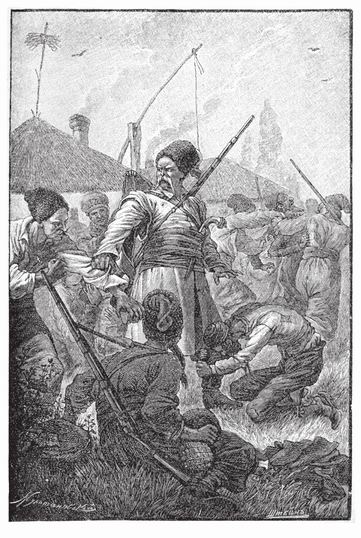
Учитывая, что в сегодняшнем украинском обществе сосуществуют как «советская», так и «национальная» точки зрения, формула «Вторая мировая война» является наиболее приемлемой ввиду ее идеологической нейтральности. В большинстве украинских школьных и университетских учебников используется именно она, хотя стремление так или иначе восстановить в правах советскую формулу налицо. Особо настораживают квазиакадемические попытки ее «национализировать», сконструировать свою собственную «отечественную» войну — в армиях разных стран и с разными противниками. Вот что пишет, например, Володимир Шевченко: «Использование тогдашним советским руководством термина "Отечественная война" не является причиной для отрицания такого характера войны украинцев и других народов с фашизмом. Ведь отечественная война как явление имеет конкретное содержание, о чем говорилось выше. Украинцы начали справедливую, освободительную, подлинную Отечественную войну в защиту своей земли еще в 1939 году, когда венгерские фашисты при поддержке Гитлера 14 марта напали на территорию Карпатской Украины. <...> Когда вспыхнула война между Польшей и Германией, многие украинцы выступили на защиту государства, в котором проживали, и своих земель. В частности, украинские политические партии, которые были представлены в польском сейме, официально провозгласили необходимость борьбы с гитлеровским агрессором. В рядах польского войска в сентябре 1939 года против сил вермахта воевали, по разным оценкам, от 150 до 200 тысяч украинцев. <...> Таким образом, отечественная война украинского народа против фашистских агрессоров, как свидетельствуют приведенные выше факты и исторические документы, началась в 1939 году. Соответственно этот период истории Украины целесообразно, по нашему мнению, так и назвать: "Отечественная война украинского народа против фашистских агрессоров, 1939-1945 гг."»[10].
Цель, казалось бы, благая — несколько подретушировать пропагандистское клише, с тем чтобы им могли пользоваться все стороны. Однако ничего, кроме дополнительной путаницы, это не даст.
В целом, однако, надо признать, что политика памяти в исполнении новой власти, при всей непоследовательности и часто вопиющей некомпетентности последней, все же не является сознательно-манипулятивной и цинично-оппортунистической, как у предшественников. «Оранжевые» пытаются как умеют проводить национализирующую политику, поскольку осознают, что только так могут обеспечить себе легитимность. Клиффорд Гирц писал: «Классическая проблема легитимности — на каких основаниях одни люди получают право управлять другими... Чтобы государство осуществляло нечто большее, чем распределение привилегий и защиту себя от собственного населения, его действия должны отвечать чаяниям граждан... Политические задачи: покончить с внешним господством, создать руководящие кадры, стимулировать экономический рост и сохранить национальное единство — до обретения независимости представлявшиеся колоссальными, ровно такими и оказались, даже еще более масштабными. Но к ним прибавилась еще одна, которая, в отличие от перечисленных, раньше не очень ясно осознавалась и формулировалась: как преодолеть отчужденность людей от власти вообще и новой в частности»[11].
Ни Леониду Кравчуку, ни Леониду Кучме это не удалось. Собственно, они и не старались, заботясь прежде всего о сохранении старых, лишь косметически подремонтированных институций и реализуя скорее политику забвения, чем памяти. Виктор Ющенко, похоже, не играет в эту игру, но и не осознает, кажется, всей важности институциональных реформ. Особенно для страны, где, по формуле упомянутого Гирца, «продолжительное колониальное господство создало политическую систему, национальную по масштабам, но не по характеру».

[1] Требст Ш. «Какой такой ковер?» Культура памяти в посткоммунистических обществах Восточной Европы. Попытка общего описания и категоризации» // Ab Imperio. 2004. № 4. C. 51-55.
[2] Были ли республики СССР колониями политически — вопрос, вокруг которого идут жаркие споры. Здесь автор использует этот термин исключительно в культурно-антропологическом смысле: «Культуру (произведения искусства, культурные учреждения, процессы в культурной жизни общества) можно считать колониальной, если она содействует утверждению либо распространению имперской власти — через снижение престижа, сужение поля активности, ограничение доступности, а подчас и уничтожение всего того, что является местным, автохтонным, словом, колониальным» (Павлишин М. Що перетворюеться в Рекреащях Юр1я Андруховича? // Сучасшсть. 1993. № 12. С. 116).
[3] См. журнал «Критика» (Киев. 2003. № 5—6).
[4] Маринович М.Нужен ли закон, чтобы жить по совести? // Грани. 21—27.12.2005. C. 5.
[5] Владимир Щербань занимал пост губернатора Донецкой области с 1994 по 1996 год. Его правление ознаменовалось серией заказных убийств.
[6] Газета по-киевски. 2.12.2005.
[7] Украинская правда. 31.01.2005.
[8] См., например: «Януковичу заборонять керувати парт1ею, а Квалову — академ1ею» // Украшська правда. 2.02.2005; Бондарюк В. «У перюд реконструкций все вирнпують кадри» // Украшська правда. 31.12.2004; Лггачова Н. «Кадры таки решают все» // Телекритика. 8.01.2005; Мостовая Ю. «Идеологи и реализаторы темников должны ответить перед законом» // Телекритика. 11.01.2005; Донй О. «Як врятуватися вид полпичних трансвестит?» // Украшська правда. 11.01.2005; КШат В. «Переможщв не судять» // Украшська правда. 13.01.2005; Лебгдь Н. «1001 помилка Шскуна» // Украшська правда. 19.01.2005; Захаров €. «Проект навздогшно! декучизацц» // Критика. № 1—2, 2005.
[9] First news. 8.05.2005.
[10] Шевченко В. Битва за право Бути//День. 06.05.2005 [http://www.day.kiev.ua/136693].
[11] Geertz C. Interpretation of Cultures. London: Fontana Press, 1993. P. 317 (укр. перевод: Кпфорд Прц. !нтерпретащя культур. Кит: Дух i лгтера, 2001. C. 372—373).
