Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Вызов истины, который нам невнятен
I
Прошлое науки в нашей стране опровергает некоторые очевидности. Мы привыкли думать, что без свободы мысли, без вольных дискуссий и честной конкуренции идей она глохнет. Оказалось, все сложнее.
Вот оно настало — тоскливое и страшное время. Что там средневековые костры инквизиции, индексы запрещенных книг, суды над лучшими умами! Все это школьная хрестоматия, наивные сказки братьев Гримм по сравнению с репрессиями советской поры. Сожгли в Риме на площади Цветов одного мыслителя, заставили отречься от своих убеждений одного астронома. Но если расстреляли тысячи мыслителей, и на площадях, и в глухих казематах. Если заточили и сослали каждого второго астронома, заставили отречься от истины всех генетиков, историков, филологов. Если принудили каждого ученого публично подтверждать лояльность к центральному учению, да еще ввели предварительную цензуру. И если, наконец, чтоб выведать, что же ученый думает на самом деле, в каждую лабораторию внедрили по секретному агенту.
И что же, погибла наука? Отнюдь нет. Именно в самые бесчеловечные годы диктатуры Сталина вплоть до запуска первого спутника советская наука добивалась впечатляющих успехов. Причем не только в общепризнанных физических и химических областях, но и в таких тонких материях, как психология (школы Выготского, Лурии), физиология (Павлов), история (Тарле), не говоря уж о науках о Земле (Вернадский, Ферсман); она не только стояла на мировом уровне, но и поднимала его. А математика откровенно процветала, впрочем, как и всегда в России, начиная с Леонарда Эйлера. Скажут, что держались на инерции. Действительно, большинство блестящих ученых сталинского времени получили образование и воспитание в дореволюционных университетах, а не в приведенных к единообразию советских. И первое советское поколение получило эстафету научного труда еще непосредственно от старорежимных профессоров. Но удивительна живучесть науки — два поколения!
А дальше произошло еще более непонятное. Сталин умер, режим стал менее свирепым, прямые репрессии даже осуждены, единомыслие потихоньку расшатывалось, увеличились контакты с Западом. Количество свободы в науке возрастало.
К тому же дала свои странные плоды претензия режима на научность. Он ведь строил коммунизм по «единственно правильному учению», возведенному в ранг науки, поэтому количество институтов, лабораторий, всяческих станций, бюро и вузов росло с огромной, опережающей все страны и народы скоростью. Только в Академии наук СССР в конце семидесятых годов в дополнение к 850 действительных членов и членкоров (а в 1917 их было всего 40) насчитывалось 52100 занимавшихся тем же трудом докторов, кандидатов наук и научных специалистов в 250 научных институтах[1]. Их обслуживало трудноопределимое число служащих и рабочих в этих самых институтах, бюро, в экспедициях и на кораблях. Академики и другие авторитетные ученые заседали во всех коллегиях министерств и ведомств, неся последнее слово науки в каждый проект, в каждое начинание властей.
И большая Академия была только небольшой частью научного левиафана. Еще существовали академии сельскохозяйственные, педагогические, медицинские, гигантская отраслевая наука, всяческие «ящики», ученые в вузах. Страшно сказать, но к концу эпохи СССР в нем трудился каждый четвертый ученый земного шара, хотя жил тут каждый шестнадцатый, вероятно.
По советской экономической системе труд этой армии был отнесен к обслуживающему труду, к издержкам производства. Ученый ни на что не должен был отвлекаться. С него не спрашивали за производительность труда на производстве, а только за научную производительность, т. е. за изобретения, описание природы, за сдачу статей и отчетов по исследованиям, за научное оформление грандиозных замыслов построения нового строя.
Но увы, кривая ученой производительности неуклонно шла вниз. Американский знаток истории русской и советской науки Лорен Грэхем по нашим данным обнаружил, что в СССР эффективность научного труда в общем объеме ВВП неизменно падала: с 2,2 процента в 1966 году до 0,8 процента в 1978 году[2].
Но может, мы преуспели по части не прикладной, но чистой и не связанной с пользой науки? Нет, и качеством бескорыстных исследований нельзя похвастаться. Только в том институте, где трудится профессор Грэхем, т. е. в Массачусетском технологическом, как назло, нобелевских лауреатов гораздо больше, чем во всей советской за все годы ее существования, даже если включить сюда дореволюционных Мечникова и Павлова.
Тут напрашиваются интересные и показательные аналогии. В те же годы, когда у нас работал каждый четвертый ученый мира, у нас и профессиональных писателей, т. е. живших литературным трудом, было, вероятно, не меньше, чем во всех остальных странах, вместе взятых (8100 по списку Союза советских писателей в1978 году). Но ни великих литературных произведений, ни даже каких-то значимых для читающих на русском языке не вышло именно в годы процветания этого Союза. И ныне само понятие писателя изменилось: чем меньше он сеет «разумное, доброе, вечное», тем больше преуспевает и может вообще жить на доход с книг.
Таким образом, знаменитый диалектический закон перехода количества в качество не работает, и из ста посредственных литераторов нельзя сложить одного хорошего писателя. Как можно догадаться, в союзы писателей, художников и артистов шли затем, как правильно догадывались в народе, «чтоб не работать», т. е. перейти в менее учтенное состояние. С наукой сложнее, здесь всегда была ясна разница между ученым и научным работником. Можно всю жизнь не хватать звезд с неба, причем даже принципиально не хватать, зато стать толковым и даже ценным специалистом, работать в данных парадигмах, не стремясь к новым. Или уйти в свободное математическое плавание и, как Ихтиандр, уж никогда не приставать к берегам реальности.
Сколько среди числившихся докторами и кандидатами людей, предназначенных самой природой для познания, т. е. пришедших в науку ради самой науки, стали выяснять недавно. И оказалось, что их не так уж много — всего 15 процентов от всех числящихся таковыми[3]. Остальные обратились к ней из-за престижа, из-за комфорта, возможности самому планировать свой рабочий день и т. д. Короче говоря, в основном стремясь к свободе. Ведь ясно, что научный работник был более раскрепощенным, чем любой советский «временно-расконвоированный» человек. И этих 15 процентов хватило бы, но они и есть те, кто мало в чем преуспел.
Хотя именно их-то власти труднее обуздать, чем писателей и художников, как мы видим. Сохранение инерции творчества, когда свободы нет вовсе, и инерции бесплодия при полной свободе показывает, что научная продуктивность зависит не столько от строя, сколько от биологии, т. е. от нарождения талантов. Но и здесь из ста научных работников не сложить одного ученого.
Чем же отличается один от другого? И еще более тревожный вопрос: свойственно ли быть ученым подданному нашего государства? Когда множество талантов уехало в эмиграцию и когда вымерли оставшиеся старорежимные ученые, они что, просто перестали здесь рождаться? Исчез сам ген исследователя? И сколько бы мы ни обучали наших детей, Эйнштейнов из них не получится, хотя хорошими специалистами они смогут стать, ведь пытливость, страсть к новому, способность как губка впитывать знания, умственная комбинаторика никуда не исчезли. Где же расположен ген творчества на карте человеческой личности?
II
История науки показывает, что научное творчество сопряжено не только с знаниями и не столько даже с знаниями, но с такими качествами, как моральная ответственность, умение принимать решения, тонкая душевная организация, воспитанность. На ученого давит груз такой вселенской ответственности, какой не снился никакому добросовестному специалисту или регистратору событий.
И чем больше этот груз, тем крупнее личность. Скорее даже наоборот, чем крупнее личность, тем больше на себя взваливает, тем серьезнее научные вопросы для нее.
Дело в том, что ученый, если он именно ученый, каждый раз, когда создает новое знание, т. е. когда творит, принимает решение о судьбе мира. Не более и не менее. Он выбирает дорогу, по которой пойдет далее развитие мира, хотя иногда и не знает о том. Говоря «мир», я имею в виду человеческую действительность, а не материальную Вселенную. Слово «развитие» относится только к первому образованию, но не ко второму. У человечества есть судьба, независимо от того, что мы о ней думаем, есть путь, и он зависит от наших решений. Вероятно, степень участия в ней определяется величиной вклада, что выясняется иногда не сразу. В науке нельзя сказать, что есть великое и что — малое. И поскольку мир — это мы, то перед ученым исследователем сразу же встает другой, более серьезный, вопрос: а какое отношение он сам имеет к этой действительности, почему он должен ее изменять, кто он такой? Почему именно на него это возложено? Как сказал суфийский мудрец Ибн Араби, к ногам человека однажды приставляют лестницу в небо, и от него требуется, чтобы он увидел ее и стал хотя бы на первую ступеньку.
Тот, кто увидит ее и станет, превращается в ученого. Он должен принять моральное решение о своем участии, пройти некий внутренний, никому не видимый обряд инициации. Причем в отличие от мыслителя, перед которым тоже стоит такой вопрос, ученый обязан не просто предлагать путь, он его создает своим трудом, предъявляет доказательство своего собственного участия. Наука есть деятельность, а не игра ума. Творческое решение, если оно правильно выработано, потом само собой, без дальнейших усилий по его внедрению входит в жизнь.Его двигает логика, заключенная внутри, в самом этом решении. Оно выгодно и удобно всем.
Не знаю, осознавал ли Фарадей ценность своего открытия, его практическую значимость? Кажется, что нет. Когда его спрашивали, какая польза может быть от его устройства — рамочки с магнитом, отклонявшего стрелку прибора, он, говорят, потупливался и отвечал, что можно сделать какие-нибудь игрушки. Что города мира будут залиты электрическим светом всего через семьдесят лет после открытия индукции, он не предполагал. Так что правы те, кто на вечный упрек в том, что ученые не приносят пользы, отвечают, что за них всех с лихвой уже расплатился Фарадей.
А для него это была не только интересная физика, решение загадки. Как и другим до него, ему пришлось однажды на этом пути прыгать через неизвестное, делать моральный выбор, с самой наукой мало связанный. Для Фарадея он заключался в новом решении о невидимом устройстве всего мирового пространства. Ему нужно было преодолеть ньютоновское действие через пустоту и представить пространство сплошной средой, эфиром, пронизанным некими силовыми линиями. Фарадей именно нашел их, догадался, они не вытекали из логики существовавшего знания, нужно было преодолеть пропасть одним рывком. Ему, самоучке, пришлось пойти против всего ученого сообщества. Скорее всего даже, получи Фарадей университетское образование, он никогда не решился бы на такую гипотезу.
Степень погружения ученого ума в это неизвестное, чему не обучали, нам трудно себе представить. Он слышит какой-то сигнал, зов, вызов. В этот момент он остается абсолютно и вселенски одинок, потому что никто ему не подскажет и не поможет, потому что никто, кроме него, именно этот слабый звук не услышит, и если он сам его не разгадает, то никто не разгадает вообще в такой форме. Возможность исчезнет навсегда. Вот в чем ответственность. Уже нельзя уйти и сделать вид, что не видел и не слышал. Как будто ты кому-то подал надежду и нельзя теперь этого кого-то обмануть, нечестно.
Он остается один против всего мира в целом, они становятся в данный краткий миг равновелики, несмотря на разницу в размерах. И когда моральное решение принято, сигнал понят и мелькнула гипотеза, остается делом техники, умения и знаний, упорства и инвестиций перевести его на общепонятный язык, превратить в формулы, металл, социальную конструкцию, в этическую норму.
На поверхности виден только вот этот второй этап. Все думают, что труд ученого — упорное повторение в тысячный раз одного и того же опыта, бессонные ночи в лабораториях и т. п. — много раз описанное действо, связанное в массовом сознании с этими чудаками. На самом деле это действие вторичное, следствие, а сокровенный акт уже произошел, решение принято в таких глубинах существа, о которых не всякий может рассказать, даже если захочет. Иногда и неудобно рассказывать, потому что в данный миг смертный человек становится равен Богу, он творец, хотя и с маленькой буквы. Иногда ему хочется эту ответственность разделить с кем-нибудь, и тогда он придумывает себе предшественников. А многие не верят себе, не хотят в этом признаться, стесняются гордиться и заноситься, стараются остаться скромными тружениками, но не богами.
Но в любом случае принципиальная ситуация именно такая, центральная. Человек вдруг обнаруживает себя в той точке пересечения, где надо сигнал вечности перевести на язык времени. Здесь сходятся все силовые линии мира, и от собственного движения, как от рамочки Фарадея, зависит, дрогнет ли стрелка, возникнет ли ток, новая энергия в этом мире, или не возникнет.
Русский философ Николай Федоров сказал однажды, что вообще положение человека в мире похоже на положение управляющего. Он имел в виду управляющего имением, посредника между хозяином и работником, частично совпадающего с ними по функциям. С одной стороны, до некоторой степени, он может войти в роль хозяина, принять, понять, догадаться о замысле относительно имения, проникнуться им, составить проект, идеальную перспективу. Но он может одновременно или с небольшим разрывом по времени стать и работником, взять в руки лопату и грабли и начать вручную возделывать это имение по тому плану, который сам и составил, но с того голоса, который слышал.
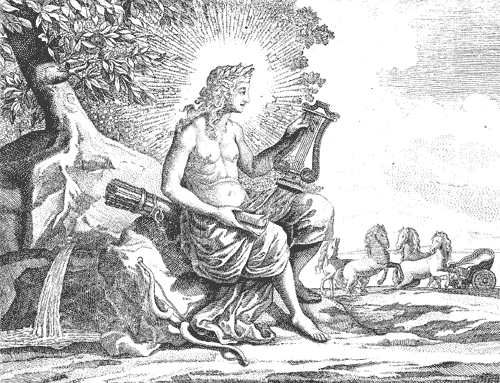
Если разобраться, положение это самое лучшее из всех трех, и первый, кто его занимает, есть ученый.
Но в данном случае мы ведем речь только о моменте узнавания замысла, о распознавании сигнала и, более того, о принятии его. Оно зависит от множества условий, одно из которых — чувство хозяина, решение войти в его положение, угадать его замысел. Такова основная модель творческого решения.
Для ученого мало обладать знаниями, надо занять положение управляющего. Об этом своим трудным языком написал Кант, применив свою знаменитую «вещь в себе». Он постарался донести до нас, что ученый труд есть деятельность, а не размышление, не созерцание, как тогда говорили. За пределами деятельности и расположены «вещи в себе». Пока мы их не познали, они только неопределенно мыслимы. Причем Кант имеет в виду не бытовое сточки зрения здравого смысла и житейской мудрости познание, а только квалифицированное, правильное, чистое, как он говорит. Только когда вещи научно познаны, они сотворены. Анри Бергсон вслед за ним очень тонко заметил, что мир по сути дела повторяет конфигурацию нашего действия, он вырезан из вселенной ножницами нашего восприятия. Что не освоено, то имеет мечтательное бытие, а действительность есть то и только то, на что когда-то было направлено действие. Бергсон предложил даже новое видовое наименование человека: Homo sapiens faber.
Действие трудно именно из-за груза добровольной ответственности. Недаром слово «муж» за пределами своего непосредственного смысла относится только к двум категориям людей: государственный муж и ученый муж. Даже к смелым и рисковым боевым ребятам, к военачальникам слово не подходит, если не совпадает с первым из них, т. е. не совмещается в одном лице государь и полководец. Инстинкт языка тут безошибочен: только те двое принимают большие решения и публично, открыто их отстаивают своими действиями, для чего нужно обладать особым мужеством, не встречаемым в остальных житейских делах. Они оба несут бремя ответственности: первый за свой народ, второй— за всю действительность. И обоим требуется то трудно определимое, но вполне распознаваемое качество, которое называется «харизма» — она и есть синоним ощущения вызова, принятия его. То, что Сократ называл своим демоном. Когда человек ощущает свое дело не как профессию, а как призвание, как миссию, возложенную на него, от которой он не может отказаться. Так Ланселот, знающий, в какой битве он погибнет, идет на нее. Уклониться и слукавить может простолюдин, рыцарь такого права не имеет.
А теперь, если мы примем эту харизму за главную родовую черту ученого, нам нужно посмотреть, как этот ген проявлялся здесь, в России.
III
До некоторой степени составляет загадку, почему на Руси науки в ее профессиональном понимании до Петра не было. Он ее завез и привил. Но почему наши предки сами до бинома Ньютона не дошли?
Говорят, этим мы обязаны Кириллу с Мефодием, что похоже на правду. Переведя богослужебные книги с греческого на славянский, они прервали традицию, отрезали знание от его основы. Был ликвидирован язык, на котором существовала развитая мысль, терминология, навыки логических рассуждений, публичные речи. Язык, развивавшийся к тому времени уже полторы тысячи лет. Они снизили небо, смешали высшее знание с профанным, с бытовым здравым смыслом. Потому и не было в средневековой России профессионального богословия, не было западных ученых монашеских орденов, распространявших просвещение во имя Господне, сыгравших огромную роль в становлении школ и университетов.
Когда много позже подобную операцию совершил Лютер, латынь в Европе уже успела внедриться в науку, которая отпочковалась от богословия и философии на античной основе. К тому же, несмотря на церковь, перешедшую на национальные языки, латынь по инерции еще около трехсот лет оставалась средством ученого общения. И только в конце XVIII века расплодившееся сословие ученых разошлось по европейским квартирам. В России, еще во времена Пушкина, конференции в Академии проходили на немецком языке, книги печатались на немецком, журналы на французском. Когда физиолога растений Фаминцына избрали в Академию, а это были семидесятые годы, он хотел произнести первую ученую речь по-русски, но получил замечание: «Помилуйте, как можно говорить научно на этом птичьем языке!» Фаминцын все же произнес речь по-русски, поставив тем самым точку в «борьбе с немецким засильем».
Ныне, впрочем, период национального разброда закончился, все языки для науки становятся птичьими, кроме английского.
Так что ученым праздновать день славянской письменности не стоит, потому что вплоть до Петра, завезшего латынь и голландский вместе с Академией и академиками, науки в России не было.
Но то была одна причина. Вторая — отсутствие того срединного положения, о котором говорил Николай Федоров. Людей, занимавших такое среднее между рабами и господами положение, практически не было.
О монахах уже сказано, но и людей светских, достаточно самостоятельных, достаточно свободных, чтобы иметь достоинство и досуг, практически не существовало. Последних из них в XV–XVI веках добили два Ивана — III и IV, покорив Тверь, Псков и Новгород, уничтожив всякие остатки областничества, непохожести, независимости от Москвы. Грозный, как известно, вырвал новгородский гонор с корнем, расселив сотни бывших свободными семей по Московии, и на том история города кончилась. Рабы, в которых превращали русских крестьян, не могут бороться за свободу. Они могут бороться — и борются на самом деле — только за то, чтобы самим стать господами, опрокинуть пирамиду. И последние станут первыми — мечта всех обездоленных.
По какой-то иронии судьбы эту связь и диалектику ситуации «хозяин-раб» блестяще описал именно Гегель — философский отец Маркса. Гегель уловил их природную связь хозяина и раба, их взаимопревращение, всю эту пугачевщину — неудачную попытку стать царем или циньшихуанщину — удачную попытку стать императором из ничего. В русле этой иронической-ёрнической диалектики произошла и наша славная революция: кто-был-никем-стал-всем, только никогда уж хозяином самого себя. И недаром Федоров буквально ненавидел (по присущей ему страстности) диалектику вместе с Гегелем за плоскость его учения, которое, как он предвидел, приведет к большим несчастьям для России. Диалектика окормляла не срединный путь, не среднее положение, в наибольшей степени отвечающее природе человека, а культивировала крайности.
Петр создал не только ученые корпорации из иностранцев, но и класс, который может заниматься наукой, — дворян. Даже наш первый русский академик задиристый Ломоносов изо всех сил доказывал, что он не из крестьян, что его отец судовладелец и землевладелец. Да и пришел он с достаточно свободного севера.
В течение ста примерно лет наша наука постепенно переходила от интернационала к этнически русскому дворянскому сословию. И что немаловажно, в дворянство можно было по образованию и чину попасть. Ко временам Андрея Сергеевича Фаминцына кончилось так называемое «немецкое засилие» (формула, и сейчас бездумно повторяемая неблагодарными людьми и шарлатанами от патриотов), и наука стала благородным занятием благородного класса. Сформировался ее язык на основе русской речи, переведены термины, возникли научные школы, традиции, съезды, журналы, специализированные институты. Но главное даже не в языке — он производен от того самого срединного положения. Важно, что наука может культивироваться только не обязанными людьми, а со времен Жалованной грамоты дворянству Петра III они стали свободны от службы. Свойственное им чувство собственного достоинства, осознание своей культурной миссии, даже пресловутый «долг по отношению к народу», предельная честность, без которой науки не существует, — это одновременно черты ученого и дворянина, человека чести и слова.
Да и вся русская культура создана ими же, дворянами. Великая литература, великая музыка, высокого уровня философия.
Внимательный читатель уже, вероятно, понял, к чему я клоню. Да, да, только не я, а сама история к тому клонилась: грянула катастрофа семнадцатого, и дворянский класс был ликвидирован. А вместе с ним и русская наука, и великая литература, и вся культура. Не сразу, как мы видели, а с временным лагом, почему и причина ныне уже не различаема вдали, но они должны были выдохнуться, если исчез носитель, неотвратимо и неизбежно.
Часть уехала, оплодотворив мировую науку. Кто создал монументальный труд «Почвы Франции»? Валерий Агафонов. Это вместо «Почв России». Кто придумал Биг Банг? Георгий Гамов. Кто изобрел вертолет, телевизионную трубку? Сикорский, Зворыкин. Много можно перечислять. Даже такую профессию, как манекенщица, превратили в достойное занятие, подняли из ничтожества на звездный уровень русские эмигрантки.
В самой стране, где основная масса разума все же осталась, шло естественное постепенное вымирание ученых-дворян. Как раз ко времени первого спутника уходили последние мастодонты исчезнувшего класса. И несмотря на все условия, привилегированные по сравнению с другими подданными, на тепличное положение академиков и профессоров, следующее поколение талантов не родилось. Ген ушел под землю. С тех пор уровень науки в нашей стране неизменно снижается, и она постепенно превращается в научную провинцию, в краеведение, тогда как в пресловутом 1913 году немецкие научные журналы пестрели русскими фамилиями, начиналось явственное «русское засилие» в немецкой науке, т.е. уровень был верхний. Также наглядно с вымиранием писателей-дворян снизился уровень литературы. Она, как и наука, не исчезла, но стала областной, местного значения, деревенской.
IV
Все есть — всеобщая грамотность, не в пример персам или индийцам, доступность высшего образования, масса научных учреждений, а мировой уровень культуры упал и когда поднимется, неизвестно, да и поднимется ли? После Петра понадобилось от трех до шести поколений, чтобы наука заработала в полную силу. Сколько понадобится теперь?
Исчезли не социальные условия, которые не много хуже, чем в других странах, а биологические. Просто физически не стало таких личностей, которые могут взять ответственность за себя, за мир, за действительность. Так же как нет самоуправления, потому что ушли государственные мужи, остались только государственные дети, которые способны к просьбам, протестам, требованиям, но не к социальному творчеству.
Социальная ситуация очень простая. Изгнан, обескровлен, лишен жизни вбуквальном смысле, собственности, юридических прав правящий и самый творческий в истории России класс — дворянский. Но задачи, которые он нес на себе, никуда не исчезли. Нужно развивать науку, образование, культуру, экономику, обеспечивать безопасность внешнюю и внутреннюю, социальное обеспечение для неполноценных членов общества. Все эти задачи прямо 26 октября1917 года легли теперь на новых, «трудящихся» людей (как будто другие были бездельниками!). Но рабочие и крестьяне с ними совсем не справились и не могли справиться. У них, новых правителей, пришедших в массовом порядке из партийных рядов, куда повалили валом те, кто быстро сообразили, где можно пристроиться, у этих людей не было не только образовательного горизонта, не только научного подхода к этим задачам, но и личных качеств, необходимых для их решения. С первых же дней стал обнаруживаться видовой порок новых правителей— коллективная безответственность, неспособность принять на себя груз решения. Это был очень неприятный сюрприз для главного виновника торжества. Он мгновенно понял, что произошло что-то не то, причем очень изумился, потом повозмущался и умер.
В Советском Союзе тоталитарный строй сложился не потому, что страну захватил какой-то единоличный вождь, какими были, например, Цезарь, Наполеон, Франко, Кастро, а по причине духовного ничтожества и безответственности низовых руководителей. Любое решение незаметно, неуклонно и ежедневно передавалось наверх — из села в район, из района в область, оттуда в Москву, в Кремль. В течение десяти лет примерно страна выращивала диктатора из довольно посредственного и плохо образованного человека и вырастила. Стране было все равно, кто там сидит в центре, она не выбирала его, а сразу стала перепасовывать ему все функции, какие только в ней содержались. В результате бедняга лично назначал чуть ли не командиров рот, цехов, сценарии ставящихся фильмов читал по ночам. Короче говоря, работал за всех. Такой был создан абсолютно бесперспективный механизм (но не организм).

Мы отвлеклись от нашей темы затем, чтобы показать биологическую причину безответственности. Людей много, а личности нет. Для науки, которая, как духовная деятельность, значительно сложней по содержанию, чем социальная организация, эта причина действует менее наглядно и даже скрытно, потому что предмета никто, кроме автора, не знает, но неуклонно; особенно если ликвидирован субъект науки — образованная личность с чувством собственного достоинства — и замещен не вполне вменяемым очень младшим научным сотрудником. Нет самостоятельно принимающей решения творческой единицы. Если ученого заставляют отвечать за выполнение своих планов перед ЦК, этот последний и становится на место истины, перед которой отчитывались ранее — причем сами, без всякого нажима. А планы и отчеты ввели, например, в Академии после ив результате ее советизации в 1929 году — тогда и была переломлена наука.
Итак, какие же главные черты (или пороки) развивались во вновь приходящих поколениях «ученых от сохи», которые постепенно заместили старорежимных зубров науки? Пороки, которые, собственно говоря, и стали уже непосредственными причинами потери мирового уровня отечественной науки, ее содержательного и организационного падения.
1. Моральный и умственный плюрализм. В отличие от политики, в науке истина одна, ее называют объективными законами, по которым живет природа, общество, человек. Эти законы неимоверно трудны для познания, но уж совсем невозможны, если считать, что важнее законов — воля человека, организованного в передовые классы. «Как пожелаем, так и сделаем». Особенно это касается общественных наук. Кто у власти, считается в марксистской теории, тот и пишет законы, никаких таких абсолютных истин не существует.
Особенно драматично такое положение в истории, политэкономии, юриспруденции, объявленной факультетом ненужных вещей. Юстиция появилась снова в СССР где-то в 1939 году, до этого судили и рядили на основе «революционного правосознания». Во все общественные дисциплины был введен вирус волюнтаризма на марсистской основе. Марксизм в части чисто научной может, ито с натяжкой, считаться концепцией, на основе которой можно кое-что изучать, в очень ограниченных пределах, но наряду с ним должны были вольно развиваться и другие концепции. Если все свести к одному, очень ограниченному постулату о стремлении к прибыли, например, на основе которой якобы развивается производство, то получится безмерно однобокая политэкономия, искажающая сложную картину. Так и в исторической науке: если все свести к борьбе классов, ничего нельзя понять ни в духовной, ни в обыденной, ни в городской, ни в военной истории. С этой очень ограниченной точки зрения невнятен общественный прогресс, вдохновение, подвиги бескорыстия и милосердия, невозможно уяснить, чем жили люди, во что верили, как проводили дни и годы, какие у них были заботы или инструменты и т. п. В области права законы нужно угадать не по губам начальства, а считать с небес и правильно выразить, над чем трудятся юристы и правоведы всего мира. В нашей стране законами называется то, что издается с высоты правящей трибуны, т. е. распоряжения, ничем не отличающиеся от предписаний оккупационных властей. Потом они сопровождаются сетованиями, что народ не исполняет законы. Но если законы — это то, чего хочет правящий класс, без всякой их собственной правовой специфики, трудно ожидать их выполнения. Законы общества ничем не отличаются от законов природы. Правильно сформулированные — выполняются, неправильно выраженные — создают путаницу, противоречие между существующим на самом деле и записанным.
Из нравственного волюнтаризма возникает следующий пункт:
2. Пренебрежение внутренней дисциплиной науки, ее ограничениями. Развитый и самостоятельный человек понимает закономерности, которые открывает наука, как законы его собственного поведения, как непосредственно его касающиеся, а значит, и всех. Надо склоняться перед истиной, от того мы только усиливаемся, хотя часто надо себя ломать, расставаться с предрассудками. Зато человек приучается к внутренней логике науки, ее прекрасным правилам вывода, строгости посылок, всей внутренней кухне научного доказательства, которые введены Аристотелем, кстати сказать. Научный анализ, которым пренебрегает неразвитый человек, дает возможность углубляться в свойственные данному процессу закономерности, но не сводит их к уже понятному, к общим законам, к поиску родовых причин. Бог не нуждается в общих идеях, сказал однажды Алексисде Токвиль, он знает о каждой вещи все. Тенденция науки именно божественное стремление узнать о каждой вещи в отдельности, по каким своим закономерностям она функционирует, и найти связи. То же и в общественной практике, где каждый случай уникален и подведение под общие стандарты нивелирует истину, искажает ее и принижает личность, которая и есть, собственно говоря, истина.
Попытки найти общий закон вместо кропотливого изучения кажущихся незначительными частностей стали общей атмосферой советской жизни, совпали со стремлением к централизации, к переложению ответственности на самый верх. Все всегда и до сих пор стараются вывести проблему непременно на государственный уровень вместо непосредственного ее решения в данном месте. Все всегда хотят найти механизм решения, тогда как отдельный человек и есть, только не механизм, а организм решения. Механистичность марксизма, впрочем, восходит к научному идеалу, который Фридрих и Карл усвоили в гимназии икоторый лет сто как, еще до начала советской власти, устарел, и механика перестала быть недосягаемым образцом для других областей познания.
Внутренняя дисциплина и внимание к деталям приучает ученого к осторожности с выводами, к сомнению, к критике, которая является основным тоном общения в науке. Отсюда те не натужные, совершенно естественные демократизм иравенство научного сообщества, которые так трудно достижимы в жизни общественной, особенно в российской, где старший по званию прав всегда.
Пришедшие в науку выдвиженцы советского строя обладали сознанием иерархическим, родоплеменным в своей основе. А наука в свое время века потратила на преодоление семейного, патриархального сознания.
Из непризнания самодисциплины вырастает следующий порок:
3. Превращение истины онтологической в гносеологическую, т. е. жизненного дела в учебную задачу.
Тот же Федоров, который почему-то все время упоминается на этих страницах, утверждал, что основная коллизия человечества точно та же, в какую попал Эдип перед сфинксом. Если не разгадаешь, что такое жизнь, то погибнешь. Может быть, Федоров слишком категоричен, но что в прошлом действовали мы именно так, несомненно. И чтобы напряжение познания снизилось, природа человека должна очень сильно измениться.
Западная наука восприняла от западной религии ее страстность, предельное разнесение истины и заблуждения. Она выросла на этом разгадывании, цена которого «или-или». Наука не была игрой в бисер, но смертельным приключением путем личного участия в судьбе мира. От Ньютона — отца всей науки — воспринята механика, но мало кто знает о вызвавшем ее духовном импульсе. На самом деле Ньютон разгадывал замысел Бога о мире и книги свои писал для доказательства Его бытия, себя же ощущая продолжателем дела пророков. Кажется даже, что этот, возможно, самый сложный по структуре мозга человек в истории, вынужден был доказывать, что он и есть мессия. Вот какого масштаба задачу он решал. Ньютон втайне всю жизнь рассчитывал — с привлечением всего развитого им научного аппарата, древних языков, алхимии, священной и светской истории, не приходится ли второе пришествие как раз и именно на 1642 год, т. е. на год его рождения?[4]
Ясно, что все это остается за обрезом учебных книг, для школьников это избыточная информация, но кто-то должен знать, что без этого импульса не было бы никакой механики, что ученый — не компьютер. Он работает не на энергии пищи, а на другой энергии — на страсти человеческой. Можно спорить о том, когда стартовала наука как профессиональная деятельность, но, мне кажется, ее можно начинать и с того древнего грека, который покончил жизнь самоубийством, не будучи в силах разрешить так называемый «парадокс лжеца». То есть человек посчитал нечто эфемерное, именно логику, превыше своей животной жизни.
У нас по поводу данного парадокса никто переживать не станет. Более того, оказалось, что и к высокой религии способен только образованный класс, потому что с народа тысячелетние обряды слетели за несколько лет, страна стала по внешности атеистической. Но наука не может заменить религию. Поэтому истина превратилась не совсем уж в никчемное понятие, но была деперсонализирована, сведена к безличному началу. Все знания, все умения и звания приняли государственное значение. С младенческих лет, с первого класса школы правила науки воспринимаются нами как начальственное назидание. Учитель любого ранга мнится посланцем руководства страны. Такова была атмосфера процесса обучения на любом уровне, так понимались экзамены — как экзамен на чин. Идо сих пор это сознательная политика ректора нашего крупнейшего университета — готовить кадры для государства. Вспоминаю слова завкафедрой, к которому я нанимался на работу и которому предварительно направил свои опусы: «Нам философы не нужны, нужны преподаватели философии». И потому, например, в учреждении, которое называется у нас Институт философии АН, такие мыслители, как Ильенков, выглядели белыми воронами, хотя остаются в истории знания именно они, случайно залетевшие туда птицы.
Волюнтаризм независимо от воли обучающих и даже вопреки этой воле становится основой отношения к знанию. Он возникает, кстати, на вполне здоровой основе, на чувстве недоверия к командирам, из априорной оппозиции советской жизни, в которой всегда есть они и мы. Тайное сопротивление начальству, неистребимая ирония или досада по поводу его указаний незаметно сочетались и с недоверием вообще к знанию под лозунгом «им это нужно, а нам все равно». Сдал и забыл.
Смешение небесной истины с социальной грязью и приводит к лукавству. В отчетах перед начальством, которое отпускает средства и следит за выполнением планов, торопит и погоняет к определенному сроку, всегда где-то можно спрямить, на что-то закрыть глаза. Замена старых ученых на партийных аспирантов шла и по этой линии.
В результате российский отряд науки уже 80 лет как начал отставать от решения серьезных, предельных, фундаментальных задач. Таковыми у нас полагают бесполезные непосредственно знания. Сейчас только философия начинает понемногу опамятоваться.
4. Отсутствие единства науки, разрыв между ее направлениями. Особенно резкий между естественными и общественными дисциплинами, из которых первые в негласном мнении почитались объективными и строгими, а вторые — размытыми и необязательными. Каждый в молодом студенческом возрасте прошел через обязательные курсы диамата и истмата, вопреки стараниям преподававших эти дисциплины получил дозу пренебрежения, подчас и отвращения вообще к философии, к истории, к культуре, к религии, потому что в неразвитые головы успешно внедрялась мысль, что есть главное и производное: материя и дух, базис и надстройка, хлеб и песня, основное производство и обслуживающее, главные классы и второстепенные прослойки. Из справедливого мнения, что такая надстройка, как истмат-диамат, есть пренеприятная тягомотина, все делали ложный вывод, что и вся философия такая же.
В результате и сейчас у нас много ученых, которые из стремления к честности научной жизни сознательно и добровольно никогда не прочитали ни одной философской, психологической или религиозной книжки, для них жизнь духа, человеческая история, стремления и мечты людей есть бессвязная болтовня, сантименты и путаница. Слово философия для таких людей ругательное. А между тем она составляет питательный бульон творчества.
Вернер Гейзенберг пишет в своей биографии, какое глубочайшее впечатление на него произвел Платон в старших классах гимназии и в университете. Получается, что без его интимных, чисто философских размышлений не было бы соотношения неопределенностей, т. е. квантовой механики в том виде, в каком она существует.
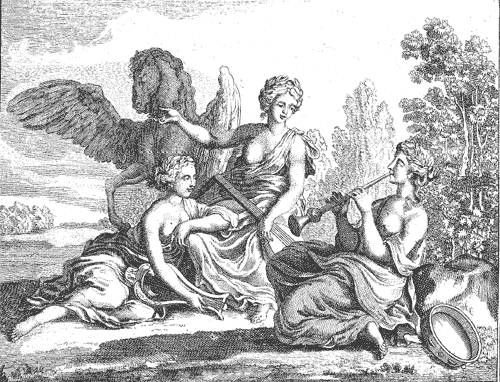
Излишняя специализация приводит к потере широты, утере философской, филологической, психологической культуры ученого сословия, к люмпенизации ученых. Люмпен-академик — как вам это нравится? Но то было бы полбеды. Нарушение единства знания ведет не только к пренебрежению культурой, но к антигуманизму на деле, исходящему из мнения о второстепенности человека по сравнению с обществом и государством. Эти ученые не понимали существа советского строя, не различали, короче говоря, добро и зло. Их легко было направить для работы над самым антигуманным оружием, химическим, бактериологическим, атомным, которое не защищает свое население, но служит для уничтожения чужого. Их легко заставляли проводить бесчеловечные опыты над живыми людьми. Никаких рефлексий по этому поводу, заполнявших американские научные анналы, например, мы никогда не слышали от наших атомщиков. Они гордятся, что работали на государство, как будто оно нечто очень прекрасное. Да и не только в оружейных отделах. Иногда исполняли безобидные по виду, казалось бы, но тоже глубоко порочные проекты, как перевод на кириллицу традиционных латинских алфавитов, например, в Молдавии.
Зубров науки труднее было подвигнуть на такие занятия. Известно, как Петр Леонидович Капица отказался возглавить работы по атомной бомбе под верховным надзором главного палача Берии. В результате восемь лет провел не выездным на своей даче.
В целом все старые ученые были универсальными людьми, не говоря уж о свойственных им внимании к людям, мягкости и воспитанности. Совершенно универсален был, например, Владимир Иванович Вернадский, который считал и талант, и учебник явлением природы; Иван Петрович Павлов был искренне верующим человеком, человеком широкого горизонта; кристаллограф Евграф Степанович Федоров написал сочинение об уме «Перфекционизм», хотя остался в науке, конечно, как автор 230 групп твердого состояния вещества — не меньшего по своему значению труда, чем периодический закон.
Тут разговор может уйти в поиск причин, в обсуждение нашего университета, который университетом не является, не дает главного знания — о человеке и Боге, главных универсалиях. Он выпускает технарей, технократов, специалистов, которые и были главной фигурой советского управленца. Гуманитариев туда не призывали, в них начальство не нуждалось. Но на этом остановимся, потому что это отдельная тема — о слабостях православия, не создавшего крепкого боготолкования, не наведшего мосты с наукой, не имевшего отношения к светскому образованию, как имели его, например, и до сих пор еще имеют иезуиты во Франции.
Все предыдущие пункты, короче говоря, сводятся к одному, последнему и главному в нашей теме:
5. Не различение сигнала, глухота к вызову. На данном уровне нравственного и умственного развития ощущение, что к твоим ногам приставили лестницу, предлагая подняться над обыденностью, редко посещает представителей образованной части общества, не говоря уж о необразованной. Рефлексия, размышления над своим предназначением, сочетание себя с целостной действительностью, вся та глубоко интимная внутренняя работа по самовоспитанию, которая так свойственна была лучшим представителям русской интеллигенции, — она ушла из нашей жизни. А без нее ученого нет, есть специалист в лучшем случае. Это необходимо, но недостаточно.
Чувство вызова — его невозможно объяснить до конца. Его можно только пережить. Тем более его нельзя побудить пережить или побудить разделить переживание с кем-то. Коллективных вызовов не бывает, хотя о таких иногда говорят, но это просто перенесение личного опыта и состояния на страну в целом, которая не является персоной, и потому чувство вызова ей не свойственно. Так просто называют иногда в западном мире национальную задачу, которую решает нация вовремя войны, атак террористов или глубоких кризисов.
Как подвиг нельзя заставить совершить, так и вызов нельзя заставить услышать. Его слышат в полной тишине, когда умолкает и отодвигается шум и ярость жизни, когда человек остается сам с собой. Окружающим эта внутренняя работа не видна, видны только ее результаты — становление ученого. Он разворачивает никому не видимую свою внутреннюю программу, а для нас это вклад в науку.
Многие ученые описали этот свой подъем. Вернадский, который вообще не скрывал никаких сторон свой внутренней жизни, еще студентом поставил себе «детский» вопрос: одними и теми же законами управляется живое и неживое? Всю жизнь он отвечал на него и ответил-таки: нет, разными и даже противоположными, но они необходимо дополняют друг друга, скрепляя космическую целостность. В отдельные моменты его жизни этот поиск достигал у него невероятного накала, становясь ощущением своей личной связи с Богом, ощущением миссии и призвания. Для трезвых и положительных людей это кажется излишним, но без этого подъема духа у нас не было бы открытия биосферы, которое сейчас только выходит на передний фронт мировой науки[5].
Чувство вызова — главное, что утеряно в советские годы и что восстановить проблематично.
Ныне российская наука работает как домна на холостом ходу — вполсилы. Ее перспективы неясны. Наука сама по себе — самая сильная сторона духовной жизни человечества, она неуничтожима в принципе, но только в целом. В отдельной нации — вполне уничтожима. Есть яркий пример такой самоликвидации науки — Китай. В XV веке он стоял на европейском уровне, там была и наука и техника. Но это последний век, о котором еще пишут профессиональные историки науки. А дальше произошла банальная вещь. В Китае усилилась императорская власть, но главное — ее идеологическое толкование. Император был объявлен сыном неба, повелевающим не только народом на основе своей воли, но и природными стихиями: землетрясениями, ветрами, водами, растениями и животными. Вообще логично, вот только наука на том и кончилась. Что можно изучать, если нет объективных законов?
Так что никто нам будущее не гарантировал. По тому месту, которое в нашей жизни занимает государство, по тем надеждам, которые с ним связывают все, по количеству писем президенту, по тому не различению национальных и правительственных задач мы все — подданные государства и, стало быть, рискуем пойти по китайскому пути к какому-то роду авторитаризма, иерархии и упорядочению жизни не на основе уважения к личным правам, а к коллективным фетишам. Атакой порядок бесполезен, он вызывает только вечные попытки перевернуть пирамиду — история такими потрясениями и заполнена. Современные российские люди в массе — государственные младенцы. Конечно, ученое сословие взрослей остальных и честнее хотя бы. Оно хранит некоторые традиции, культивирует многие отделы знания. В стране много ученых специалистов. Недаром первое, что бросился спасать и продолжает еще спасать сейчас Запад, — это сумма разума, ученые профессионалы нашей страны.
Но и они — если не младенцы, то государственные юноши. Они борются за уравнение их, бедных бюджетников, с государственными служащими по зарплате и пенсиям, считают научные организации не национальными, а государственными — с теми следствиями, которые описаны выше и которые не замедлят проявиться.
[1] Организация науки в социалистических странах / Отв. ред. Бромлей Ю. В.М., 1986.
[2] Лорен Грехем. Очерки истории русской и советской науки / Пер. с англ. М., 1998. С. 192.
[3] Зубова Л. Г. Профессиональная деятельность российских ученых: ценности и мотивации // Вестник РАН. 1998. Т. 68. № 9. С. 775–789.
[4] Во всяком случае, такой вывод напрашивается из новых исследований; тема «Ньютон — теолог и еретик» только сейчас начала развиваться, становясь поистине сенсационной. См. :Дмитриев И. Неизвестный Ньютон. СПб., 2000.
[5] Этот подъем духа является кульминацией биографии ученого: Аксенов Г. Вернадский. Серия ЖЗЛ. 1000-й вып. М.: Молодая гвардия, 2001.
