Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Что завтра:фундаментализм или солидарность.
Энтони Гидденс, директор Лондонской школы экономики
(London School of Economics), отвечает на вопросы
социологов Светланы Баньковской и Александра Филиппова.
С. Б. Как Вам видится пространство России в контексте глобализации, о которой Вы так много и глубоко писали?
Э. Г. Прежде всего хочу заметить, что я не эксперт по России, поэтому не могу судить с точки зрения конкретного знания о российском обществе. Но у России, несомненно, есть свое особое место в глобальном порядке, отчасти потому, что у нее специфическая история, отчасти — потому, что она обладает большим количеством вооружений. Поэтому всем нужно по-особому прислушиваться к мнению России, понимая ее отличие от других стран, сопоставимых с нею по размерам.
Определенно, это важная особенность включения России в более широкое глобальное общество, и многое зависит от того, что будет делать Россия в нынешних обстоятельствах. Но структурно мы живем в таком мире, где ни одно общество не может изолироваться от остальных, ни одна страна не может оставаться самодостаточной в своей идентичности. И Россия должна пересмотреть свою идентичность более широко, как это делают все страны. Это относится и к культуре, и к экономике, и к другим сферам. Мы движемся к сотрудничеству, от которого зависит будущее каждой страны. Поэтому я приветствую все, что вовлекает Россию в более тесное сотрудничество с другими странами в Европе и в мире. Шаги, предпринятые Россией для вступления в ВТО, например, сделаны в правильном направлении.
Мне представляется весьма желательной тесная связь Европы и России. Европейское сообщество — это рынок для остального мира, в силу некоторых обстоятельств, о которых я говорил в своей лекции. Европейский союз — это транснациональная организация, но он не строился как ассоциация государств. Между ООН и ЕС есть разница, поскольку ООН — это организация суверенных государств, а ЕС — это организация государств, которые отказались от полного суверенитета для того, чтобы создать нечто, отличное от просто международной ассоциации. То же самое должно произойти и в других частях мира. Маловероятно, что Россия может стать членом ЕС, но есть люди, которые допускают такое развитие событий. Во многом это зависит от того, как будет эволюционировать Европейский союз и какого рода система в нем сложится через десять лет.
С. Б. В России об этом тоже много предположений. Если продолжить эту тему возрастающей свободы (в том числе и свободы ограничивать свою суверенность) как следствия глобализации, то, видимо, это означает и большую свободу не только для отдельных социальных институтов, таких как государства, но и для индивидов. Большая свобода — это большая свобода выбора. А что происходит с критериями этого выбора, увеличивается ли соответственно и их число?
Э. Г. Должен сказать, что между глобализацией и демократией существует определенная связь. Она достаточно легко прослеживается: за период, который я называю веком глобализации (примерно последние тридцать лет), количество демократических государств в мире увеличилось почти в четыре раза, как отмечает большинство политологов. Это при самом узком определении демократии. В соответствии с его строгими критериями (например, что такое хорошо функционирующая многопартийная система), Россия не попадает в число этих государств. Множество стран, которые подобно России заметно демократизируются, тесно связаны с демократическими странами, поскольку мы являемся свидетелями становления глобального информационного общества, вне которого не может оставаться никто.
Независимо от того, богаты вы или бедны и в какой части мира вы находитесь, вы уже совсем иначе представляете себе тех, кто вами правит в мире, чем это делали предшествующие поколения. И чем больше развивается информационное общество, тем больше граждане задаются разными вопросами относительно властей и относительно прошлого своей страны. Приведу пример: если раньше те, кто более или менее автоматически поддерживали ту или иную партию справа или слева, обычно составляли около 75 процентов, то сегодня число таких избирателей снизилось до 20 процентов. Я вижу в этом определенную связь с открытой информационной системой, которая, безусловно, влияет и на индивидуальную свободу. Но точно так же эта система связана и с новыми проблемами, поскольку даже в развитых демократических странах действующая демократия сталкивается с множеством проблем и трудностей.
Пришествие информационного общества означает также и возрастание роли средств массовой информации. Они имеют двойственное отношение к демократии, поскольку широкое распространение СМИ дает нам больше возможностей для общественной дискуссии и обсуждения проблем в принципе, но на практике мы имеем монополии в сфере СМИ, создающие истории ради историй вместо серьезного обсуждения проблем. В публичное пространство, созданное СМИ, вторгаются и другие разного рода влияния, вроде давления на СМИ со стороны правительства. Даже если пресса совершенно свободна, эти сложности в ее отношениях с демократией по-прежнему остаются, и задача социологов — попытаться их исследовать. Пресса является гораздо более существенной силой в современном обществе, нежели это традиционно признается социологами и другими обществоведами. И это созидательная сила. СМИ не просто сообщают о том, что происходит в мире, они фактически выстраивают мир таким, каков он есть сегодня. Однако зачастую эта сила безответственна.
С. Б. Но достаточно ли одной лишь информации (даже равномерно распределенной) для создания нового типа солидарности в мире?
Э. Г. Чтобы создать более сплоченный, более космополитичный мир, нужно делать много конкретного, мало просто иметь множество источников информации. Нужно, например, укреплять международное право. От него будет зависеть, как станет развиваться глобальное космополитическое общество. И здесь происходят значительные изменения. Тот факт, например, что американцы не подписали соглашение о международном уголовном суде, будет препятствовать развитию этого права. Тем не менее, другие страны подписали это соглашение, и международный уголовный суд будет развиваться. Нам нужно действенное международное право, поскольку оно является условием существования более широкой системы, внутри которой могут процветать разнообразные культуры, а также могут быть защищены различные категории граждан. Нужно такое международное право, которое защищало бы не только права детей, но уделяло бы все больше внимания правам трудящихся и условиям труда в мировой экономике.

Для этого нужны особые институты, а не просто большой объем информации, добрая воля и расположение к другим людям. Нужны крепкие международные структуры, стабильно институционализированные, и мы должны построить эти институты. Глобализация — это реальность, открытая для создания множества организаций, которые делают для нас этот мир возможным, так что нужно особое время и особое место, чтобы определить, сколько организаций глобального уровня нам необходимо иметь. До конца XIX века, например, в мире не существовало единой системы временных поясов. Так что невозможно было, путешествуя вокруг света, рассчитать, в какое именно время ты окажешься в том или ином месте. Все эти атрибуты нормальной организации представляют огромную инфраструктуру глобального общества, которое уже существует, независимо от нашего желания, но с которым можно работать.
С. Б. Что касается космополитизма глобального общества, мирового гражданства и проч. Мне вспоминается утверждение философа Ричарда Рорти, который противопоставлял мультикультурализм и плюрализм в современном глобальном обществе. Можно ли сказать, что сегодня доминирует тип многокультурного общества с пресловутым affirmative action?
Э. Г. Я предпочитаю термин «космополитизм» термину «мультикультурализм», поскольку «мультикультурализм» предполагает — в том смысле, в каком его преимущественно употребляют — бесконечное размножение местных культур, или местной автономии, или культурных идентичностей. И внутри отдельного общества, и в международном плане нужно иметь систему общих принципов, без которых невозможно примирить общность интересов и культурные различия. Я уже упоминал в качестве примера международное право как одну из структур, строящихся на таких общих принципах, которые в определенных обстоятельствах должны быть поставлены выше культурной идентичности. Так, например, в некоей культуре может существовать обычай, определенно наносящий вред детям; к этому нельзя относиться спокойно только потому, что это часть этой культуры; должны существовать более широкие, универсальные правила для преодоления этого. Поэтому для меня космополитизм — это лучший, более эффективный принцип, нежели разговоры о мультикультурализме.
Сегодня идет борьба между, по сути, различными формами фундаментализма и бережным сохранением принципа космополитизма. Фундаментализм этот не обязательно религиозный. Фундаментализм заключается не в том, во что вы верите, но в том, как вы верите в это и как вы относитесь к другим людям, верующим иначе. Поэтому, конечно, может быть религиозный фундаментализм, но может быть и этнический, и националистический, и т. д. Я определяю фундаменталиста как человека, который в принципе отказывается вступать в диалог, кто считает свой образ жизни совершенным и достойным, а чужой — сравнительно низшим и недостойным. Это очень опасно: чем больше нам приходится жить в мире, где необходимо уживаться с людьми, которые на нас непохожи, тем опаснее становится этот принцип.
Но одно вытекает из другого: фундаментализм — это продукт современности, поскольку он не просто защищает традицию, но акцентирует, упрощает ее, подавая в средствах массовой информации. Фундаменталисты были первыми, кто использовал средства массовой информации для пропаганды своих идей. Именно христианские фундаменталисты в США впервые использовали телевидение как средство пропаганды того, во что они верили, а после них уже исламские фундаменталисты стали использовать Интернет и другие современные технологии для осуществления своих целей. Мы опять говорим здесь о феномене глобального века: фундаментализм — это совсем не то, что традиционный фанатизм; по-моему, это реакция на возможность более космополитичного социального союза.
С. Б. Можно ли этот глобальный космополитизм трактовать по аналогии с тем, что происходит в политике, где национальные государства отказываются от части своего суверенитета для некоего объединения? Означает ли космополитизм в культурном отношении отказ от какой-то части национальной, культурной специфики?
Э. Г. Необходимо признать, что почти все страны включают в себя ряд различных культур. В мире никогда не существовало ни одного гомогенного национального государства.
С. Б. Но ведь национальная идентичность не ощущается непосредственно как нечто сложносоставное. Националист чувствует себя «единым целым», принадлежащим «единому целому».
Э. Г. Да, большинство существующих государств построены на основе множества культурных различий тех регионов, из которых составлены эти страны. Есть лишь немногие исключения. Иногда эти культуры исчезали, а иногда возрождались. Поэтому гомогенных государств совсем мало. А это значит, что любое национальное сообщество, большое или маленькое, должно иметь определенные высшие космополитические демократические принципы, в рамках которых необходимо пытаться примирить культурные и региональные различия. Я лично вовсе не сторонник бесконечной фрагментации государств. Например, в моей стране я отнюдь не поддерживаю шотландский национализм, потому что считаю, что для Великобритании лучше быть космополитичным государством, способным примирить различные этносы в рамках общей структуры, нежели мириться с бесконечным отделением мелких предположительно этнически целостных и гомогенных мини-государств. Даже если Шотландия стала бы независимой, в ней уже есть партия горцев со своей особой для Шотландии культурной спецификой. Поэтому нельзя полагаться на политику идентичности, необходимо сказать, что эта политика может быть только фрагментарной, ограниченной. Поэтому надо иметь верховные принципы конституционного закона и демократического процесса принятия решений на уровне государства, а также и над этим уровнем. Это необходимо, и я не думаю, что будет демократично просто признать первичность политики идентичности.
С. Б. Не означает ли это, что нам следует обратиться от национальной идентичности к идентичности гражданской, поскольку совпадение границ политического и культурного было условием образования национальных государств?
Э. Г. То, о чем я говорю, и есть гражданский принцип солидарности. Европейская гражданская идентичность подразумевает конституционные принципы, о которых я говорил. Именно это и есть гражданская идентичность. И она совершенно необходима. Полагаю, что слишком сильный упор на политику даже опасен. Вопрос состоит в том, чтобы найти ее пределы. Я не думаю, что можно прийти к окончательному решению этого вопроса, потому что напряжение между культурной идентичностью и более общими принципами права, от которых зависит существование общества, всегда было и останется впредь. Так, например, большинство людей осудили бы, несмотря на культурную традицию, женское обрезание, нанесение увечий женщине. Но есть и другие случаи, не столь очевидные. В Британии, например, это случай с сикхами (это индусы, которые носят тюрбаны): должны ли они обязательно, как этого требует всеобщий закон, во время езды на мотоцикле надевать защитный шлем? Они считают ношение тюрбана частью своей религиозной идентичности. Нам всегда придется сталкиваться с проблемами, которые не имеют простого решения с помощью какого-нибудь одного принципа. Всегда будут возникать пограничные ситуации, где эти случаи должны будут разрешаться строго по закону. В случае с сикхами было, кажется, решено, что они все-таки должны надевать шлемы и оставить свои тюрбаны (для езды на мотоцикле). Это два разных принципа, поэтому на этих границах всегда будут столкновения, и следует научиться жить среди этих столкновений, не позволяя им стать источником насилия или сегрегации в обществе. По-моему, нежелательно способствовать культурному обособлению. Важно, чтобы у каждого было определенное общее образование и мировоззрение. Но решить, где именно провести границы, — это всегда будет трудно.
С. Б. Можно ли тогда говорить о том, что маргинализация становится источником космополитизма?
Э. Г. Не в том смысле, в каком вы ее изучаете в социологии, это нечто иное. Это вопрос примирения — где провести четкую границу между политикой культурной идентичности и более общими социальными нормами. Я говорю только, что всегда будут столкновения по краям и что они не обязательно должны быть разрушительными, но их надо разрешать с помощью закона. Там, где невозможно принять простое принципиальное решение, следует поступать в соответствии с законом. И таких случаев — множество. И именно эти два принципа мы и пытаемся примирить в самых разных контекстах. То, против чего я решительно выступаю, — это против положения о том, что политика идентичности должна быть превыше всего. Я думаю, что это и невозможно, и нежелательно. Должен существовать предел, грань, за которой вы должны отказаться от какой-то черты своей культурной идентичности, если вы хотите оставаться членом определенного более широкого сообщества, и этот отказ должен быть закреплен законодательно.
С. Б. Говоря социологически, является ли эта политика идентичности сознательной деятельностью или она интерпретируется как констелляция?
Э. Г. Политика идентичности обычно означает сознательную деятельность тех групп, которые представляют определенное культурное сообщество и стремятся к достижению его целей или развивают его особую культуру. В прошлом многие либералы полагали, что политика идентичности — это наивысшая форма либерализма. Но это не так, в силу тех причин, о которых я упоминал. Должны существовать более универсальные принципы, делающие возможными культурные различия. Что до политики идентичности, она действует дезинтегрирующе на общество в более широком смысле и даже на весь мир.
А. Ф. Это очень хорошая формула, но я слишком хорошо знаю, что для меня значит быть российским гражданином, и не понимаю, что для меня значит быть, так сказать, гражданином мира. Это не просто проблема границ или получения информации со всего мира. Я знаю, что как российский гражданин здесь в России, даже в России, я имею некоторые права, которых у меня нет как у гражданина мира. Я имею некоторые права на социальную поддержку. И я знаю, что для многих людей из бывшего Советского Союза значит быть или стать российским гражданином. Для них это значит иметь или получить некоторые права на социальную поддержку. И я знаю, что для многих западных стран значит признавать суверенитет моего государства. Это значит, что это государство имеет не столь много прав на свою территорию, скажем, на «умиротворение» своей территории, но зато имеет некоторые обязанности поддерживать своих граждан и удерживать их в этих границах, чтобы не давать им, так сказать, свободы путешествовать в мировое общество и предъявлять свои требования если не мировому правительству, которого у нас пока нет, то отдельным правительствам формально суверенных европейских или американских государств.

Э. Г. Да, гражданство все еще является делом прежде всего конституированных политических сообществ в мире, а не конституированным политическим сообществом, это совершенно точно. С другой стороны, если вы посмотрите за пределы России, на остальной мир, вы заметите много интересного. Я, например, и англичанин, и британец, и европеец, и я считаю, что все это не просто совместимо, но и взаимно дополняет друг друга. И у меня есть права и обязанности в каждой из этих областей. У меня есть права по европейским законам, включая некоторые экономические права. И нет ни малейшего сомнения в том, что мы продвигаемся к системе, которую политологи называют «многослойное управление». В нем есть различные правительственные уровни, и на каждом из этих правительственных уровней сочетаются разные права и обязанности, по крайней мере в принципе; вы можете отказаться уважать их, но… Поэтому в некоторых своих аспектах гражданство — это уже не просто феномен, указывающий на принадлежность к целостному национальному государству. Оно становится гораздо сложнее. И хотя не существует мирового гражданства, все же у вас есть права по международным законам. Возможно, эти права не так много значат для вас, и вы можете сказать: «Конечно, совсем другое дело жить в обществе, где существует правовая система, способная сделать эти права значимыми, каковы бы они ни были». Но мы продвигаемся к такому положению в мире, где эти права можно будет сделать значимыми, и я приветствую дальнейшее движение в этом направлении. Поэтому весьма показательны судебные дела вроде дела Милошевича, поскольку они потенциально очень важны для активизации роли судов в отношении определенных человеческих принципов, стоящих вне суверенитетов и государств. И хотя этот процесс будет проходить весьма проблематично, в определенном смысле вполне можно сказать, что некоторые аспекты глобального или формирующегося международного права приобретают оттенок гражданских прав. Но гражданские права имеют значение только тогда, когда существует их гарант, действующая сила, которая их обеспечивает. В действительности таких гарантов нет в международной сфере. Ситуация с правами и обязанностями в мире сегодня довольно сложная.
А. Ф. Позволю себе обратиться к понятию «локала», представленному Вами в Ваших работах о времени-пространстве. У меня возникло два вопроса относительно этого понятия: во-первых, можно ли использовать это понятие для Вашего нынешнего анализа мирового общества; и если можно, то не является ли мировое общество «локалом» в некотором смысле (и в каком)?
Э. Г. Нет, не думаю, что это возможно. Когда я употреблял термин «локал», я подразумевал конкретные концепции, в которых реализуются события или разворачивается жизнь. Очевидно, что этот термин обозначает такие понятия, как «город», или «соседская община», или «сообщество». Вряд ли его можно употребить по отношению к глобальной среде, но очевидно, что многие результаты глобализации, как бы вы ее ни определяли, проявляются на локальном уровне. Эти результаты переживаются вполне конкретно в тех или иных аспектах жизни человека, а не где-то там, далеко. Например, говоря о глобализации, многие подразумевают некую воздействующую на нас внешнюю силу. Но ведь то, что мы сами делаем, является вкладом в глобализацию: каждый раз, включая компьютер, вы способствуете процессу глобализации. Мы постоянно сталкиваемся с этими достаточно интересными отношениями между конкретными локалами, или окружениями, и внешними силами, которые мы используем в наших действиях и которые до некоторой степени изменяют нас, когда мы с ними имеем дело. А мы имеем дело с ними скорее активно, нежели пассивно, и не обязательно защищаясь от них.
А. Ф. Я вижу здесь проблему. Если имеется некоторое количество локалов, количество мест, территорий, то они должны составить вместе другую большую территорию. Просто большую территорию.
Э. Г. Локал был просто термин для обозначения важных концепций, в рамках которых нечто происходит и которые друг с другом взаимосвязаны. Так, возьмем, к примеру, глобальный город; глобальный город — это особый тип локала, если рассматривать его с точки зрения более широкой мировой экономики. Однако очевидно, что он никогда не прерывает своих отношений с другими регионами и со страной, частью которых он является. Поэтому мы всегда имеем дело с накладывающимися друг на друга отношениями. Локал — это нечто, что всегда зависит от предмета вашего исследования, аспекта вашего исследования. И если вы изучаете города, например роль финансового сообщества, скажем, в Лондоне, если вы рассматриваете специфический аспект его функционирования, то обнаружите в этом весьма интересный локальный аспект, поскольку Лондонский Сити — это общая электронная система. Фактически все выглядит так: в Сити площадью одна квадратная миля в разных углах зданий сидят люди и обмениваются при помощи компьютеров жизненно важной информацией, находясь в электронной системе, а вся система работает благодаря целому ряду личных отношений. Некоторые из этих людей, безусловно, страдают гендерной предвзятостью, поэтому женщинам очень трудно занять ключевые позиции в Сити по причине бытовой маскулинности этой системы. Вот что я имел в виду, говоря о локале. Надо изучать, как эти вещи воплощаются в конкретных концепциях, чтобы понять, как работает более общая система. И если вы увидели Сити как просто электронную систему, как, например, финансовые рынки, которые не локализованы, не закреплены за определенным местом, то вы совершенно ошибаетесь.
А. Ф. Тогда, возможно, локализация — это локализация сетей, или потоков?
Э. Г. Да, абсолютно все, что происходит, делается людьми, совершающими поступки в конкретных местах. Этот момент всегда присутствует. Если вы забудете об этом, то вы сможете создать только нечто абстрактное.
А. Ф. Но что мы наблюдаем? То, что люди производят нечто, и это нечто есть мировое общество? Но мы не наблюдаем мирового общества, мы не наблюдаем его большой территории или карты; оно — всего лишь наша конструкция. Это конструкция, или картина, некоторой сложной взаимосвязи всего со всем в мире. Такова ли картина мирового общества? Уместно ли в этом контексте само понятие «общества»?
Э. Г. В целом уместно, коль скоро вы осознаете, что оно употребляется очень вольно и не означает то же самое, что и общество какой-либо страны, потому что их нельзя охарактеризовать одинаково. Но, безусловно, можно показать, что существуют взаимоотношения между привычными вещами и тем, что мы делаем с большим временем и пространством. И это удивительно. Вот сейчас я просто поднял трубку и позвонил в Англию, и это замечательно. Я могу пользоваться своей кредитной карточкой во многих московских заведениях, и это замечательно. Совершенно определенно можно сказать, что в этом есть нечто, чего не было раньше, нечто радикально транснациональное, больше, чем просто международное, что делает возможным наш сегодняшний образ жизни. Эта транснациональность делает возможной и нашу локальную жизнь в той же мере, в какой наша локальная жизнь делает возможной транснациональность. Это то, что я когда-то называл «теорией структурации».
С. Б. Я попробую задать совсем простой вопрос по поводу этих ускоряющихся процессов в большом времени и пространстве.
Э. Г. Давайте, если Вас устроит совсем простой ответ.
С. Б. Ведь эти процессы ускоряются, распространяются и нарастают в физически ограниченном мире. Глобус не «растягивается» соответственно прогрессу глобализации, скорости виртуальных глобальных потоков, информационных потоков и т. д. Наступит ли «конец фронтира» для глобализации?
Э. Г. Да, действительно, в том смысле, что фронтир — это природный фронтир, фронтир окружающей среды. Вопросы ограниченности ресурсов на Земле — хотя экологические вопросы не исчерпываются одними ресурсами — безусловно, здесь есть очевидный фронтир. Есть и другие экологические фронтиры.
С. Б. А размножение различного рода суверенных, независимых единиц, которые должны быть локализованы, иметь территорию, имеет ли пределы?
Э. Г. Я полностью согласен, мир — ограниченное место, поэтому продолжать все это бесконечно невозможно. Все эти процессы, как я сказал, глубоко контекстуализированы, что налагает ограничения на то, что возможно. Тем не менее можно увидеть, что мир сегодня совсем не такой, как два-три десятка лет назад, и нужно ли употреблять термин «глобализация»? То, что под этим словом подразумевается, весьма существенно и составляет все эти перемены. Когда начинаешь их подробно рассматривать, вскрываются интересные вещи. Даже если взять такую тривиальную вещь, как академическая жизнь. Несколько лет тому назад, путешествуя по миру и обсуждая с учеными людьми свою последнюю книгу, я мог преподносить ее как новость. Теперь этого не проходит, они знают о ней все еще до того, как вы ее написали. Можно отправиться в Пекин или куда-нибудь еще, и люди там знают примерно то же, что и ты. Нет больше резких различий в уровне информированности по глобальным вопросам. Но все эти замечательные изменения локализованы и контекстуализированы, и все они порождают свои противоположности, поэтому не может быть одностороннего движения к более интегрированному миру, это ясно. Существуют самые разные виды неравенства, конфликтов и расхождений, которые являются частью этого широко распространяющегося процесса. Поэтому не образуется никакого мирового единства, ничего наподобие мирового правительства.
С. Б. Можно говорить о мировой глобальной конкуренции?
Э. Г. Да, пожалуй, можно. Но не стоит забывать и о сотрудничестве. Конкуренция и сотрудничество всегда идут бок о бок. Это мое наблюдение. LSE, например, соревнуется с другими университетами, но и сотрудничает с ними по всему миру. Так обстоят дела и в бизнесе, и между государствами.
А. Ф. За всеми Вашими концепциями всегда ощущается личный опыт. Мы всегда пытаемся концептуализировать картину мира в соответствии со своим опытом, до некоторой степени. Мне кажется, что Ваше представление, или картина, социального мира, если не умиротворенное и удовлетворенное…
С. Б. …то гармонизированное.
А. Ф. Да, гармонизированное. Это мир, который становится все лучше и лучше. Не является ли это новой верой в прогресс? Хочу только привести пример Бруно Латура из его книги “We have never been Modern”. Он говорит, что мы связаны со многими другими людьми в мире; я, например, могу смотреть новости CNN, но для этого мне нужна масса вещей — принимающее устройство, подписка, карточка оплаты и что-нибудь еще. Только тогда я получаю связь и могу войти в сеть. Наш мир — это мир связей, мир сетей, но куда эти связи простираются? Гармоничен ли тот мир, куда они ведут? Мы представляем себе этот мир гармонизированных, прогрессивных, интересных и проч. сетей, но не говорим о том, что окружает эти сети, об их среде, о том, что они опутывают, о том, возможно, негармоничном, страшном мире.
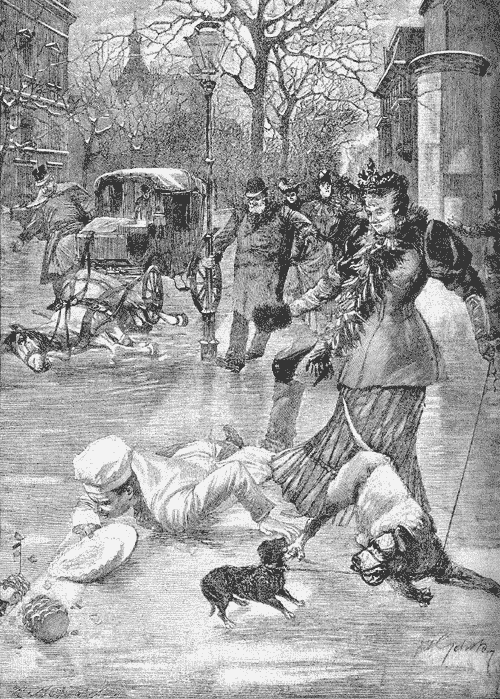
Э. Г. Это не единственный способ представления мира. Потому что, следует признать, мы уже не можем смотреть на мир глазами эпохи Просвещения, равно как нам, по-моему, не следует поддаваться постмодернизму. Оказывается, что просвещенческая идея о том, что чем больше знаний о мире мы приобретаем, тем большими будут наши технологические достижения в мире, гораздо более совместима с человеческими интересами и ценностями, или с более гармоничным миром.
Одна из причин этого весьма интересна. Не то чтобы мы до сих пор не знали очень многого об этом мире. Но дело еще и в том, что сегодня вся разнообразная деятельность, основывающаяся на информации, по природе своей рефлексивна. Поскольку имеющееся у нас знание о мире на самом деле часто воздействует на мир слишком непредсказуемым образом, чтобы предсказуемо изменить его, то и само производство знания может попутно производить и новые неопределенности, и некоторые опасности сегодня гораздо страшнее прежних. Это относится к экологическим рискам, например. В своей последней книге — «Сбежавший мир» (The Runaway World) — я как раз и говорю о том, что некоторые процессы ушли из-под нашего контроля. И по большей части это дело наших рук. В прошлом, например, природа сама по себе несла риски для человека. Сегодня же большим представляется риск человеческого вторжения в природу, в результате чего сформировалась некая искусственная отчасти технологическая система, в которой природа — уже и не природа, и мы даже не знаем, до какой степени это уже не природа. К примеру, наводнения в Китае пару лет тому назад были обусловлены естественными причинами или нет? Мы точно не знаем. Мы не знаем толком ничего о всемирном потеплении. Существует множество других факторов риска, и как социолог я думаю, что следует сосредоточиться на их критическом анализе, а не пускаться в обобщения.
Вряд ли нам когда-либо удастся ответить на вопрос, становится ли мир лучше или хуже. Но мы можем сказать, что возникают факторы риска, не поддающиеся оценкам по старым критериям. Так, если вы садитесь в машину, то можно просчитать существующий здесь риск попадания в аварию, поскольку существует соответствующий статистический материал. Однако этого нельзя сделать в отношении всемирного потепления, генетически измененных продуктов, генной инженерии, поскольку у нас нет представлений об этом риске, соответственно их нельзя прогнозировать. Поэтому зачастую приходится моделировать эти риски, чтобы предотвратить их. И таких ситуаций очень много. Они созданы нами самими, и в этом наше отличие от прошлых эпох. Эти риски возникли в результате мощного человеческого вторжения и в нашу собственную историю, и в природу. Все это оказывает влияние на очень многое в нашей повседневной жизни, и лично для меня это представляется особенно интересным.
Наша повседневность также меняется. Раньше, например, женщина занимала вполне определенное место в мире. А для мужчин их жизнь во многом определялась так называемой судьбой. Теперь это уже не так. Сегодня вам самим нужно активно выстраивать свою жизнь. Цвет ваших волос — это ваше решение; выбор рода занятий — ваше же решение. Сейчас очень многое приходится решать самим, в том числе для женщин, например, иметь или не иметь детей. А это значит, что вы должны рассуждать в понятиях риска и неопределенности, что уже стало частью нашего сознания и личности. Это отличается от прошлых времен, когда большинство рисков и неопределенностей были связаны с внешним миром и влияли на жизнь человека извне.
В связи с этим возникает множество действительно интересных проблем социологического и эмоционального плана. Тот факт, что сегодня процесс самоидентификации значительно облегчен, во многом определяется глобализацией. Даже в так называемых традиционных культурах остается все меньше традиционного, в традиционном смысле этого слова. Во всем мире люди с все большей готовностью принимают будущее как открытую неопределенность. А как только вы начинаете думать о своем будущем, вы вынуждены думать о нем в понятиях риска. Это более или менее неизбежно, вы вынуждены просчитывать свое будущее. В прошлом, например, вы вступали в брак, и брак при этом рассматривался как стабильное состояние. Сегодня брак — это процесс вычисления, потому что люди знают, что 50 процентов вступивших в брак разводятся. Это больше не естественное состояние, как раньше. Тем самым открывается весьма значимый для эмоционального и личностного опыта круг проблем, тяжело переживаемых эмоционально, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, страдаем от них, но в то же время и извлекаем пользу из этих изменений. Увеличение неопределенности, числа рисков, менее стабильная среда, переосмысление прошлого — все это напрямую относится к личной жизни.
С. Б. А как насчет «защитного кокона», уберегающего от рисков?
Э. Г. Всем в жизни нужна определенная стабильность. В некоторой степени ее теперь все больше нужно создавать самим, по сравнению с прошлыми временами, когда единственным способом ее создания была привычка. В прошлом привычки были традиционными, но сегодня они все больше индивидуализируются в соответствии со стилем жизни. Я не могу знать, что вы едите на завтрак, но знаю, что вам приходится выбирать из множества существующих сегодня продуктов. Больше не существует определенного местного рациона. От вашего выбора зависит, кто вы и как выглядите. Сегодня все придерживаются какой-нибудь диеты, не в том смысле, что все стремятся похудеть, а в том, что каждый должен активно относиться к пище, которую он ест, к медицинским знаниям, диетным предписаниям, следить за своим телом и за тем, кто ты, как выглядишь. От этого нельзя отмахнуться, но это может принимать и патологические формы навязчивых идей. Один из способов преодолеть тревогу потери безопасности — через реализацию навязчивых идей. Так, например, оздоровительные диеты и вредные привычки очень тесно связаны с подобными видами свободы. Привычка к определенной пище, к работе, к лекарствам и другие склонности дают чувство стабильности в жизни, но это не та стабильность, которой вы хозяин. Большинство людей пристрастно относятся ко многим сторонам их жизни. Что касается меня, то моя привычка — работа; я никак не мог за всю свою жизнь отказаться от пристрастия к работе, в особенности — к творческой работе. У каждого есть свои пристрастия в жизни, во многом потому, что к ним относятся как к традиции; то, что вы делали вчера, становится основой для того, что вы делаете сегодня и будете делать завтра…
А. Ф. Все знают Вас как выдающегося социолога. А сегодня Вы предпочитаете себя отождествлять с социологией или все-таки с политической наукой?
Э. Г. Нет, сегодня я преимущественно «аппаратчик». В том смысле, что я руковожу весьма большой организацией, и это занимает значительную часть моей жизни…
А. Ф. Каждый век имеет свою социальную науку. Это не всегда социология, на первый план может выступать политическая философия, социальная философия и проч. Видите ли Вы будущее для социологии?
С. Б. …как академической науки?
А. Ф. …как науки со своей классикой, своими методами обучения и т. д.?
Э. Г. Нельзя не видеть будущего у социологии, однако надо понимать, что многое изменилось. Следует иметь в виду, что у социологии есть собственное, изобретенное ей самой прошлое, однако не следует придавать этому мистическое значение, поскольку большинство так называемых отцов-основателей социологии социологами не были. Следует ли нам отстаивать нечто вроде целостной науки — это вопрос. В социологии произошла фрагментация ее предмета, и это в какой-то степени здоровое явление, а в какой-то — и нездоровое… Конечно, в Великобритании, и уж во всяком случае в США, очень многие ученые, которые сегодня занимаются гендерными исследованиями, изучением СМИ и культуры, даже бизнесом и менеджментом, когда-то учились на социологических факультетах. Поэтому можно сказать, что эта дисциплина стала очень фрагментированной, но все же я вижу ее многообещающее будущее; поскольку никак нельзя обойтись без размышлений о нынешнем состоянии и о будущем нашего мира, именно этим мы и должны заниматься. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее социологии.
