Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».
Уважаемые читатели и авторы.
Пир
Слово «пир» сразу вызывает в памяти великий платоновский диалог с участием жрицы Диотимы. Поэтому, не претендуя на высокохудожественность и на равную глубину мысли, рискну обсудить проблематику пира в подобного же рода диалоге[1].
Аристодем. Итак, друзья, мы собрались здесь, давно не видавшие друг друга, и, пока не пришли приглашенные нами флейтистки, давайте обсудим, чего мы ожидаем от нашего собрания, и зачем вообще заведен у людей такой обычай — собираться за пиршественным столом. Что, казалось бы, проще — посидели в тени оливкового дерева, посмотрели друг на друга, поговорили о нужном и разошлись по своим делам. Но нет — мы занимаем свои ложа, мальчики приносят вино, флейтистки услаждают слух игрой на инструментах и мелодичным пением — лишь только тогда завязывается глубокая, достойная мужей беседа…
Меандр. Это я сумею разъяснить, Аристодем. Но это длинная история. Давным-давно, в позабытые уже времена, когда люди ходили в звериных шкурах и жили не в высоких домах, как мы, а в шалашах из веток или горных пещерах, на всякое важное дело, а вперед всего на охоту, им приходилось ходить вместе. Не потому, может быть, что они так уж любили друг друга, что друг без друга жить не могли, а потому, что большого и опасного зверя было невозможно добыть в одиночку. Люди мчались по следу зверя, как стая волков, преследующих оленя. Одни загоняли зверя, другие его сражали. А потом, омыв лица и залечив полученные раны, — если зверь был опасен и отбивался, спасая свою жизнь, — сходились пировать и делить добычу. Вообрази себе, Аристодем, как веселились уцелевшие в этом опасном предприятии, как они любили друг друга и радовались друг другу, с успехом миновав опасность. С тех стародавних пор и пошел обычай пиршественной трапезы, и с тех пор люди начали радоваться друг другу уже только потому, что все живы и все вместе за трапезой. Вот и мы все, собираясь на пиршество, чувствуем себя как стая после удачной охоты[2].
Аристодем. Давненько я не охотился, Меандр, и не загонял с друзьями легконогого оленя. Но все равно картина, сколь ни искусно нарисована тобой, не кажется мне верной. Ведь что делает стая, добыв зверя? Набрасывается и раздирает его, удовлетворяя животную жадность. А мы возлежим упорядоченно и спокойно, никто не рвет друг у друга кусков изо рта, никто не налегает на вино сверх меры. Говорим, не перебивая друг друга, со вниманием выслушивая аргументы. Уж очень это не похоже на делящую добычу стаю!
Меандр. Стая людей — не звериная стая, Аристодем. Да и у животных, как рассказывают опытные охотники и умудренные знанием наблюдатели природы, дележ добычи — вовсе не драка вокруг кусков. Волки, добывшие оленя, не бросаются рвать куски друг у друга. Пока вожак стаи не вонзит зубы в свою долю, ни один из волков не притронется к добыче. А если притронется, будет жестоко наказан. Так и у людей: был предстоятель дележа, он разрезал добычу и отделял каждому из охотников полагающуюся ему часть. Скажем, шею — тому, кто первым увидел зверя, питательную печень — тому, кто догнал и остановил его бег, сочащееся туком бедро — тому, кто нанес главный, сразивший зверя удар. Доставалось от добычи и тем, кто в охоте прямо участия не принимал — нес припасы, готовил пищу, хранил огонь дома, присматривал за малыми детьми. Каждому полагалось от добычи. И каждому своя часть и в свою очередь, как бы по закону. Если б не было этого закона, все бы в стае передрались и взаимно поубивали друг друга. Даже предстоятель дележа не мог нарушить этот закон. «Закон дележа — самый древний закон»[3].
Видишь, Аристодем, не так уж далеко и мы ушли от древней стаи. И у нас такой же строгий порядок на пиру. У каждого своя доля и свой черед есть, пить и говорить. Ты — предстоятель, хозяин нашего стола, ты начинаешь пир и руководишь им, определяешь его порядок и следишь за тем, чтобы все этот порядок соблюдали.
Сократ. Соблюдая наш пиршественный порядок, спрошу у тебя, Аристодем, разрешения сказать свое слово.
Аристодем. Говори, Сократ, твое вопрошание и твои речи одинаково хороши и в совете, и в пиру.
Сократ. Благодарю тебя за добрые слова, Аристодем. А обращусь я к Меандру. Не по возрасту мудр ты, Меандр, и прозреваешь до глубочайших корней наши легкомысленные пиры и забавы. Но не слишком ли ты скор в сравнении? Тут возлежат просвещенные мужи, а ты сравниваешь их с древними, которые одевались в звериные шкуры, не знали письма и не умели правильно принести жертву богам? Я-то думаю, что с тех пор все изменилось: мы не рвем мясо руками, а режем медным ножом, не пьем из древесных сосудов, а используем для питья и пищи треножники и кубки.
Меандр. Что я действительно прозреваю, так это твою иронию, Сократ. Не так я мудр, как начитан. И отвечу тебе словами многомудрого и знаменитого мужа Элиаса[4]. Да, все изменилось, конечно, и каждый протекающий на земле век добавлял что-нибудь новое в пиршественные и застольные обычаи людей. Еще царь данаев Агамемнон, как рассказывает старец Гомер, сам резал куски мяса для пира. Туши тельцов и овнов, предназначенных к поглощению, царили посередине пира. Еще и в XVIII веке, исчисляемом от рождения мага Христа из народа иудеев, как свидетельствует муж Элиас, доблестью царей и героев считалось уметь мастерски поделить мясо за столом. Только потом делимое мясо стали сдвигать на край стола, а затем и вовсе отправили на кухню, откуда приходить стали лишь небольшие куски, сподручные для съедения. А разрезкой, дележкой стали заниматься обыкновенные люди, названные поварами.
Но и это не все перемены. Как рассказывает Элиас, плоть и туки, идущие в пищу, стали приготовлять особо, так что они теряли присущие им от природы цвет и запах и стали походить на амброзические яства, которыми питаются боги на Олимпе. А между вкушающим ртом и вкушаемой пищей стали помещать специальные орудия из железа, называемые вилками и ложками, чтоб ни рот, ни даже руки не касались самой поедаемой плоти. Так получалось, что чем дальше пиры уходили от своего прообраза в виде стаи, насыщающейся добычей, тем дальше люди отодвигали, отделяли от себя плоть убитых ими животных.

Сократ. Поистине бездонна мудрость грядущих мужей. Но зачем они все это делали — вот вопрос. Понятно, нож — человеческие челюсти не так могучи, как у льва, чтобы сразу разорвать добычу. Да и зубы к старости выпадают, как у меня, например. А вот то, что ты назвал вилкой или ложкой — зачем это? Разве железо помогает насытиться, или придает мясу тонкий вкус? А кухня? Зачем отправлять мясо вдаль от того места, где расположились пирующие, а потом носить его обратно? Не лучше ли приготовить его прямо здесь, на пиршественном очаге? Может быть, мудрый Элиас и это все объяснил?
Меандр. Мудрый Элиас объяснил, но мне это объяснение не пришлось по душе. Я сам смотрел на людей на пирах и думал. Я так решил: люди отодвигали от себя плоть убитых животных потому, что им было страшно и они не хотели признаваться в убийстве. Они будто бы делали вид сами перед собою, что и не едят убитых. А на самом деле ели. Убивали, делили и поедали.
Аристодем. То у тебя люди, пируя, радуются, что убили зверя, то дрожат от страха от того же. Не надо быть Сократом, искушенным в уловках ума, чтобы обличить тебя в противоречии.
Меандр. Я объясню. Затруднение и противоречие здесь кажущееся. Трапеза, на которой радуются добыче, это одновременно и трапеза, на которой оплакивают потерю. Все, что случается в человеческом роде, случается совместно и нераздельно. Так уж устроили мир великие боги. В незапамятные времена, когда человеческая стая, загнав зверя, усаживалась за дележ и пир, тогдашние герои не только радовались добыче, но и страшились собственного ужасного деяния. Они отняли жизнь у своего сородича, с которым вместе жили в лесах и долинах, и от процветания и размножения которого зависели их собственные жизнь и процветание. Они причинили смерть, а значит, сами столкнулись со смертью. Кроме того, они не думали, что, убив животное, они убили его совсем и навсегда. Дух животного, думали они, сиротливо бредет за отнятым телом и, может быть, реет над трапезой, обдумывая преследование и месть. Именно поэтому они старались относиться к убитому зверю с почтением и уважением, не разбивали его кости, считая, что на них снова нарастет мясо и зверь сможет возродиться, оставляли ему самые лучшие куски и уговаривали его не сердиться. Кроме того, они не знали еще, что прародители людей — бессмертные боги-олимпийцы, и в невежестве своем полагали, что их прародители — животные. Поэтому, убив животное, которое считалось отцом их рода, они съедали его, одновременно и радуясь приобщению к предку, и страшась содеянного[5]. Так у них получалось, что радость и страх — одно.
Сократ. Аристодем прав в своем сомнении, Меандр. У великого рапсода Александра, сына Сергея, есть поэма, где могучим и звучным стихом повествуется о пире во время страшной чумы, поразившей некогда народы. Вы все, друзья, наверное, слышали эту песнь, разносимую тысячеустой молвой:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю…
Но вот ведь беда, Меандр, — описанные там славные герои, собравшиеся за пиршественным столом, не делят добычу, да и нечего им делить. Одна лишь у них мысль — как скоро сами они станут добычей — добычей неотвратимой участи и безжалостной смерти. И Ахиллес, собравший друзей после огненного погребения Патрокла, как рассказывает нам бессмертный Гомер, пировал, не радуясь добыче, которой и не было у ахеян, а одни лишь потери. Да и мы — не герои, простые эллины — имеем обычай, потеряв кого-то из дорогих и близких нам, сойтись на тризну, поминальный пир. Согласись, Меандр, не очень-то это сочетается с твоими мыслями. Ты убедительно повествовал нам, что радость добычи и потребность дележа основали в незапамятные времена обычай собираться за пиршественную трапезу, и мы тебе поверили. А люди, оказывается, поступают и наоборот: собираются на пир не только для того, чтобы торжествовать добычу, но и для того, чтобы оплакать потерю. Как же нам теперь рассуждать далее, чему верить?

Меандр. Не смею спорить с тобой, Сократ. Странный все-таки народ эти эллины. Только выяснишь про них что-нибудь уверенно и точно, зная, что так у них было, есть и будет, как вдруг выясняется, что они, оказывается, поступают еще и наоборот. Я старался показать, как получается, что люди одновременно и радуются, и боятся на пиру. А теперь вот получается, что за один и тот же стол они садятся и от радости, и от горя. Пируют, оплакивая потерю. Как же это понимать? Не знаю.
Аристодем. Слышите, как я хлопаю в ладоши? Остановите на некоторое время ваши умные речи, друзья. Пришли флейтистки, руководимые прекрасной Ольгой, которая не только благовидна и изящна, но и искушена в советах не хуже иных признанных мудрецов. Давайте спросим у нее, можно ли и как разрешить наше затруднение.
Ольга. Я попытаюсь дать свой скромный совет мудрым мужам, если вы расскажете мне, о чем идет ваш спор.
Аристодем. Юный, но искушенный в науках Меандр считает, что наш пир, как и любая совместная трапеза, есть обычай, ведущийся от древних, которые, убив добычу, радовались и пировали. Но радостный пир, венчающий погоню и убийство, в то же время полнился страхом перед жертвой — боязнью ее мести, грозящей смертью самому убийце. Поэтому, говорит Меандр, люди постарались научиться не думать о том, что едят убитого, и от этого произошла вся тонкость наших нравов и привычек. А Сократ поразил его в самую душу, отметив, что не только от радости пируют люди, но и от горя, сославшись на певца Александра, повествовавшего о пире во время чумы. Впрочем, мы и без Александра это знаем, потому что сами переживали утраты и пировали на тризнах. Вот мы и не знаем, идти нам дальше по тропе, которой повел Меандр, или вернуться к началу и искать новую дорогу.
Ольга. Раз в затруднении оказались высокоумные мужи, скажу и я свое робкое слово. Прославленный любовью к мудрости Сократ привык разделять понятия, а надо их соединить, и тогда мы найдем утерянную дорогу. Твои уста, Аристодем, произнесли уже главное слово. Это слово — тризна. Ведь и в одном случае, и в другом — тризна. Радостный пир, которым завершались погоня и убийство, одновременно оказывался тризной — тризной по зверю, наполненной страхом перед его местью, грозящей смертью самому убийце. А пир во время чумы — тризна по унесенным смертью, да и по самим себе, которым также не избегнуть участи. Так струя печали пронизывает любой наш пир, и как бы люди ни старались, забыть о смерти надолго они не в силах.
Аристодем. Так что же, хитроумная Ольга, получается так, что правы и Меандр, который рассказал нам истину, и Сократ, который ему возражал?
Ольга. Да, получается так, Аристодем. Как у серебряной драхмы две стороны и одна без другой не существует, так и у пира людей всегда две стороны, две причины — радость и страх, жизнь и смерть. Поэтому прав великий рапсод Александр: каждый пир — это радость и страх, торжество и тризна. Каждый пир — во время чумы.
Меандр. Удивительно, как то, что ты рассказала, дополняет мои мысли и укладывает все в одну стройную и гармоническую картину. Но ведь остается вопрос, который нельзя не прояснить. Скажи, Ольга, с тех пор как эти древние люди, полные нелепых суеверий, пировали, в то же время умирая от страха за собственное деяние, разве не изменилось многое, разве мы не стали ближе к познанию природы вещей! Мы можем теперь принести жертву Зевесу, поистине властвующему над бессмертными и смертными, и умолить его отвести от нас угрозу. И, если будет на то его воля, выраженная в соответствующих знамениях, неумолимая участь и жестокая смерть нас непременно минуют. Зачем же нам бояться на пиру, если мы можем таким образом отвести смерть и пировать беззаботно?
Ольга. Мы — люди, Меандр, мы едим плоть убитых, которые сами страшились смерти, и поэтому не можем пировать беззаботно. Даже если этого захотим. И чем глубже мы стремимся познавать природу вещей, тем сильней понимаем, как мы мало отличаемся от древних. Великие мужи — испытатели природы — открыли, что в животных туках и плоти, поедаемых нами, гнездятся невидимые демоны, именуемые нейропептидами. Эти самые нейропептиды как бы несут на себе все чувства, какие испытывает живое существо. Если оно радуется, в кровь выбрасываются нейропептиды радости, если пугается, — страха, если наслаждается, — наслаждения[6]. Так вот, в крови убитого животного, если оно, конечно, не убито внезапно, когда еще не успело испугаться, увидев перед собой лик неминуемой смерти, живут нейропептиды страха. Они возникают в тот момент, когда животное впадает в панический ужас перед неизбежной смертью, и продолжают существовать еще некоторое время, пока, наконец, не рассасываются сами собой в убитом теле. Их называют гормонами страха. Их порождает страх в еще живом теле жертвы, и они порождают страх в том, кто поедает это свежеубитое тело. Поэтому человек, который убивает и ест убитое, обречен на страх. Так было всегда и будет[7].
Меандр. Так что же, это проклятье, которого не избыть?
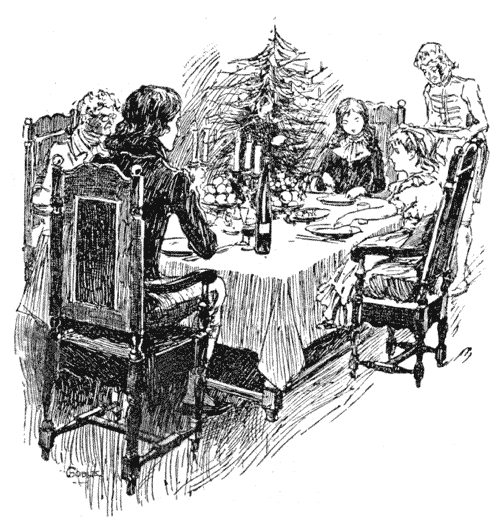
Аристодем. Не пугайся, Меандр. Есть и нам спасение от неумолимого рока. Разве ты не понял из слов любезнейшей Ольги, что эти самые нейропептиды вскорости сами по себе исчезают в убитой плоти. Надо только подождать, а еще лучше не просто ждать, пока нейропептиды уйдут сами, а провялить мясо, или сварить его в железном котле, или прожарить на хорошем огне, предварительно замариновав в ароматических травах. Нейропептиды уйдут, и страх не посетит твою душу. Главное, не есть мясо сразу и неприготовленным. Да ведь любая хозяйка так делает, сливая первый бульон с мяса, хотя и слыхом не слыхала о демонах нейропептидах.
Как же так, Меандр? Ведь ты сам только что повествовал нам о том, как люди из рода в род старались отдалять от себя мясо свежеубитых животных. Они отсылали свежее мясо все далее от своего стола и своих глаз, они изменяли его вид и вкус, подвергая тому, что мы теперь называем кулинарной обработкой, и изобретая изысканнейшие яства. Они боялись этого страха, который порождает в них свежее мясо, и по собственному наитию или по наущению богов научились от него избавляться.
Меандр. Речи достомудрой Ольги повергли меня в смятение, и я забыл соотнести то, о чем рассказывал сам, с ее внушающей благоговение вестью о демонах нейропептидах. Но выходит, что при помощи Ольги мы разрешили наше затруднение. Мы знаем, что смерть всегда присутствует в наших пирах, знаем, что ее мы боимся, и знаем, как избавиться от нашего страха. И, слава Зевсу Олимпийскому, мы можем теперь пировать и ничего не бояться?
Аристодем. Бояться всегда есть чего, Меандр. Не забывай, что всякий пир — тризна. Иначе — только у бессмертных богов! Но сейчас, друзья, давайте без страха наполним кубки и насладимся смолистым вином из Фалерна и искусством флейтисток.
[1] Эта воображаемая дискуссия сложилась на основе обсуждения темы «Семиотика пира» на одной из ночных телевизионных передач Александра Гордона с участием А. А. Андреева и автора.
[2] Концепцию происхождения пира в связи со стаей (охотящаяся стая, делящая стая и т. д.) см. в книге: Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С. 105–137.
[3] Канетти Э. Там же. С. 111.
[4] См.: Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. I. М.; СПб: Университетская книга, 2001. С. 150–198.
[5] О сложной системе мотивов, связанных с отцеубийством, см. у З. Фрейда в книге «Тотем и табу».
[6] См., например: Гомазков О. А. Нейропептиды — универсальные регуляторы // Природа. 1999. № 4; Ковальзон В. М. Стресс, сон и нейропептиды // Природа. 1999. № 5).
[7] После упомянутой выше телевизионной передачи сотрудница Института истории естествознания и техники РАН О. Ю. Елина поделилась со мной своими знаниями о возможных биохимических предпосылках страха, пробуждаемого сырым мясом. За это я ей благодарен. Разумеется, за то, что есть ошибочного в данной здесь интерпретации, она не ответственна.
